В. П. Кохановский Кохановский В. П., Лешкевнч Т. Г., Матяш Т. П., Фатхи Т. Б. К 55 Основы философии науки: Учебное пособие
| Вид материала | Учебное пособие |
- Философия для аспирантов. Кохановский В. П., Золотухина Е. В., Лешкевич Т. Г., Фатхи, 5248.44kb.
- Www i-u. Ru, 5094.81kb.
- В. П. Кохановский философия и методология науки учебник, 7852.02kb.
- Учебное пособие Житомир 2001 удк 33: 007. Основы экономической кибернетики. Учебное, 3745.06kb.
- Учебное пособие Санкт-Петербург 2011 удк 1(075., 3433.28kb.
- Учебное пособие подготовлено на кафедре философии Томского политехнического университета, 1526.78kb.
- Л. Е. Бляхер учебное пособие «История и философия науки» для подготовки к сдаче кандидатского, 2099.61kb.
- Учебное пособие Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования, 4872.28kb.
- Учебное пособие Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования, 4790.13kb.
- Вопросы к экзамену по истории и философии науки для магистрантов Определение понятия, 17.61kb.
3/S



 о целях научной деятельности и способах их достижений); науч-1 нал картина мира (целостная система представлений о мире, его общих свойствах и закономерностях, формирующихся на основе научных понятий и законов); философские идеи и принципы, обо-1 сновывающие цели, методы, нормы и идеалы научного исследо-| вания (подробно см. гл. Ш, § 6, 7).
о целях научной деятельности и способах их достижений); науч-1 нал картина мира (целостная система представлений о мире, его общих свойствах и закономерностях, формирующихся на основе научных понятий и законов); философские идеи и принципы, обо-1 сновывающие цели, методы, нормы и идеалы научного исследо-| вания (подробно см. гл. Ш, § 6, 7).Перестройка оснований науки, сопровождающаяся научными | революциями, может явиться, во-первых, результатом внутри-дисциплинарного развития, в ходе которого возникают проблемы,-! неразрешимые в рамках данной научной дисциплины. Например,! в ходе своего развития наука сталкивается с новыми типами объек-[ тов, которые не вписываются в существующую картину мира, их познание требует новых познавательных средств. Это ведет) пересмотру оснований науки. Во-вторых, научные революции воз можны благодаря междисциплинарным взаимодействиям, осно ванным на переносе идеалов и норм исследования из одной ной дисциплины в другую, что приводит часто к открытию явле ний и законов, которые до этой «парадигмальной прививки» попадали в сферу научного поиска. В зависимости от того, како компонент основания науки перестраивается, различают две \ новидности научной революции: а) идеалы и нормы научного i следования остаются неизменными, а картина мира пересматри вается; б) одновременно с картиной мира радикально меняютс не только идеалы и нормы науки, но и ее философские основания.
Первая научная революция сопровождалась изменением кар-1 тины мира, перестройкой видения физической реальности, созда-ч нием идеалов и норм классического естествознания. Вторая научная революция, хотя, в общем, и закончилась окончательным становлением классического естествознания, тем не менее способствовала началу пересмотра идеалов и норм научного познания, сформировавшихся в период первой научной революции. Третья и четвертая научные революции привели к пересмотру всех указанных выше компонентов основания классической науки. Подробно эти вопросы будут рассмотрены ниже.
Главным условием появления идеи научных революций явилось признание историчности разума, а следовательно, историчности научного знания и соответствующего ему типа рациональности. Философия XVII — первой половины XVIII в. рассматривала разум как неисторическую, самотождественную способность
человека как такового. Принципы и нормы разумных рассуждений, с помощью которых добывается истинное знание, признавались постоянными для любого исторического времени. Свою задачу философы видели в том, чтобы «очистить» разум от субъективных привнесений («идолов», как их называл Ф. Бэкон), искажающих чистоту истинного знания. Даже И. Кант в конце ХУШ в., совершивший «коперниканский» переворот в теории познания, показав, что предмет знания не дан, а задан априорными формами чувственности и рассудка познающего субъекта, тем не менее придерживался представления о внеисторическом характере разума. Поэтому в качестве субъекта познания в философии Канта фигурировал внеисторический трансцендентальный субъект.
И только в XIX в. представление о внеисторичности разума было поставлено под сомнение. Французские позитивисты (Сен-Симон, О. Конт) выделили стадии познания в человеческой истории, а немецкие философы послекантовского периода, особенно в лице Гегеля, заменили кантовское понятие трансцендентального субъекта историческим субъектом познания. Но если субъект познания историчен, то это, в первую очередь, означает историчность разума, с помощью которого осуществляется процесс познания. В результате истина стала определяться как историческая, т. е. имеющая «привязку» к определенному историческому времени. Принцип историзма разума получил дальнейшее развитие в марксизме, неогегельянстве, неокантианстве, философии жизни. Эти совершенно разные по проблематике и способу их решения философские школы объединяло признание конкретно-исторического характера человеческого разума.
В середине XX в. появилось целое исследовательское направление, получившее название «социология познания». Свою задачу это направление видело в изучении социальной детерминации, социальной обусловленности познания и знания, форм знания, типов мышления, характерных для определенных исторических эпох, а также социальной обусловленности структуры духовного производства вообще. В рамках этого направления научное знание рассматривалось как социальный продукт. Другими словами, признавалось, что идеалы и нормы научного познания, способы деятельности субъектов научного познания детерминируются | уровнем развития общества, его конкретно-историческим бытием.
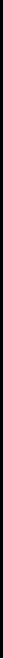

380
Основы философии науки
В естествознании и философии естествознания тезис об историчности разума, а следовательно, относительности истинного знания не признавался вплоть до начала XX в., несмотря на кризис оснований математики, открытие факта множественности логических систем и т. д. И только с начала 60-х гг. XX в. исторический подход к разуму и научному познанию стал широко обсуждаться историками и философами науки. Постпозитивисты Т. Кун, И. Лакатос, Ст. Тулмин, Дж. Агасси, М. Вартофски, П. Фейера-бенд и др. попытались создать историко-методологическую модель науки и предложили ряд ее вариантов. В результате убеждение в том, что научные истины и научные знания обладают статусом всеобщности и необходимости, сменилось признанием плюрализма исторически сменяющих друг друга форм научного знания. П. Фейерабенд объявил о господстве в научном познании теоретико-методологического анархизма.
П
 ринцип историчности, став ключевым в анализе научного знания, позволил американскому философу Т. Куну представить развитие науки как историческую смену парадигм, происходящую в ходе научных революций1. Он делил этапы развития науки на периоды «нормальной науки» и научной революции. В период «нормальной науки» подавляюще число ученых принимает установленные модели научной деятельности или парадигмы, в терминологии Т. Куна (парадигма: греч. — пример, образец), и с их помощью решает все научные проблемы. В содержание парадигм входят совокупность теорий, методологических принципов, ценностных и мировоззренческих установок. Период «нормальной науки» заканчивается, когда появляются проблемы и задачи, не разрешимые в рамках существующей парадигмы. Тогда она «взрывается», и ей на смену приходит новая парадигма. Так происходит революция в науке.
ринцип историчности, став ключевым в анализе научного знания, позволил американскому философу Т. Куну представить развитие науки как историческую смену парадигм, происходящую в ходе научных революций1. Он делил этапы развития науки на периоды «нормальной науки» и научной революции. В период «нормальной науки» подавляюще число ученых принимает установленные модели научной деятельности или парадигмы, в терминологии Т. Куна (парадигма: греч. — пример, образец), и с их помощью решает все научные проблемы. В содержание парадигм входят совокупность теорий, методологических принципов, ценностных и мировоззренческих установок. Период «нормальной науки» заканчивается, когда появляются проблемы и задачи, не разрешимые в рамках существующей парадигмы. Тогда она «взрывается», и ей на смену приходит новая парадигма. Так происходит революция в науке.§3. Глобальные революции и смена типов научной рациональности
Перестройка оснований науки, происходящая в ходе научных революций, приводит к смене типов научной рациональности. И хотя исторические типы рациональности — это своего рода абст-
1
 См.: Кун Т. Структура научных революций. М., 1977.
См.: Кун Т. Структура научных революций. М., 1977.381
Глава VI. Научные традиции и научные революции...
рактные идеализации, все же историки и философы науки выделяют несколько таких типов.
Нужно отметить, что рациональность не сводится только к научной. Вся европейская культура формировалась и развивалась под знаком рациональности, которая явилась формообразующим принципом жизненного мира европейского человека, его деятельности, его отношения к природе и к другим людям. Рациональность предполагала способность человека самостоятельно мыслить и принимать решения. И. Кант считал, что рациональность — это главный принцип Просвещения. Суть этого принципа в том, что субъект рационального мышления полностью ответствен за содержание своей мысли. «Имей мужество пользоваться собственным умом... без руководства со стороны кого-то другого», — таков девиз Просвещения, считал философ. Сформировалась уверенность в автономности и самодостаточности человеческого разума, сила которого проявилась в создании науки и техники.
В силу того, что ключевую роль в европейской рациональности стали играть наука и техника, возникла уникальная индустриальная цивилизация. В настоящее время ясно стало осознаваться, что все глобальные проблемы современности порождены этой цивилизацией, которая трансформировалась, переходя от индустриального этапа к постиндустриальному и информационному. Жизненно-практические угрозы, порожденные рациональной культурой Европы, и вызвали широкий интерес к проблеме рациональности вообще и научной, в частности.
Поскольку европейская рациональность преимущественно была ориентирована на науку, которая вплоть до середины XX в. рассматривалась как образец рациональности, то обсуждение вопроса о научной рациональности стало одной из главных тем философов науки. С 60-х гг. XX в. начинается критический пересмотр претензий науки быть образцом рациональности. Некоторые философы и философы науки стали утверждать, что, во-первых, наука не является прототипом рациональности как таковой; а, во-вторых, претензии науки на истинную рациональность есть разновидность «рациофашизма» (П. Фейерабенд). Но это — крайние позиции. Философы постпозитивисты Т. Кун, Дж. Агасси, И. Лакатос, Ст. Тулмин и др., пытаясь создать историко-методо-логические модели науки, вышли на проблему исторических типов рациональности.
382
Основы философии науки
Глава VI. Научные традиции и научные революции...
383

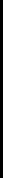
 Но, прежде чем говорить об исторических типах научной рациональности, рассмотрим ту исторически первичную рациональность, которая была открыта в Древней Греции. Это время (период между 800 и 200 гг. до н. э.) характеризуется резкими изменениями в духовной жизни трех стран: Китая, Индии, Греции. Для Греции это время Гомера, философов Парменида, Гераклита, Платона, историка Фукидида, ученого Архимеда. В этот же временной период Конфуций и Лао-цзы создали китайскую философию, а в Индии жил Будда и возникли «Упанишады». Следует добавить, что одновременно в Иране появляется учение Заратустры о борьбе добра и зла, а в Палестине пророчествуют Илия, Исайя, Иеремия, Второисайя. Это было время зарождения разума, осознание человеком своей способности мыслить. Но так как европейская рациональность уходит корнями в культуру античной Греции, рассмотрим специфику рациональности, рожденной в этой культуре.
Но, прежде чем говорить об исторических типах научной рациональности, рассмотрим ту исторически первичную рациональность, которая была открыта в Древней Греции. Это время (период между 800 и 200 гг. до н. э.) характеризуется резкими изменениями в духовной жизни трех стран: Китая, Индии, Греции. Для Греции это время Гомера, философов Парменида, Гераклита, Платона, историка Фукидида, ученого Архимеда. В этот же временной период Конфуций и Лао-цзы создали китайскую философию, а в Индии жил Будда и возникли «Упанишады». Следует добавить, что одновременно в Иране появляется учение Заратустры о борьбе добра и зла, а в Палестине пророчествуют Илия, Исайя, Иеремия, Второисайя. Это было время зарождения разума, осознание человеком своей способности мыслить. Но так как европейская рациональность уходит корнями в культуру античной Греции, рассмотрим специфику рациональности, рожденной в этой культуре.Открытие рациональности в философии античности
Скрытым или явным основанием рациональности является признание тождества мышления и бытия. Само это тождество впервые было открыто греческим философом Парменидом, который выразил его так: «Мысль всегда есть мысль о том, что есть. Одно и то же — мышление и то, о чем мысль». Мысль никогда не может быть пустой. Отметим сущностные характеристики открытого Парменидом тождества мышления и бытия.
Во-первых, под бытием он понимал не наличную действительность, данную чувствам, а нечто неуничтожимое, единственное, неподвижное, нескончаемое во времени, неделимое, ни в чем не нуждающееся, лишенное чувственных качеств. Бытие — это истинно сущее Единое (Бог, Абсолют). Сам Парменид характеризовал Единое как полноту, в которой все есть, как сферу, как свет, как то, что тождественно Истине, Добру и Благу. Бытие — божественная, сверхчувственная реальность, характеристики которой не могут быть даны в чувственном опыте, опирающемся на телесные слухл зрение. Рациональность — работа с истиной, т.е. с устойчивым, неизменным содержанием, например, с идеями.
Поэтому, во-вторых, тождество мышления (ума) и бытия означало способность мышления выходить за пределы чувственного мира и «работать» с идеальными «моделями», которые не совпадают с обыденными житейскими представлениями о мире. Впоследствии Платон, испытавший влияние Парменида, создал учение об идеях, обнаружить которые мы можем только чистым, т.е. внетелесным взлетом мысли. Неоплатоник Плотин называл такое умопостижение побегом из чувственного мира. Парменидо-ва интуиция бытия как мысли есть открытие особой мысли, способной работать с идеальными моделями сверхчувственной реальности. Говоря современным языком, античная рациональность признала возможность умозрительного постижения принципиально ненаблюдаемых объектов, таких как бытие (Парменид), идеи {Платон), Перводвигатель (Аристотель).
Идеальный план деятельности вообще стал в дальнейшем одной из главных характеристик рационального типа отношения к реальности, и, прежде всего, научной рациональности. Открытая греками работа мысли с идеальными объектами заложила основы традиции теоретизма. Античные философы, считал Гуссерль, «занимаются теорией и только теорией, развивают только ее», для чего им нужно было «вынести за скобки» практически-житейские интересы, психологические и прочие связи, мотивы, которые мешают человеку занять теоретическую, чистую, незаинтересованную позицию... Теоретическая установка целиком изъята из практики». Теоретический мир надстраивается над обыденными житейскими представлениями о мире, и в силу своей идеальности он не уничтожается временем. В теории человек выходит в мир вечного, теоретическое движение мысли не знает преград и перед ней открыты бесконечные перспективы. Открытое античностью идеальное измерение мышления стало судьбоносным для европейской культуры и науки.
В-третьих, эту свою способность «работать» с идеальными моделями мышление может реализовать только в слове. Рациональность нуждается в надситуационном слове, т.е. слове, выражающем не сиюминутную ситуацию в жизни человека, а нечто всеобщее, превышающее эмпирический ряд значений слов в обыденном языке. Аристотель утверждал, что всякое определение и всякая наука имеют дело с общим. Отсюда в европейской культуре, начиная с античности, повышенное внимание к слову, к его




384
Основы философии науки
артикуляции. Тождество содержания мысли содержанию бытия предполагает возможность адекватно выразить то и другое содержание в слове. Такая возможность может быть реализована, если слова имеют точное и определенное значение. Поиску способов фиксации в языке идеальных объектов, выявлению смыслового ядра понятий, обозначающих красоту вообще, добро вообще, благо вообще и т. д., уделял много внимания Платон. Слово — это форма присутствия отсутствующего (для чувственного восприятия). Появляется возможность «работать» с отсутствующим через его представленность в слове. Это и есть рациональное познание, характеризующееся непрагматическим любопытством. Рациональное знание нельзя построить с помощью слов, имеющих «размытые» значения. Определенность, точность, однозначность значений слов есть необходимое условие построения рационального знания. Не случайно Аристотель кодифицировал правила логики, грамматики, поэтики, риторики.
В
 -четвертых, мышление понималось античными философами как «созерцание, уподобляющее душу Богу» (Плотин), как интеллектуальное озарение, уподобляющее ум человеческий уму божественному. Тезис Парменида «одно и то же — мышление и то, о чем мыслится» не допускал возможности сведения мышления только к логике. Действительно, «то, о чем мыслится» есть Божественное Единое, т. е. одновременно и Истина, и Добро, и Благо, а потому не может быть адекватно (тождественно) постигнуто и выражено с помощью только логических процедур. Парменид наделил мысль космическими масштабами. Утверждая, что бытие есть мысль, он имел в виду космический Разум, а не субъективную мысль отдельного человека. Через космический Разум содержание мира раскрывается для человека непосредственно. Иначе говоря, не человек открывает Истину, а Истина открывается человеку. Поэтому, с точки зрения Парменида, не следует рассматривать логические доказательства как свидетельства могущества только человеческого ума: они имеют свой источник в Разуме, превышающем всякое логическое действо субъективной мысли. Когда Парменид в своих рассуждениях прибегал к логическим построениям и доказательствам, он подчеркивал, что им руководит высший Разум (богиня). Так как человеческий разум есть проекция Божественного разума, то знание для человека всегда благо и добро. Знающий не может быть злым по определению:
-четвертых, мышление понималось античными философами как «созерцание, уподобляющее душу Богу» (Плотин), как интеллектуальное озарение, уподобляющее ум человеческий уму божественному. Тезис Парменида «одно и то же — мышление и то, о чем мыслится» не допускал возможности сведения мышления только к логике. Действительно, «то, о чем мыслится» есть Божественное Единое, т. е. одновременно и Истина, и Добро, и Благо, а потому не может быть адекватно (тождественно) постигнуто и выражено с помощью только логических процедур. Парменид наделил мысль космическими масштабами. Утверждая, что бытие есть мысль, он имел в виду космический Разум, а не субъективную мысль отдельного человека. Через космический Разум содержание мира раскрывается для человека непосредственно. Иначе говоря, не человек открывает Истину, а Истина открывается человеку. Поэтому, с точки зрения Парменида, не следует рассматривать логические доказательства как свидетельства могущества только человеческого ума: они имеют свой источник в Разуме, превышающем всякое логическое действо субъективной мысли. Когда Парменид в своих рассуждениях прибегал к логическим построениям и доказательствам, он подчеркивал, что им руководит высший Разум (богиня). Так как человеческий разум есть проекция Божественного разума, то знание для человека всегда благо и добро. Знающий не может быть злым по определению:385
, Глава VI. Научные традиции и научные революции...
; его мысль есть частица Божественного разума, полнота которого . состоит в единстве Истины, Добра, Блага.
В-пятых, основная функция разума усматривалась в познании целевой причины. Только разуму доступны понятия цели, блага, наилучшего. Все, что существует, существует ради чего-то. «То, ради чего» — это конечная цель, ради которой «существует другое» (Аристотель). Конечная цель существует онтологичес- ки, и одновременно о ней знает разум. Если бы не было конечной цели, то все в мире и в человеческих поступках было бы незавершенным, беспредельным. Согласно Аристотелю, «те, кто признает беспредельное (движение), невольно отвергают благо как таковое». Признание целевой причины вносило смысл в природу, которая рассматривалась как нечто целостное, включающее в себя объективную целесообразность. Разум, как высшая познавательная способность человека, был ориентирован прежде всего на понимание целесообразности природных явлений в их целостном единстве. Признание наличия конечной цели, которая все движет «как предмет любви» и к которой все стремится, как к высшему благу, не позволяло относиться к природе как к объекту эксплуатации и изменения. Все сущее в природе, согласно Аристотелю, всегда движется по направлению к объективной цели, реализуя при этом свое природное предназначение. Характер целей движения всех тел определяется конечной высшей целью, управляющей миропорядком в целом. Цель выступала принципом организации природы. В этой связи современные философы науки приходят к выводу, что математика не могла быть фундаментом аристотелевской физики, так как в математике нет понятия «цель» (А. П. Огурцов). Созданная Аристотелем наука о природе — физика — просуществовала, правда, с уточнениями и изменениями, вносимыми последующими мыслителями, почти два тысячелетия (IV в. до н. э.—XVI в.) (П. П. Гайденко).
Первая научная революция и формирование научного типа рациональности
Все типы рациональности мы будем объяснять, опираясь не только на факты и идеи естествознания, но и на философию, которая эти идеи оправдывала, аргументированно обосновывала или, наоборот, критически переосмысливала. Лишь взятые вместе ес-
13. Основы философии науки
Глава VI. Научные традиции и научные революции...
387
 i I
i I386
Основы философии науки
тествознание и философия дают возможность реконструировать тот тип мышления и тот тип рациональности, которые складывались в ходе научных революций.
П
 ервая научная революция произошла в XVII в. Ее результатом было возникновение классической европейской науки, прежде всего, механики, а позже физики. В ходе этой революции сформировался особый тип рациональности, получивший название научного. Он стал результатом того, что европейская наука отказалась от метафизики. И хотя декартовская философия, заложившая основы научного метода, не отрицала создания мира Богом, она при этом утверждала, что с той минуты мир стал развиваться имманентно, т. е. по своим внутренним законам. Произошло удвоение бытия на религиозное и научное. В религиозной сфере люди имели дело с живым Богом, а в науке с мертвым миром. Научный и религиозный подходы к миру обособились, создав соответственно религиозное и научное мировоззрения. Известно, что Ньютону принадлежат знаменитые слова, определившие суть науки: «Физика, бойся метафизики!» Отказ от метафизики позволил науке свести Божественный космос к природе, натуре.
ервая научная революция произошла в XVII в. Ее результатом было возникновение классической европейской науки, прежде всего, механики, а позже физики. В ходе этой революции сформировался особый тип рациональности, получивший название научного. Он стал результатом того, что европейская наука отказалась от метафизики. И хотя декартовская философия, заложившая основы научного метода, не отрицала создания мира Богом, она при этом утверждала, что с той минуты мир стал развиваться имманентно, т. е. по своим внутренним законам. Произошло удвоение бытия на религиозное и научное. В религиозной сфере люди имели дело с живым Богом, а в науке с мертвым миром. Научный и религиозный подходы к миру обособились, создав соответственно религиозное и научное мировоззрения. Известно, что Ньютону принадлежат знаменитые слова, определившие суть науки: «Физика, бойся метафизики!» Отказ от метафизики позволил науке свести Божественный космос к природе, натуре.Научный тип рациональности, радикально отличаясь от античного, тем не менее воспроизвел, правда, в измененном виде, два главных основания античной рациональности: во-первых, принцип тождества мышления и бытия, во-вторых, идеальный план работы мысли. Описанный выше античный тип рациональности, базирующийся на признании тождества мышления и бытия, окончательно оформился в философии Аристотеля и сохранил свои фундаментальные характеристики вплоть до времен Декарта, от которого можно условно вести отчет появления научной рациональности. Тип рациональности, сложившийся в науке, невозможно реконструировать, не учитывая тех изменений, которые произошли в философском понимании тождества мышления и бытия. Рассмотрим эти изменения.
Во-первых, бытие перестало рассматриваться как Абсолют, Бог, Единое. Величественный античный Космос был отождествлен с природой, которая рассматривалась как единственная истинная реальность, как вещественный универсум, из которого был элиминирован всякий духовный компонент. Первые естественные науки — механика и физика — изучали этот вещественный универсум как набор статичных объектов, которые не развивают-
ся, не изменяются. Объекты рассматривались преимущественно в качестве механических устройств, малых систем с небольшим количеством элементов, находящихся в поле силовых воздействий и жестких причинно-следственных связей. При этом свойства целого сводились к сумме свойств его частей, а процесс понимался как перемещение тел в пространстве. Время присутствовало в классическом естествознании просто как некий внешний параметр, не влияющий на характер событий и процессов.
Во-вторых, человеческий разум потерял свое космическое измерение, стал уподобляться не Божественному разуму, а самому себе и наделялся статусом суверенности. Он сам из себя формировал свои качества, принципы, правила, схемы, императивы, сам обосновывал свои права на познание истины. Убеждение во всесилии и всевластии человеческого разума укрепилось в эпоху Просвещения, мыслители которой сводили активность познающего субъекта к усилиям по очищению своего разума от всяких напластований и «замутнений» и выходу на уровень «чистого» разума, гарантирующего тождество мышления и бытия. Недостаток этой активности расценивался как главное препятствие разума на пути к постижению истины. «Чистый» разум имеет логико-понятийную структуру, не замутненную ценностными ориентациями, включающими в себя цель, — то, ради чего что-либо существует или действует.
Сложилась вполне определенное толкование познавательной деятельности, осуществляемой разумом: из процесса познания были элиминированы ценностные ориентации. Философ науки А. Койре отмечал, что из науки изгоняются все рассуждения о ценностях, гармонии, совершенстве, смысле, цели и т. д. Неизменное, всеобщее, безразличное ко всему знание стало идеалом научной рациональности. Так, Б. Спиноза утверждал, что истина требует «не смеяться, не плакать, не проклинать, а понимать».
Восторжествовал объективизм, базирующийся на представлении о том, что знание о природе не зависит от познавательных процедур, осуществляемых исследователем. Разум человеческий дистанцировался от вещей. Считалось, что он наблюдает, исследует природу вещей как бы со стороны, не будучи детерминирован ничем, кроме свойств и характеристик изучаемых объектов. Объективность и предметность научного знания достигаются только тогда, когда из описания и объяснения исключается все, что
388
f
Основы философии науки
связано с субъектом и используемыми им средствами познания. Абстрагируясь от всякой соотнесенности с познающим субъектом, естествознание претендовало на статус точной науки о природных телах. Гуссерль спрашивал: «Что может сказать наука — о нас, людях, как субъектах свободы? Само собой разумеется — ничего». Новое математическое естествознание делало большие успехи, но, как считал Гуссерль, это происходило за счет утраты им связи с гуманистической стороной жизни: все больше и больше естествознание «технизируется». Можно сказать, что новоевропейская научная рациональность вытеснила античное понимание разума.
К
 этому следует добавить, что классическая наука выбрала из четырехчленной причинности, предложенной Аристотелем для объяснения явлений (целевая, формальная, материальная, действующая), только действующие и материальные причины, которые хорошо согласовывались с механистическим толкованием природы. Поскольку физика отделилась от метафизики, умозрительной философии (ср. ньютоновское: «Физика, бойся метафизики!»), то физика ограничилась исследованием действующих и материальных причин, оставив метафизике изучение целевых и формальных причин. Полное, истинное и окончательное объяснение природных явлений считалось завершенным, если изучаемые явления сводились к механической системе, из которой устранялась качественная определенность вещей и явлений. Объяснение сводилось к поиску механических причин и субстанций, а обоснование — к редукции знания о природе, к принципам механики. Не случайно этот период развития науки получил название механистического.
этому следует добавить, что классическая наука выбрала из четырехчленной причинности, предложенной Аристотелем для объяснения явлений (целевая, формальная, материальная, действующая), только действующие и материальные причины, которые хорошо согласовывались с механистическим толкованием природы. Поскольку физика отделилась от метафизики, умозрительной философии (ср. ньютоновское: «Физика, бойся метафизики!»), то физика ограничилась исследованием действующих и материальных причин, оставив метафизике изучение целевых и формальных причин. Полное, истинное и окончательное объяснение природных явлений считалось завершенным, если изучаемые явления сводились к механической системе, из которой устранялась качественная определенность вещей и явлений. Объяснение сводилось к поиску механических причин и субстанций, а обоснование — к редукции знания о природе, к принципам механики. Не случайно этот период развития науки получил название механистического.В-третьих, не отказываясь от открытой античной философией способности мышления работать с идеальными объектами, наука Нового времени сузила их спектр: к идее идеальности присоединилась идея артефакта (сделанной вещи), несовместимая с чистым созерцанием, открытым античной рациональностью. Научная рациональность признала правомерность только тех идеальных конструктов, которые можно контролируемо воспроизвести, сконструировать бесконечное количество раз в эксперименте. Свободе интерпретации мира был положен предел: в научную картину мира впускалось только то, что можно практически объективировать и проконтролировать. Эксперимент по своей сути и есть
389
