В. П. Кохановский Кохановский В. П., Лешкевнч Т. Г., Матяш Т. П., Фатхи Т. Б. К 55 Основы философии науки: Учебное пособие
| Вид материала | Учебное пособие |
- Философия для аспирантов. Кохановский В. П., Золотухина Е. В., Лешкевич Т. Г., Фатхи, 5248.44kb.
- Www i-u. Ru, 5094.81kb.
- В. П. Кохановский философия и методология науки учебник, 7852.02kb.
- Учебное пособие Житомир 2001 удк 33: 007. Основы экономической кибернетики. Учебное, 3745.06kb.
- Учебное пособие Санкт-Петербург 2011 удк 1(075., 3433.28kb.
- Учебное пособие подготовлено на кафедре философии Томского политехнического университета, 1526.78kb.
- Л. Е. Бляхер учебное пособие «История и философия науки» для подготовки к сдаче кандидатского, 2099.61kb.
- Учебное пособие Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования, 4872.28kb.
- Учебное пособие Рекомендовано Министерством общего и профессионального образования, 4790.13kb.
- Вопросы к экзамену по истории и философии науки для магистрантов Определение понятия, 17.61kb.
369

 Вригта* «является той моделью объяснения, которая так долго отсутствовала в методологии наук о человеке и которая является подлинной альтернативой модели объяснения через закон»1.
Вригта* «является той моделью объяснения, которая так долго отсутствовала в методологии наук о человеке и которая является подлинной альтернативой модели объяснения через закон»1.Следует иметь в виду, что, во-первых, дедуктивно-номологи-ческая модель (схема) иногда провозглашается единственно научной формой объяснения, что неверно (особенно применительно к гуманитарным наукам). Во-вторых, при объяснении поведения отдельных личностей данная модель неприменима, здесь «работают» рациональная и интенсиональная схемы.
Обе эти схемы являются в социальном познании приоритетными по отношению к дедуктивно-номологическому объяснению, которое, конечно же, применяется и в гуманитарных науках, но занимает здесь более скромное место, чем в естествознании.
Что касается научного познания в целом, то в нем необходимо сочетать (а не противопоставлять друг другу) различные виды объяснения для более глубокого постижения природы и социальной жизни.
Понимание и объяснение тесно связаны. Однако надо иметь в виду, что понимание не сводится к объяснению, так как — особенно в социальном познании — невозможно отвлечься от конкретных личностей, их деятельности, от их мыслей и чувств, целей и желаний и т. п. Кроме того, понимание нельзя противопоставлять объяснению, а тем более отрывать друг от друга эти две исследовательские процедуры, которые дополняют друг друга и действуют в любой области человеческого познания.
Различая эти процедуры, М. М. Бахтин писал: «При объяснении — только одно сознание, один субъект; иряпонимании — два сознания, два субъекта. К объекту не может быть диалогического отношения, поэтому объяснение лишено диалогических моментов (кроме формально-риторического). Понимание всегда в какой-то мере диалогично»2.
Говоря о соотношении объяснения и понимания интерпретации Вригт считает, что различие между ними «лучше проводить». Это различие он видит в следующем: «Результатом интерпретации является ответ на вопрос «Что это такое?». И только тогда, когда мы задаем вопрос, почему произошла демонстрация или
'
 ВригтГ. X. фон. Логико-философские исследования. М., 1986. С. 64. 2 Бахтин М. М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000. С. 308.
ВригтГ. X. фон. Логико-философские исследования. М., 1986. С. 64. 2 Бахтин М. М. Автор и герой: К философским основам гуманитарных наук. СПб., 2000. С. 308.каковы были «причины» революции, мы в более узком и строгом смысле пытаемся объяснить происходящие события.
Кроме того, эти две процедуры, по-видимому, взаимосвязаны и особым образом опираются друг на друга... Объяснение на одном уровне часто подготавливает почву для интерпретации фактов на более высоком уровне»1.
Однако в социальном познании предпочтение отдается понимающим методикам, обусловленным прежде всего спецификой его предмета, в естествознании — объясняющим.
Согласно Г. X. Вригту, объяснение имеет ряд форм, среди которых одна из основных — каузальное объяснение. Последнее, в свою очередь, бывает двух видов: предсказание и ретросказа-ние. Обосновывая это свое деление, философ отмечает, что объяснения, обладающие силой предсказания, играют исключительно важную роль в экспериментальных науках. С другой стороны, ретросказательные объяснения занимают важное место в таких науках, как космогония, геология, теория эволюции, изучающих историю (развитие) природных событий и процессов. В этих науках мы путем исследования прошлого можем обнаружить его элементы («следы») в настоящем.
Ретросказательные объяснения, т. е. пересмотр отдаленного прошлого в свете более поздних событий, «в высшей степени характерны», по Вригту, для исторической науки. При этом он предостерегает, что, применяя ретросказательное объяснение, следует избегать абсолютизации прошлого, его переоценки.
Последняя легко может ввести в заблуждение, так как делает суждение историка вопросом его вкусов и предпочтений, в соответствии с которыми он отбирает важное или «ценное». Разумеется, этот элемент присутствует в историографии. В процессе понимания и объяснения более недавних событий историк, согласно Вригту, приписывает прошлым событиям такую роль и значение, которыми они не обладали до появления этих новых событий. А поскольку полное будущее нам неизвестно, мы и не можем сейчас знать все характеристики настоящего и прошлого. А это означает, что «полное и окончательное» описание прошлого невозможно.
Осуществление функций объяснения в науке органически связано с предсказанием и предвидением. По существу, рассматри-
В
 ригтГ. X. фон. Логико-философские исследования. М., 1986. С. 164.
ригтГ. X. фон. Логико-философские исследования. М., 1986. С. 164.370
Основы философии науки
вая научно-познавательную деятельность в целом, можно говорить о единой объяснительно-предсказательной функции научнп го познания по отношению к его объекту.
Интересные и продуктивные идеи о соотношении объяснений и понимания и шире — эпистемологии и герменевтики — развивает современный американский философ Р. Рорти. Он полагает, что герменевтика приспособлена к «духу» (к «наукам о человеке»), в то время как «методы объективизации» (т. е. методы естественных, «позитивных» наук) подходят природе. Но философ считает, что «две эти дисциплины не конкурируют друг с другом, скорее оказывают друг другу помощь».
Герменевтика — это, по его мнению, «описание нашего исследования незнакомого, а эпистемология — описание нашего ио следования знакомого». При этом он замечает, что «было бы луЧй ше вообще отбросить различие духа и природы». Общий выво; Рорти таков: «Герменевтика не есть «другой путь познания» — «понимания» в противоположность предсказательному «объяснению». Лучше всего рассматривать ее как другой путь совладения с материалом»1.
Глава VI
Научные традиции
и научные революции.
Типы научной рациональности
§
 1. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания
1. Взаимодействие традиций и возникновение нового знания1 Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997. С. 263.
Проблема научных традиций
Эта проблема всегда привлекала внимание ученых и философов науки, но только Т. Кун (один из лидеров современной постпозитивистской философии науки) впервые рассмотрел традиции как основной конституирующий фактор развития науки. Он обосновал, казалось бы, противоречивый феномен: традиции являются условием возможности научного развития. Любая традиция (социально-политическая, культурная и т.д.) всегда относится к прошлому, опирается на прежние достижения. Что является прошлым для непрерывно развивающейся науки? Научная парадигма, которая всегда базируется на прошлых достижениях. К их числу относятся ранее открытые научные теории, которые по тем или иным причинам начинают интерпретироваться как образец решения всех научных проблем, как теоретическое и методологическое основание науки в ее конкретно-историческом пространстве. Парадигма есть совокупность знаний, методов, образцов решения конкретных задач, ценностей, безоговорочно разделяемых членами научного сообщества. Со сменой парадигмы начи-

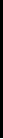
373
372
Основы философии науки
н
 ается этап нормальной науки. На этом этапе наука характеризуется наличием четкой программы деятельности, что приводит к селекции альтернативных для этой программы и аномальных для нее смыслов. Говоря о деятельности ученых в пространстве нормальной науки, Кун утверждал, что они «не ставят себе цели создания новых теорий, к тому же они нетерпимы и к созданию таких теорий другими». А это значит, что предсказания новых видов явлений и процессов, т.е. тех, которые не вписываются в контекст господствующей парадигмы, не является целью нормальной науки.
ается этап нормальной науки. На этом этапе наука характеризуется наличием четкой программы деятельности, что приводит к селекции альтернативных для этой программы и аномальных для нее смыслов. Говоря о деятельности ученых в пространстве нормальной науки, Кун утверждал, что они «не ставят себе цели создания новых теорий, к тому же они нетерпимы и к созданию таких теорий другими». А это значит, что предсказания новых видов явлений и процессов, т.е. тех, которые не вписываются в контекст господствующей парадигмы, не является целью нормальной науки.Но если на этапе нормальной науки ученый работает в жестких рамках парадигмы, т.е. традиции, то как происходит научное развитие, какие открытия может делать ученый? Как он вообще работает? Ученый в обозначенной ситуации систематизирует известные факты; дает им более детальное объяснение в рамках существующей парадигмы; открывает новые факты, опираясь на предсказания господствующей теории; совершенствует опыт решения задач и проблем, возникших в контексте этой теории. Наука развивается в рамках традиции. И, как показал Кун, традиция не только не тормозит это развитие, но выступает в качестве его необходимого условия.
Из истории науки известно, что происходит смена традиции, возникновение новых парадигм, т.е. радикально новых теорий, образцов решения задач, связанных с такими явлениями, о существовании которых ученые даже не могли подозревать в рамках «старой» парадигмы. Как это возможно, если, «нормальная наука не ставит своей целью нахождение нового факта или теории»? Кун считает, что, действуя по правилам господствующей парадигмы, ученый случайно и побочным образом наталкивается на такие факты и явления, которые не объяснимы в рамках этой парадигмы. Возникает необходимость изменить правила научного исследования и объяснения.
Но в таком объяснении есть изъяны. Дело в том, что парадигма как бы задает «угол» зрения, и то, что находится за его пределами, просто-напросто не воспринимается. Поэтому, даже случайно натолкнувшись на новое явление, ученый, работающий в определенной парадигме, вряд ли его заметит или проинтерпретирует адекватно. Эту ситуацию признавал и Кун. Например, когда физики, пытаясь увидеть «след» электрона в камере Вильсона,
Глава VI. Научные традиции и научные революции...
о
 бнаружили, что этот след имеет форму «развилки», то они отнесли этот эффект к погрешностям эксперимента. И только когда Дирак «на кончике пера» открыл позитрон, стала ясна истинная суть двойного следа в камере Вильсона. Возникает проблема: как согласовать изменение парадигмы под напором новых фактов с утверждением, что восприятие ученым явлений, не укладывающихся в парадигму, всегда затруднено.
бнаружили, что этот след имеет форму «развилки», то они отнесли этот эффект к погрешностям эксперимента. И только когда Дирак «на кончике пера» открыл позитрон, стала ясна истинная суть двойного следа в камере Вильсона. Возникает проблема: как согласовать изменение парадигмы под напором новых фактов с утверждением, что восприятие ученым явлений, не укладывающихся в парадигму, всегда затруднено.Показав, как происходит развитие нормальной науки в рамках традиции, Кун не сумел объяснить механизм соотношения традиции и новации.
Многообразие научных традиций
Концепцию Куна пытаются усовершенствовать отечественные философы науки1. Это усовершенствование связано, прежде всего, с разработкой концепции многообразия научных традиций, которое основывается на отличии научных традиций по содержанию, функциям, выполняемым в науке, способу существования.
Так, по способу существования можно выделить вербализованные (существующие в виде текстов) и невербализованные (не выразимые полностью в языке) традиции. Первые реализованы в виде текстов монографий и учебников. Вторые не имеют текстовой формы и относятся к типу неявного знания. Последнее связано с именем философам. Полани (конец 50-х гг. XX в.). Неявное знание — это такое знание, которое принципиально не может быть четко и полно выражено с помощью вербального языка. Так, очень трудно вьфазить в виде словесных правил или предписаний такие бытующие среди ученых действия, как «красивое» решение задач, создание «эстетической» теории, «изящно» поставленный эксперимент и т.д. Не существует четких определений того, что в науке относится к разряду «красивого». Ценностные ориентации ученых, специфика их «тонко аргументированных» рассуждений также относятся к сфере неявного знания.
Неявные знания передаются на уровне образцов от учителя к ученику, от одного поколения ученых к другому. М. А. Розов выделяет два типа образцов в науке: а) образцы действия и б) образ-ць1-продукты. Образцы действия предполагают возможность про-
1
 См.: Степин В. С Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники. Разд. II. М., 1996.
См.: Степин В. С Горохов В. Г., Розов М. А. Философия науки и техники. Разд. II. М., 1996.374
Основы философии науки
Глава VI. Научные традиции и научные революции..
375


 демонстрировать технологию производства предмета. Такая демонстрация легко осуществима по отношению к артефактам (сделанные руками человека предметы и процессы). Можно показать, как делают, например, нож. Так же сравнительно легко продемонстрировать последовательность операций какого-нибудь химического анализа, решения математических уравнений.
демонстрировать технологию производства предмета. Такая демонстрация легко осуществима по отношению к артефактам (сделанные руками человека предметы и процессы). Можно показать, как делают, например, нож. Так же сравнительно легко продемонстрировать последовательность операций какого-нибудь химического анализа, решения математических уравнений.Но показать технологию «производства» аксиом той или иной научной теории, дать «рецепт» построения удачных классификаций еще никому не удалось. Дело в том, что аксиомы, классификации — это некие образцы продуктов, в которых глубоко скрыты схемы действия, с помощью которых они получены. Эти схемы действия, как правило, остались не вполне проясненными и для самого создателя аксиом, классификаций и т. д. Так, никто не знает, как Евклид создал свои «Начала», ибо он не дал никаких разъяснений по этому поводу. Он оставил потомкам готовый образец продукта, и теперь можно только пытаться реконструировать процесс создания «Начал», в котором присутствовали как явные, так и не поддающиеся реконструкции неявные предпосылки и знания, вплоть до религиозно-мистических.
Признание того факта, что научная традиция включает в себя наряду с явным также и неявное знание, позволяет сделать следующий вывод. Научная парадигма — это не замкнутая сфера норм и предписаний научной деятельности, а открытая система, включающая образцы неявного знания, почерпнутого не только из сферы научной деятельности, но из других сфер жизнедеятельности ученого. Достаточно вспомнить о том, что многие ученые в своем творчестве испытали влияние музыки, художественных произведений, религиозно-мистического опыта и т. д. Следовательно, ученый работает не в жестких рамках стерильной куновской парадигмы, а подвержен влиянию всей культуры, что позволяет говорить о многообразии научных традиций.
Каждая научная традиция имеет свою сферу применения и s распространения. Поэтому можно выделять традиции специально-научные и общенаучные. Но проводить резкую грань между \ ними трудно. Дело в том, что специально-научные традиции, на которых базируется та или иная конкретная наука, например, физика, химия, биология и т. д., могут одновременно выступать и в функции общенаучной традиции. Это происходит в том случае, когда методы одной науки, например биологии, применяют-
ся для построения теорий других естественных и даже общественных наук. Как известно, в настоящее время многие теоретические и методологические принципы и установки биологии используются при объяснении генезиса общества, отношения между пола-
ми и т.д.
Возникновение нового знания
Вопрос о том, как возникает новое знание в науке — главный в истории как зарубежной, так и отечественной философии науки. Выше было показано, как решал этот вопрос Т. Кун. С точки зрения отечественных философов науки — В. С. Степина и М. А. Розова, новое знание возникает благодаря существованию многообразия традиций и их взаимодействия. Прежде чем показать, как в пространстве многообразия традиций возникает новое знание, рассмотрим, что имеется в виду, когда говорят о новациях (новом) в науке.
Для уточнения понятия «новация» М. А. Розов выделяет незнание и неведение. Незнание предполагает возможность сформулировать задачу исследования того, чего мы не знаем. В сфере незнания ученый знает, чего он не знает, а потому может сказать: «Я не знаю того-то», например, причины какого-то уже известного физического или культурного явления, каких-то уточняющих сущность явления характеристик и т. д. И когда причины и уточняющие характеристики явлений будут выявлены, можно говорить о появлении нового знания в науке. Это новое имеет своеобразную природу: оно является результатом целенаправленных, преднамеренных действий ученых. Куновское толкование парадигмы соотносится только с так понимаемым новым. Незнание позволяет ученому планировать познавательную деятельность, используя уже накопленные знания о существовании тех или иных явлений и предметов. Иначе говоря, новое здесь выступает как расширение знания о чем-то уже известном. Так, исследователи Марса вполне правомерно ставят вопросы о строении марсианского грунта, о наличии воды, а следовательно, жизни на этой планете. В контексте наук о планетах вполне закономерно ставить вопросы такого типа, которые образуют сферу незнания.
Неведение, в отличие от незнания, можно высказать только в форме утверждения «я не знаю, чего не знаю». Действительно,
376
Основы философии науки
Глава VI. Научные традиции и научные революции...
377

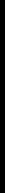 трудно представить ситуацию, когда кто-то бы из ученых ставил задачу открыть то, что никому до сих пор не было известно. Так, в античности никто не знал о квантовой механике, а потому Демокрит, например, в принципе не мог поставить вопрос о спине электрона. Или другой пример. Когда астрофизики не знали ничего о «черных» дырах, никто из них не мог поставить вопрос об их существовании. Только когда этот феномен был открыт, возникла возможность говорить о нем в терминах незнания: «Я не знаю того-то и того-то, что относится к данному феномену».
трудно представить ситуацию, когда кто-то бы из ученых ставил задачу открыть то, что никому до сих пор не было известно. Так, в античности никто не знал о квантовой механике, а потому Демокрит, например, в принципе не мог поставить вопрос о спине электрона. Или другой пример. Когда астрофизики не знали ничего о «черных» дырах, никто из них не мог поставить вопрос об их существовании. Только когда этот феномен был открыт, возникла возможность говорить о нем в терминах незнания: «Я не знаю того-то и того-то, что относится к данному феномену».Итак, целенаправленный, запрограммированный поиск абсолютно неизвестных еще никому явлений и процессов просто невозможен. Не существует и метода поиска таких явлений, ибо не известно, что и где искать. Нельзя построить исследовательскую программу открытия того, не знаю чего. Абсолютное неведение находится за пределами возможности целеполагания ученого, ибо он не знает, чего не знает, не знает, что ему искать.
И, тем не менее, ученые выходят в сферу неведения и делают открытия таких явлений, процессов, о которых никто до этого не догадывался. Многие из таких открытий являются провозвестниками научных революций, т.е. принципиальных сдвигов в науке (о научных революциях см. ниже).
Как же преодолевается неведение, т.е. как совершаются открытия принципиально нового в науке? Сразу же скажем, что и незнание и неведение преодолеваются только в рамках научных традиций. Относительно незнания это понятно и выше было показано, что традиция помогает ученым наращивать знания о предметах, процессах и явлениях, известных традиции. Но как объяснить роль традиций в возникновении принципиально нового знания, т. е. такого знания, которое нельзя получить целенаправленными действиями, совершаемыми в рамках данной традиции? Такого рода объяснение дает отечественный философ М. А. Розов, предлагая несколько концепций. Рассмотрим некоторые из них.
Концепция «пришельцев». Смысл этой концепции прост: в какую-то науку приходит ученый из другой научной области. Не связанный традициями новой для себя науки, «пришелец» начинает решать ее задачи и проблемы с помощью методов своей «родной» науки. В итоге, он работает в традиции, но примененной к новой области. Как правило, успех сопутствовал тем ученым, которые совершали «монтаж» методов той науки, в которую «при-
шелец» внедрился, и той, из которой он пришел. На примере Па-стера М. Розов показал, что успех ученого был обусловлен комбинированием традиций химии и биологии.
Концепция побочных результатов исследования. Работая в традиции, ученый иногда случайно получает какие-то побочные результаты и эффекты, которые им не планировались. Так произошло, например, в опытах Л. Гальвани на лягушках. Заметить не планируемые, а потому непреднамеренные побочные эффекты ученый может только в силу их необычности для той традиции, в которой он работает. «Необычность» требует объяснения, что предполагает выход за узкие рамки одной традиции в пространство совокупности сложившихся в данную эпоху научных традиций.
Концепция «движения с пересадками». Побочные результаты, непреднамеренно полученные в рамках одной из традиций, будучи для нее «бесполезными», могут оказаться очень важными для другой традиции. М. Розов так характеризует эту концепцию: «Развитие исследования начинает напоминать движение с пересадкой: с одних традиций, которые двигали нас вперед, мы как бы пересаживаемся на другие». Именно так открыл закон взаимодействия электрических зарядов Кулон. Работая в традиции таких наук, как сопротивление материалов и теория упругости, он придумал чувствительные крутильные весы для измерения малых сил. Но закон Кулона мог появиться только тогда, когда этот прибор был использован в традиции учения об электричестве. Открытие Кулона — результат перехода ученого из одной исследовательской традиции в другую.
Рассмотренные примеры получения нового научного знания свидетельствуют о важнейшей роли научных традиций. Можно сказать, чтобы сделать открытие, надо хорошо работать в традиции. Новаций не бывает вне традиций.
§2. Научные революции как перестройка оснований науки
Этапы развития науки, связанные с перестройкой исследовательских стратегий, задаваемых основаниями науки, получили название научных революций. Главными компонентами основания науки являются идеалы и методы исследования (представления
378
Основы философии науки
