Рбк daily Политическая элита только делает вид, что готова к модернизации
| Вид материала | Документы |
- Экспертное сообщество как один из субъектов модернизации, 58.37kb.
- Выжидательный курс Поднебесной рбк daily Американский patriotism для поляков, 849.75kb.
- В России, 1529.31kb.
- Человек не плетет паутину жизни, он лишь ниточка в ней. Все, что он делает, он делает, 1796.39kb.
- Приложение к мониторингу сми 03. 10., 495.54kb.
- Мониторинг средств массовой информации 6 апреля 2011 года, 799.13kb.
- Грызлов Б. В. Мониторинг сми 19 февраля 2008, 2167.28kb.
- «Процессы над ведьмами в Западной Европе в 15-17 веках», 284.22kb.
- Петра Аркадьевича Столыпина, 150-летие со дня рождения которого отмечается в 2012 году., 174.9kb.
- Приложение к мониторингу сми 15. 08., 506.98kb.
Слово и дело: Приватизация по-российски
Владислав Иноземцев
Проект «Слово и дело» представляет собой обзор 12 направлений развития России и Китая. Первая тема — приватизация.
Приватизация, проведенная в России в начале 1990-х гг., до сих пор остается одним из самых противоречивых сюжетов экономических реформ. Понимание низкой эффективности государственной собственности появилось в СССР в конце 1980-х, на волне перестройки, однако попытки дополнить ее частной до поры до времени были весьма осторожными. В 1988 г. были легализованы кооперативы, в 1990-м — частные предприятия, тогда же стало можно организовывать частные банки. Однако в условиях плановой экономики новые предприятия имели меньший доступ к ресурсам и в итоге начали развиваться лишь в сфере торговли и посредничества — зарабатывая капитал для дальнейшего рывка.
Ситуация изменилась после краха СССР, когда в новой России прошло несколько волн приватизации. Во-первых, значительная часть небольших предприятий была передана трудовым коллективам и вскоре после этого оказалась у их директоров или выступавших с ними в партнерстве новых богачей. Во-вторых, в процессе «ваучерной» приватизации те, кто к тому моменту сумел накопить капитал, смогли претендовать на доли в крупных компаниях, ставших акционерными обществами. В-третьих, в первой половине 1990-х возникли возможности для обогащения на финансовых операциях, и часть заработанных там денег была вложена в покупку активов, от которых избавлялось правительство. В-четвертых, в 1996-1997 гг. власть провела масштабную уступку активов за деньги, требовавшиеся бюджету накануне президентских выборов 1996 г.; в итоге за $1,1 млрд крупные финансовые структуры установили контроль над предприятиями, позже составившими ЮКОС, «Норильский никель»,«Сибнефть» и некоторые другие крупнейшие компании.
В итоге этой волны к началу 1997 г. государственные предприятия составляли 16% от общей численности зарегистрированных юридических лиц; кроме того, в федеральной собственности находилось около 5000 пакетов акций, закрепленных в собственности Российской Федерации на различные сроки, а также чуть более 1000 «золотых акций». При этом 92% предприятий цветной металлургии были приватизированы еще в 1992 г., а 95% химической и нефтехимической — в 1994-м. В черной металлургии уже в 1994 г. на приватизированных предприятиях производилось 99% продукции. В 1996 г. было официально объявлено о полной приватизации легкой промышленности, а к 1997-му была завершена приватизация предприятий гражданского машиностроения, лесодобывающего и лесоперерабатывающего комплекса, промышленности строительных материалов и пищевой промышленности — включая производство алкогольных напитков и табачных изделий.
Приватизация в России на всех этапах омрачалась гигантскими нарушениями, выражавшимися прежде всего в занижении стоимости передаваемых в частные руки активов. Даже если не вспоминать «залоговые аукционы», можно обратиться к приватизации компании«Славнефть» в 1997 г., Тюменской нефтяной компании в 1999 г., Восточной нефтяной компании в 2002-м или местных энергосетей во второй половине 2000-х гг. Все это происходило потому, что российская приватизация решала не экономические задачи, а обусловливалась политическими причинами (стремлением разрушить старую систему и удержать власть в новой) и была призвана обогатить тех, кто был к ней причастен (с чем и справилась).
Как следствие, передача собственности в частные руки не привела к значительному повышению эффективности, а реальной конкуренции между частным и государственным секторами практически не возникло. Не случайно самыми успешными с точки зрения реального развития в России стали отрасли, возникшие не в результате покупки ранее существовавших активов, а появившиеся вследствие развития бизнеса с нуля: банковский сектор, сотовая связь и предоставление услуг интернета, логистика и розничная торговля. В то же время в производственной сфере реального роста приватизация не принесла — прежде всего потому, что основой нормальной рыночной экономики является не столько частная форма собственности, сколько свободная конкуренция, которой в большинстве отраслей промышленности России до сих пор нет.
В итоге можно констатировать, что приватизация нанесла тяжелый удар экономике страны. Во-первых, многие активы достались новым собственникам по ценам ниже их реальной стоимости, что в первые же годы привело к распродаже активов части предприятий и прекращению их работы. Во-вторых, низкая цена входа на рынок обусловила невнимание к перспективным целям и заложила основы того, что я называю финанциализацией, когда внимание обращается не на реальные показатели, а на текущую прибыль. В-третьих, дешевизна купленных в ходе приватизации основных фондов сделала бессмысленными всякие инвестиции в новое строительство соответствующих предприятий, так как они оказывались в заведомо проигрышном положении по сравнению с теми, кому активы достались за копейки. Именно поэтому у нас за 20 лет не построено практически ни одного нового крупного предприятия. В-четвертых, распродажа активов по дешевке «своим» в конечном счете ограничила приток на российский рынок иностранных капиталов.
Итоги известны: сейчас в России больше миллиардеров, чем в любой другой стране мира, кроме США, — зато мы производим в 1,32, 1,49, 1,95, 1,78, 1,21 и 1,28 раза меньше угля, стали, легковых автомобилей, цемента и бумаги, чем в 1985 г., а выпуск за тот же период грузовых автомобилей, зерноуборочных комбайнов, тракторов, часов и фотоаппаратов сократился соответственно в 5,87, 14,1, 34, 91 и 600 раз. Если в 1985 г. экспорт из СССР состоял из промышленной продукции (кроме металлов и минудобрений) на 37,8%, то сегодня из России — на 4,7%.
Почему результаты таковы? Прежде всего потому, что у власти не было стратегии роста. Кроме того, проявив безжалостное отношение к созданному трудом поколений национальному достоянию, государство указало другим, как с ним можно обращаться. Да и сегодня правительство пренебрежительно относится к своей собственности: владея активами на сотни миллиардов долларов, оно в 2010 г. собрало дивидендов от контролируемых им компаний на… 81,4 млрд руб. (в то время как прибыль одного «Газпрома» в 2009 г. составила 625 млрд руб.). Государство во многом устранилось в ходе приватизации из экономической жизни, надеясь, что частный сектор даст толчок развитию экономики. Но практика показала: ценится то, что заработано, а то, что пришло в руки по мановению волшебной палочки, эффективного роста не обеспечивает.
Слово и дело: Приватизация по-китайски
Фэн Шаолей
Развитие рыночных реформ в КНР преследовало своей целью не столь смену формы собственности, сколько обеспечение устойчивого экономического роста — ведь до начала реформ Китай был очень бедной страной.
В 1978 г., по самым оптимистическим оценкам, подушевой ВВП КНР по паритету покупательной способности не превышал $978 (против $18 400 в США и $6600 в СССР). При этом в 1978 г. номинальная зарплата рабочего в Китае составляла менее 1% от зарплаты рабочего в США или Японии, а до 250 млн человек жили за официальной чертой бедности. Весь экспорт оценивался в $10 млрд, а валютные резервы составляли $167 млн.
Толчок к отказу от тотального доминирования государственной и коллективной (а по сути — той же государственной) собственности дали два события: сначала «великий голод» 1959-1961 гг., жертвами которого стали миллионы людей, а несколько позже — события 1962 г. в Шэньчжене, откуда китайцы десятками тысяч попытались прорваться в Гонконг в поисках лучшей доли. В том же 1962 г. Дэн Сяопин заявил: «Какая форма производственных отношений самая эффективная, ту и надо избрать, какая форма в какой местности может достаточно легко восстановить и развить сельскохозяйственное производство, ту и надо избрать; какую форму народ желает видеть, ту мы и должны избрать, и если она незаконна — сделать ее законной». Эти идеи были реализованы гораздо позже, но осмысление их началось еще полвека назад.
После «культурной революции», в конце 1970-х гг. крестьянство, освобожденное посредством реформ, не только стало основой для стабильного развития сельского хозяйства (так как китайцы неизменно верят, что «если есть зерно, то и на сердце спокойно»), но и сформировало рынок для потребительских товаров, сделало возможным первоначальное накопление капитала, а также стало движущей силой процесса урбанизации (в 1978-1998 гг. население городов в среднем ежегодно увеличивалось на 14,5 млн человек). Со второй половины 1970-х начался приток иностранных инвестиций в Шэньчжень, Гуанчжоу и другие особые районы (причем около 80% составляли капиталы из Гонконга, Макао и Тайваня). Все это подготовило масштабные реформы 1990-х гг.
Масштабные перемены начались после знаменитого «южного турне» Дэн Сяопина в 1992 г. В Китае не слишком любят использовать термин«приватизация» — прежде всего потому, что классической приватизации в стране проведено не было. Правительство скорее допускало инвесторов на рынок для создания новых бизнесов, чем позволяло им бесконтрольно выкупать прежде принадлежавшие ему активы.
Причины понятны: с одной стороны, у небольших китайских компаний появились возможности инвестировать в расширение производства; с другой стороны, иностранные корпорации с 1979 по 2008 г. вложили в экономику страны $852,6 млрд, причем 81% этой суммы пришло из Азии, Европы и США. В Китае не государственный сектор сжимался в размерах, а частный сектор естественным образом расширялся. В итоге, если в 1978 г. на предприятия, находившихся в народной собственности, приходилось 77,6% промышленной продукции, а на «коллективные» — 22,4%, то в 2009 г. государственный сектор обеспечивает лишь 26,7% производимой продукции, 26,9% общей прибыли и 20,4% занятости, а частный — соответственно 29,6, 28,0 и 33,7%. Поэтому можно утверждать, что переход от огосударствленной экономики к диверсифицированной был достаточно быстрым и эффективным.
Особенно важно то, что Китай, выбрав свой особый путь приватизации, начал наступление не с госпредприятий, составлявших основу национальной экономики, а с деревни и мелкого бизнеса. Очень важную роль сыграло конструктивное взаимодействие с внешним миром: сегодня более половины от общего объема китайского экспорта обеспечивается компаниями с иностранным капиталом.
В 1990-е годы, которые стали переломными для китайской экономики, приватизировались в основном те государственные предприятия, которые не вписались в рынок, — причем делалось это обычно через процедуру банкротства. Государство стремилось сохранить за собой лишь высокодоходные и эффективные бизнесы. В результате сегодня оно контролирует табачную промышленность (на 100%), инфраструктурное строительство (на 90%), электроэнергетику (на 88%), нефтедобычу и переработку (на 85,5%), коммунальные услуги (на 67,8%), а также производство автомобилей (более чем на 40%). В большинстве отраслей обрабатывающей промышленности и строительстве госкомпании обеспечивают не более 20%, а в химической промышленности, производстве электроники и медицинских препаратов, пищевой промышленности — менее 20% валового продукта. В сфере услуг госкомпании в основном сосредоточены в финансовом секторе, а в оптовой и розничной торговле, в общественном питании, гостиничном бизнесе, пассажиро- и грузоперевозках они вообще не представлены.
Однако все это не значит, что государство ушло из экономики. Напротив, секрет китайского «экономического чуда» — в умелом сочетании государственного, частного и международного бизнеса. Среди 500 крупных государственных предприятий 63 — компании с годовой выручкой 100 млрд юаней и более, тогда как частных компаний такого масштаба в стране всего пять (Huawei, Shagang Group, Haier, Suning, Gome). Общая сумма прибыли 500 крупнейших частных фирм составила в прошлом году 217 млрд юаней — что меньше прибыли двух крупных госкомпаний — China Mobile и CNPC (249 млрд юаней). Более того, частный бизнес в КНР, хотя и является движущей силой экономики, подвергается серьезной конкуренции со стороны иностранных компаний, в то время как государственные корпорации от нее во многом ограждены. Сегодня в Китае нарастает дискуссия о том, каким должно быть оптимальное сочетание государственной, частной и иностранной собственности в экономике, но очевидно одно: масштабного перераспределения государственной собственности в КНР не произошло, и именно это стало основой для формирования конкуренции между различными формами собственности. (Перевод с китайского Алены Павловой)
Человек недели: Юрий Лужков
Максим Гликин
С бывшим мэром Москвы произошла странная история: из России его никто не гонит, тем не менее Юрий Лужков ищет пристанища в других странах. Причем там, где имеет наименьшие шансы его найти.
Конечно, с точки зрения Лужкова-бизнесмена вполне логично обращаться за грин-картой в Латвию, в банк которой он инвестировал небольшую часть своего капитала.
Но Лужков был когда-то еще и политиком. И громче всех в России кричал об ущемлении прав русских в Латвии, называл ее действия геноцидом, гнал с прилавков их шпроты. Возможно, экс-мэр об этом уже позабыл, но латвийские власти ему припомнили. И не пустили.
Такие конфузы происходят не только с немолодыми отставниками. Пару лет назад нечто подобное случилось с лидером «Наших» и главой РосмолодежиВасилием Якеменко. Как сообщили эстонские газеты, его не пустили в Европу, причем дважды. А все потому, что он попал в черный список эстонцев, не забывших, как «Наши» защищали Бронзового cолдата. Вопрос для Якеменко, видимо, стоял так остро, что Сергею Лаврову пришлось обсуждать его с эстонским коллегой. Официальный Таллин предложил компромисс: Якеменко станет въездным, если извинится. Но тот гордо через пресс-службу извиняться отказался.
Проблема будет разрастаться, если невъездными окажутся десятки российских чиновников — по «списку Магнитского», по «списку Ходорковского». И, судя по нервной реакции Москвы, наши госслужащие, привыкшие к отдыху и шопингу в Европе, никак не могут понять, в чем, собственно, проблема.
А она в том, что в России и Европе по-разному понимают, что такое политика и этика. Здесь считают, что можно не следить за словами и руками — лишь бы это не раздражало вышестоящее начальство. И убеждены также, что «бабло побеждает зло»: нет такого зла, которое нельзя было бы погасить небольшими инвестициями.
Но в Европе, где политиков выбирают, уверены, что те должны отвечать за слова и дела и не любую подлость можно закидать деньгами. И вот этот понятийный барьер, проходящий по западной границе России, раз за разом материализуется в виде шлагбаума для русских любителей лазурных берегов, шопинга и горных лыж.

Российский бизнес заинтересован в реализации ряда проектов в Афганистане - Примаков
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские бизнесмены настроены принять активное участие в восстановлении экономики Афганистана и заинтересованы в реализации в этой стране целого ряда проектов, сообщил президент
Торгово-промышленной палаты РФ Евгений Примаков.
"Представители российского бизнес-сообщества заинтересованы в реализации целого ряда проектов в Афганистане", - сказал он на встрече с президентом республики Хамидом Карзаем в пятницу.
Ранее в пятницу по итогам переговоров Карзая с президентом РФ Дмитрием Медведевым было подписано соглашение между правительствами двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве.
"Это знаковое событие (подписание соглашения) свидетельствует о стремлении России и Афганистана активизировать весь комплекс торгово-экономического взаимодействия", - заявил Примаков.
Он отметил, что Торгово-промышленная палата всегда делала и готова сделать еще больше для развития сотрудничества с Афганистаном.
"Наше сотрудничество осуществляется на основе уже подписанного соглашения о сотрудничестве. В отделении Торгово-промышленной палаты учрежден российско-афганский деловой совет, в состав которого входят различные компании, проявляющие интерес к афганскому рынку. При поддержке нашей палаты в Москве создан деловой центр, объединяющий, проживающих в России афганских предпринимателей. Таким образом, мы всецело содействуем и готовы содействовать развитию партнерских связей наших двух стран", - сказал он.
По словам Карзая, экономическое сотрудничество является одной из важнейших целей его визита в Москву.
" Афганистан и Россия давно сотрудничают друг с другом. В свое время Советский Союз оказывал большую экономическую поддержку Афганистану, а с 2001 года наши отношения приняли новое измерение", - сказал он.
По словам афганского лидера, важными сферами российско-афганского сотрудничества являются сельское хозяйство и химическая промышленность.
"Поскольку мы с Россией практически соседи, нам необходимо развивать и транспортные связи", - считает он.
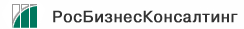
Президент Афганистана пообещал значительные выгоды иностранному бизнесу.
Работа в Афганистане может принести значительные выгоды иностранному бизнесу, заявил в ходе выступления в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ президент этой страны Хамид Карзай, сделав упор на важности российско-афганских отношений. "Мы признаем важность отношений с Россией. Афганистан - это свободный рынок, иностранный бизнес может получить значительные выгоды, работая в нашей стране", - сказал Х.Карзай.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день в стране удалось создать условия для привлечения инвестиций: создание стабильной валюты и ее поддержка за счет интервенций, накопление резервов иностранной валюты, организация собственной Торгово-промышленной палаты. Х.Карзай особенно подчеркнул привлекательность для зарубежных инвесторов минеральных ресурсов Афганистана, стоимость которых оценивается в 3 трлн долл.
Президент ТПП РФ Евгений Примаков, в свою очередь, отметил рост торгового оборота между двумя странами, но подчеркнул, что имеются пока не реализованные перспективы для их дальнейшего развития. "Пока торгово-экономическое сотрудничество далеко от идеала, но уже удалось нащупать конкретику, чтобы развивать эти отношения", - высказал мнение глава ТПП РФ. В частности, отметил Е.Примаков, учрежден российско-афганский деловой совет, а также создан деловой центр афганских предпринимателей в России. Среди предложенных российской стороной направлений сотрудничества - модернизация кабульского домостроительного комбината, а также совместная работа на ряде других афганских объектов.
