Ю. Борко, О. Буторина От Европейского Союза — к Соединенным Штатам Европы? Интеграционный опыт ес: особенное и общее
| Вид материала | Документы |
- П. А. Магомедова (ответственный редактор); д филол н., проф, 4672.63kb.
- Концепция обучения в течение всей жизни и опыт её реализации. Новые вызовы и возможности, 42.32kb.
- Конституция Европейского союза, 8718.76kb.
- Право европейского союза, 139.97kb.
- Методические рекомендации студентам по теоретическому изучению курса "Россия в мировой, 132.94kb.
- Шашихина Т. В часть корпоративное право европейского союза глава Источники корпоративного, 745.58kb.
- Журнал Европейского Союза «Европа». Февраль Энтин М. Л. Европейского права Юристы Европы, 314.51kb.
- Посвящается всем патриотам, разделяющим мою любовь к Соединенным Штатам Америки. Иособенно, 835.68kb.
- Расширение Европейского Союза и Россия //под ред. Буториной О. В., Борко Ю. А. М.:, 592.19kb.
- День европы в доннту, 232.66kb.
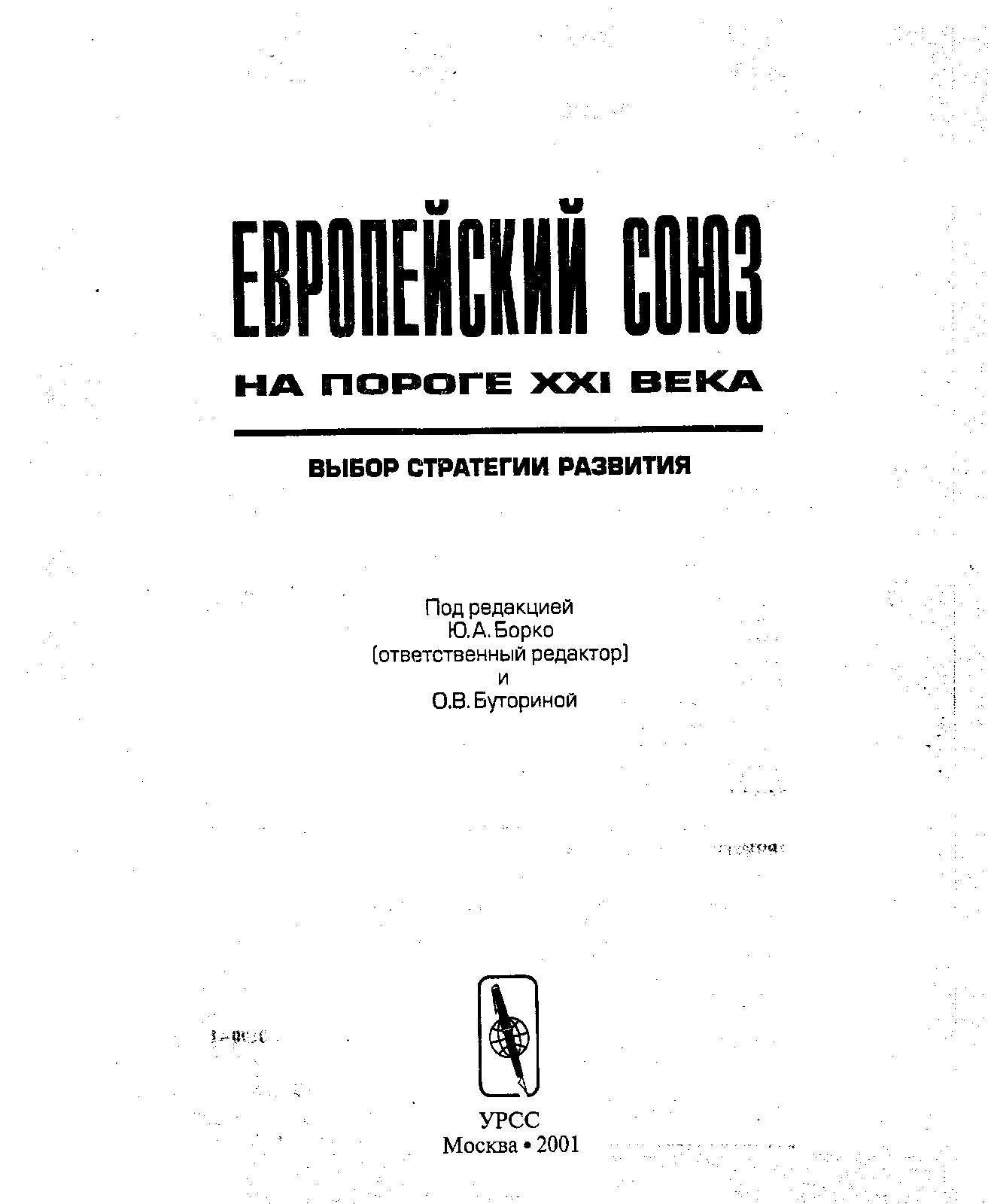
Стр.430-462
Ю.Борко, О.Буторина
От Европейского Союза — к Соединенным Штатам Европы?
Интеграционный опыт ЕС: особенное и общее
Прошло без малого пятьдесят лет с тех пор, как 18 апреля 1951 г. шесть стран: Франция, ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Италия, подписали в Париже Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) — первый из договоров, на основе которых впоследствии вырос Европейский Союз (два других основополагающих договора — о Европейском экономическом сообществе и о Европейском сообществе по атомной энергии были подписаны 25 марта 1957 г. в Риме). Европейские сообщества, выглядевшие при их создании как обычный утилитарный инструмент межгосударственного сотрудничества (история Европы знала десятки, если не сотни различных союзов) превратились по истечении полувека в мощнейшую систему, определяющую судьбу региона и его лицо в современном мире.
За многие годы у строителей единой Европы были внушительные успехи и серьезные неудачи, периоды расцвета и топтания на месте. Одно несомненно: объединение проявило удивительную жизнеспособность. Сейчас Евросоюз — самая крупная и развитая интеграционная группировка мира, по степени зрелости с ней не может сравниться ни один другой региональный блок. Даже наиболее сильные из них, такие как Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА) и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), не имеют столь мощной системы общих органов управления, тесных производственных и торговых связей между участниками, механизма единой политики в отношении третьих стран, не говоря уже о единой валюте.
Успех ЕС воодушевил не только специалистов и исследователей международных отношений. Именно ему идея интеграции во многом обязана той привлекательностью, которую она имеет теперь в глазах политиков и рядовых граждан как в Западной Европе, так и далеко за ее пределами. Опыт ЕС неоднократно пытались перенимать, в течение последних десятилетий в каждой части света появлялись свои интеграционные объединения. Тем не менее, пример Евросоюза так и остается единственным в своем
Oт Европейского Союза — к Соединенным Штатам Европы?
роде. Закономерно возникает вопрос: является ли история ЕС чем-то особенным, что не может повториться в другое время и в других условиях, или же она — одно из проявлений, пусть и очень своеобразных, универсальных законов интеграции?
Пройденный Сообществами путь достаточен для того, чтобы сделать некоторые выводы и обобщения. Не претендуя и в малой доле на то, чтобы высказывать истину в последней инстанции, авторы излагают здесь свое представление о законах, по которым функционирует интеграционный организм ЕС. Читатели вольны принять или оспорить предлагаемую точку зрения и на основе этого формировать собственный взгляд на обозначенную проблему.
Сначала хотелось бы сделать одно замечание. Широко распространилось мнение, что интеграция — непреложная общемировая тенденция, закономерная форма современного взаимодействия государств-соседей, магистральный путь их развития. Действительно, повсеместная тяга к региональной консолидации не вызывает сомнений: существующие группировки то и дело объявляют о новых совместных программах, в полный голос заявляют о себе новые объединения, как, например, Меркосур. Однако в то же самое время, порой на тех же территориях идут и обратные — центробежные процессы. Об этом убедительно пишет один из крупнейших российских специалистов по проблемам интеграции профессор Ю. В. Шишков1). Так, за последнее время Европа стала свидетельницей распада СЭВ, фрагментации Советского Союза, разъединения Чехословакии, кровопролитного раздела Югославии.
У дезинтеграции есть другие лики. Нередко созданные объединения существуют только на бумаге и в залах заседаний, в иных жизнь едва теплится. Очаги сепаратизма, как старые, так и новые — рядовое явление современности. И не только ее. Как тут не вспомнить развал грандиозной Британской империи (а заодно и зоны фунта), так же как крушение к середине XX века остальных колониальных империй. Аналогичными примерами изобилуют все предшествующие столетия. Создание объединений — такая же органичная черта истории, как и их распад.
Предпосылки интеграции
Европейская интеграция созревала и развивалась в особенных условиях. Не будь их, даже очень разумная коллективная политика едва ли позволила бы Сообществам настолько продвинуться вперед. Примечательно, что ни в одной из других группировок мира нельзя найти такой комбинации факторов, благоприятствующих интеграции, которыми располагает ЕС. Наиболее важными из них являются следующие: 1) высокоразвитая рыночная экономика;2) полицентрическая структура; 3) особая культурная и историческая общность.
Высокоразвитая рыночная экономика. В западноевропейском контексте данная предпосылка имеет три составляющих, каждая из которых весьма значима. Первая — наличие высокоразвитого промышленного потенциала, без которого невозможны внутриотраслевая кооперация и торговля. Сообщества зародились в период, когда Европа только оправлялась от чудовищных последствий войны. Однако даже в условиях разрухи будущие члены ЕС представляли собой самую передовую в индустриальном плане часть континента и занимали по этому показателю второе место в мире. Интеграция нужна была для того, чтобы укрепить производственную мощь, а не создавать ее впервые. И это очень важно.
Как показывает практика, возможности создать интеграционное объединение и последующие результаты интеграции напрямую связаны с уровнем промышленного развития государств-участников. Интеграция между слаборазвитыми бедными странами — дело и вовсе безнадежное. Так, в послевоенные годы в Азии, Африке и Латинской Америке интеграционные объединения росли, как грибы. И что же? Названия большинства из них знакомы только специалистам. Обширные программы остались благими пожеланиями по одной простой причине — из-за отсутствия между странами разделения труда в промышленности2). Как бы ни хотелось объединиться, обмен кокосов на бананы — не основа для интеграции. Достаточно рядового неурожая или падения мировых цен на один из товаров, чтобы подобный союз развалился.
По этому поводу Ю. В. Шишков справедливо указывает: «история интеграционных усилий в Западной Европе и других регионах мира показала, что взаимное притяжение и сращивание национальных хозяйств рыночного типа возможно лишь по достижении ими достаточно высокого уровня технико-экономического развития, когда в структуре производства стран-партнеров преобладает обрабатывающая промышленность... И наоборот, интеграция объективно противопоказана странам аграрно-сырьевого профиля, производящим не столько взаимодополняющие, сколько конкурирующие друг с другом продовольственные товары, топливо, сырье и т. п.» Страны, экспортирующие продукцию с невысокой степенью обработки, объективно не заинтересованы во взаимной торговле и, следовательно, интеграции. Будучи конкурентами по отношению друг к другу, они, по сути, не имеют мотивов для взаимного снижения таможенных барьеров и открытия рынков3*.
Только специализация и, соответственно, кооперация в технически сложных производствах накрепко привязывает партнеров друг к другу. Если разные страны являются звеньями единой технологической цепи, отношения между ними могут выдержать самые жестокие политические штормы. Результатом такой взаимозависимости является интенсивное развитие не столько межотраслевой, сколько внутриотраслевой торговли. В период формирования ЕЭС у всех его членов доля внутриотраслевой торговли в общем товарообороте с партнерами уже составляла от 40 до 60 %, теперь она в большинстве стран колеблется от 60 до 80 %4).
Способность государств-участников удовлетворить потребности других в высокотехнологичной продукции — важнейшее условие целостности группировки, залог того, что никто из них не отдаст предпочтения партнерам извне. Не случайно в Юго-Восточной Азии торговля и промышленное сотрудничество в основном идут через Японию и ориентируются на новые индустриальные центры: Гонконг, Южную Корею, Тайвань. Участники интеграционных объединений в Латинской Америке невольно сохраняют привязку к США. Эту тягу практически невозможно сдержать (если речь не идет об административных мерах) или адекватно компенсировать, поскольку в ее основе — хозяйственная целесообразность, естественное стремление к развитию. Нет ничего удивительного в том, что вслед за распадом СССР бывшие его республики стали переориентировать внешнюю торговлю на более развитых соседей. Если во времена СССР они были волей-неволей привязаны к поставщикам из самого Союза или из стран СЭВ, то сейчас выбор неизмеримо расширился. Импорт из промышленно развитых стран позволяет насытить потребительский спрос и, главное, открывает возможности для повышения технологического уровня производства.
Вторая составляющая — рыночный тип хозяйства. На момент создания Европейских сообществ все участвовавшие в них государства уже имели за плечами несколько веков развития в условиях рыночной, капиталистической экономики. У рыночных традиций и правового государства были глубокие корни. К ним приспособилось и привыкло население, культура рыночных отношений давно стала неотъемлемой частью национальной культуры.
Почему рыночная экономика важна для интеграции? Дело в том, что интеграция между регионами или странами с рыночной экономикой развивается за счет межфирменных связей, которые образуют длинные производственные цепи, простирающиеся по территории многих стран. Возникающая из них паутина кор-порационных отношений, по сути, не подвластна правительствам, которые не могут нарушить или переориентировать существующие торговые и финансовые потоки и способны оказывать на них лишь косвенное влияние И, наконец, третья составляющая рассматриваемой предпосылки — однородность институциональной структуры экономики западноевропейских стран. Еще в советскую эпоху исследователи интеграции пришли к важному заключению о том, что «интеграция возможна лишь в пределах группы государств с однородной социально-экономической системой, с единым способом производства»5). В самом деле, тип интеграции напрямую зависит от типа производственных отношений, поэтому едва ли можно представить, как смогут интегрироваться два государства, в одном из которых цены на товары формирует рынок, а в другом — правительство; в одном сырье и готовые изделия свободно продаются, а в другом — распределяются государством; в одном предприятия находятся в частной собственности, в другом — в государственной.
Опыт АСЕАН и Меркосур, где в ряде стран сохраняются докапиталистические, феодальные формы хозяйствования, свидетельствует, что такая неоднородность представляет собой одно из серьезнейших препятствий на пути интеграции. Надо признать, что пока в мире нет примеров успешной интеграции стран с непохожими хозяйственными укладами.
Полицентрическая структура. У ЕС есть еще одна крайне полезная для интеграции черта — наличие в группировке нескольких сильных стран примерно одного калибра. Вначале это были Франция, Германия и Италия. Потом к ним добавилась Великобритания и, отчасти, Испания. Именно это дало возможность создать полицентрическое объединение.
Данная особенность Евросоюза уникальна. Аналогичной ситуации нет пока ни в одной другой интеграционной группировке мира. Например, в НАФТА Мексика и Канада несравнимо больше ориентированы на США, чем друг на друга. В СНГ на Россию приходится половина населения и 2/3 совокупного ВВП всех 12 стран-членов. В Меркосур Бразилия дает 60 % общего ВВП. В АСЕАН ВВП распределяется более равномерно6), однако разница в благосостоянии там огромна: например, в Малайзии ВВП на душу населения в 10 раз меньше, чем в Сингапуре, и в 5 раз больше, чем в Индонезии.
Полицентрическая структура является необходимой для создания в группировке наднациональных структур. В противном случае никак не получается сколько-нибудь справедливо распределить голоса в законодательном органе. Если соотнести их с численностью населения и экономическим весом, это приведет к фактическому диктату государства-лидера, тогда как мелкие страны, не имея рычагов влияния на ситуацию, потеряют всякий интерес к интеграции. Если распределить голоса по принципу «одна страна - один голос», то крупнейшее государство не сможет адекватно представлять интересы своего населения на уровне объединения. Это относится и к общему бюджету.
Но и в Евросоюзе проблема разнокалиберности является одной из самых взрывоопасных. Малые страны протестуют против засилья крупных, а те, в свою очередь, недовольны тем, что в руководящих органах квоты малых стран завышены. Так, один депутат Европарламента избирается от 820 тыс. немцев и от 320 тыс. датчан. В Совете за одним голосом Германии стоит 8 млн человек, а за голосом Ирландии — 1 млн. Как Евросоюз будет принимать решения после присоединения новых стран — большой вопрос.
Вместе с тем, наличие надгосударственных органов — не обязательное условие интеграции. Сотрудничество между странами вполне может развиваться на основе двусторонних и многосторонних контактов. Так, НАФТА и АСЕАН обходятся без наднациональной структуры. Решения принимаются не централизованно, а на межгосударственном уровне. Это, конечно, исключает общий темп интеграции и дисциплину, зато дает простор для маневра, избавляет малые страны от диктата, лидеров — от экономического бремени, а всех вместе — от громоздкой бюрократии. Правда, в таком случае, интеграция имеет заметные ограничения. Без обязательных для всех решений трудно представить себе общую экономическую и тем более денежно-кредитную политику, равно как и коммунитаризацию других направлений сотрудничества. Страны АСЕАН, объединившиеся в 1967 г., только в 1992 г., то есть спустя четверть века, приняли решение о формировании в течение 15 лет зоны свободной торговли. НАФТА существует в виде соглашения о свободной торговле, ни о каком таможенном или экономическом союзе речи не идет. Аналогичную форму организации имела и действовавшая до недавнего времени Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), внутри которой Великобритания значительно превосходила остальных участников по экономической мощи и численности населения.
Особая культурная и историческая общность. Европа — единственная часть света, где в условиях чрезвычайно высокой плотности населения испокон веков соседствовали десятки национальностей, народов и государств. История Европы — это не только бесконечные опустошительные войны, но и многовековое совместное существование. Многонациональная густонаселенная Европа, ограниченная в землях и сырьевых ресурсах, гораздо раньше других регионов мира столкнулась с необходимостью освоить приемы межгосударственного коллективизма. Недаром первые коллективные деньги (общие монеты Ганзы) были отчеканены здесь в 1392 г. — за полвека до появления печатного станка. Идея объединения Европы имеет глубокие исторические корни. 21 августа 1849 г., выступая на третьем конгрессе мира в Париже, Виктор Гюго говорил: «Настанет день, когда мы воочию увидим два гигантских союза — Соединенные Штаты Америки и Соединенные Штаты Европы, которые... ради всеобщего благоденствия сочетают две необъятные силы — братство людей и могущество бога!»7).
Однако именно в Европе традиционная система национального государства начала в XX веке приносить плоды, напоенные ядом крайнего национализма и агрессии; оборотной стороной национального суверенитета стали фашизм и подавление прав человека. Вторая мировая война показала, что региону нужна такая система международных отношений, которая перенесла бы на межгосударственный уровень уже укоренившиеся во многих странах правила демократии, принципы разделения властей и противовесов, свойственные правовому государству. Настало время ограничить национальный суверенитет международными рамками, другого способа перекрыть дорогу тоталитаризму и злоупотреблениям государственной власти не оставалось. Один из руководителей сопротивления Леон Блюм писал в 1941 г.: «эта война должна, наконец, породить сильные международные учреждения и привести к созданию долговременных и эффективных международных органов власти, в противном случае обязательно последуют другие войны»8). Первым шагом к реализации идеи стал договор о ЕОУС. По замыслу создателей, его главной задачей было положить конец вековому противостоянию Франции и Германии и установить контроль над стратегическими тогда отраслями — угольной и сталелитейной.., Одним из вдохновителей плана был Робер Шуман — министр иностранных дел Франции, уроженец Лотарингии, воевавший в Первую мировую войну в частях германской армии.
Таким образом, в основу интеграции были положены такие накопленные к тому времени «активы» западноевропейского общества, как сформировавшееся правовое государство, многовековой опыт совместного существования народов, культурная и во многом религиозная общность, давние традиции европейской идеи и, наконец, горькие уроки Первой и Второй мировой войн. Из этих «кирпичиков» строился специфический западноевропейский менталитет послевоенного периода, который в значительной степени способствовал поиску взаимоприемлемых решений и преодолению. конфликтов, неизбежных на интеграционном пути.
Завершая обзор предпосылок интеграции в ЕС, нельзя не вспомнить, что к объединению Западную Европу толкали и хозяйственные беды. За годы войны она растеряла былой экономический потенциал. Колонии в Африке и Азии начали требовать независимости. Тем временем США, всю войну поставлявшие продукцию антигитлеровской коалиции, превратились в бесспорного мирового лидера. Оборотной стороной плана Маршалла вполне могла стать глубокая экономическая и политическая зависимость западноевропейских стран. Невольным стимулом для их интеграции явился также раскол континента на два враждующих лагеря, появление НАТО, СЭВ и Варшавского Договора. Однако эти факторы были дополнительными, сами по себе они не смогли бы привести к созданию Сообществ и обеспечить их выживание в дальнейшем.
Интеграционные технологии
Нынешние достижения Евросоюза — результат многотрудной разработки философии и стратегии интеграции, их последовательной, подчас буквоедской реализации при помощи практических механизмов, которые развивались вместе с объединением, а также результат уроков, извлеченных из многочисленных ошибок и конфликтов.
Концепция и практика интеграционного строительства ЕС держатся на трех основополагающих принципах: 1) интеграция — средство, а не цель; 2) интеграция требует постепенности; 3) интеграции нужен адекватный механизм.
Интеграция не цель, а средство. Данный тезис имеет два аспекта. Первый — интеграция предполагает взаимную выгоду. Создавать интеграционное объединение имеет смысл только в том случае, когда у стран-членов (помимо объективных предпосылок для интеграции) имеются потребности, которые легче удовлетворить вместе, и когда эти потребности во многом совпадают. В условиях рыночной экономики основой интеграции становятся рыночные силы и мощная хозяйственная необходимость. Чтобы представлять для участников устойчивый интерес, интеграция должна нести элемент технологической новизны. В Западной Европе начали с объединения стратегических тогда отраслей — угольной и сталелитейной, перед ЕОУС ставилась задача ускорить их модернизацию, так как от этого зависел подъем машиностроения.
Будучи коллективным инструментом, интеграция предполагает коллективные методы управления. В рамках объединения одна страна или группа стран не может постоянно навязывать свою волю другим членам (в данном аспекте речь не идет о коллективной дисциплине, которой государства-участники подчиняются по собственной воле, и также из соображений целесообразности). На опыте ЕС видно, что принцип «кто платит, тот заказывает музыку» в интеграции не проходит. Германия, например, не может провести в Совете выгодное ей решение, не вступив в коалицию, по крайней мере, с еще четырьмя государствами, хотя ее нетто-взнос в бюджет ЕС неизмеримо больше, чем вклады других участников.
В интеграции нет места как диктату, так и иждивенчеству. Более слабым странам, конечно, может выделяться помощь из коллективных фондов, что соответствует принципам международной солидарности, однако эти средства должны идти на четко оговоренные цели, а не на рутинное латание прорех в бюджете. В целом объем такой помощи ограничен не финансовыми возможностями благополучных участников группировки, а их готовностью израсходовать средства на реализацию своих собственных (очевидно, средне- и долгосрочных) целей, связанных с социальным и экономическим сплочением интеграционной группировки. Другими словами, они будут платить за развитие более слабых партнеров, если считают, что это способствует консолидации объединения и что они выигрывают от этой консолидации (в частности, за счет улучшения инвестиционного климата, углубления рынков сбыта, социальной и политической стабильности). Если благополучные государства не видят выгод от подобной солидарности, то принуждать их к таким выплатам и аморально и бесполезно.
Второй аспект: интеграция — не панацея, не волшебное средство для решения всех экономических проблем. Она — лишь дополнительный инструмент для достижения экономических, социальных и политических целей. Участие в региональной группировке может стимулировать хозяйственный рост в стране, и задача национальных правительств — извлечь максимальную выгоду от использования такого катализатора, хотя это далеко не всегда достижимо. Показателен пример Греции: после 19 лет пребывания в Сообществе она по-прежнему остается наименее развитой (в хозяйственном плане) его частью, и это, несмотря на массированную помощь из бюджета ЕС. В течение последнего десятилетия ВВП на душу населения увеличился в Греции на 5 тыс. евро, тогда как в среднем по ЕС он вырос на 7 тыс. евро; иначе говоря, абсолютный разрыв между Грецией и другими членами Сообщества стал больше.
Интеграция требует постепенности. В течение первых шести лет (с 1951 по 1957 гг.) европейцы занимались одним единственным направлением — угольной и сталелитейной промышленностью. На нем обкатывались механизмы интеграции, выяснялось, смогут ли вообще коллективные интересы взять верх над индивидуальными. Когда процесс дал результаты — пошли дальше. Чтобы создать таможенный союз, участники ЕЭС «притирались» друг к другу 11 (!) лет — он появился лишь в 1968 г. Координировать валютную политику начали в 1972 г. — через 15 лет после подписания Римских договоров.
Практика ЕС (более, чем практика других интеграционных группировок мира) свидетельствует, что в интеграции, как в любом деле, есть свои законы развития, которые невозможно обойти. Простейшая форма интеграции — зона свободной торговли, при которой страны-участники отменяют торговые барьеры между собой, но сохраняют собственную политику в отношении третьих стран. Если к этому добавить единый внешний таможенный тариф, получится таможенный союз. Следующий шаг — общий рынок, или единое экономическое пространство. В нем свобода передвижения товаров (таможенный союз) дополняется свободой передвижения услуг, капиталов и лиц. В ЕС он появился только в 1992 г. — 35 лет спустя после образования экономического сообщества. Высшая стадия интеграции — валютный союз с единой денежной единицей, общей экономической, денежно-кредитной и валютной политикой. Путь к ней занял у ЕЭС более 40 лет.
Об этой закономерности интеграционного строительства в российской научной литературе писалось уже многократно. И все-таки хочется повторить: «Региональная интеграция, сколь ни была бы она необходима, не терпит поспешности. Любые попытки нарушить последовательность задач или действий, перепрыгнуть через этап и т. п., как правило, оборачиваются неудачей и зачастую дискредитацией самой идеи интеграции. Такие примеры есть и в истории ЕС. Но в целом оно придерживалось принципа, который звучит просто и даже банально — продвигаться "шаг за шагом"»9). Действительно, страны ЕС не раз поддавались соблазну подхлестнуть интеграцию. Первый проект валютного союза — так называемый «план Вернера» — был выдвинут еще в 1970 г. В соответствии с ним, государства-члены должны были твердо зафиксировать курсы национальных валют и, возможно, перейти к единой валюте уже в 1980 г. План провалился не только из-за разразившихся мировых финансового и энергетического кризисов, но и из-за того, что страны ЕЭС попросту не дозрели для подобного шага. В Сообществе не было никаких механизмов координации важнейших макроэкономических показателей: темпы инфляции, процентные ставки, цели и инструменты экономической политики существенно отличались от страны к стране.
Интеграции нужен адекватный механизм. Нынешний успех Европейского Союза — результат мучительного согласования позиций, поиска компромиссов и непрерывного лавирования. Без этого успех объединения наверняка был бы невозможен. Не случайно в 60-е и даже в 70-е гг. многие, как в самом ЕЭС, так и за рубежом, не воспринимали Сообщество всерьез — идея Соединенных Штатов Европы издавна считалась безнадежной утопией.
Органы ЕС — Комиссию, Совет и Европарламент — часто называют бюрократическими и неповоротливыми; случаются, как это было в 1998 г., и обвинения в коррупции. Однако надо признать, что Евросоюз не смог бы функционировать без системы институтов, специальной нормативной базы, практических методов и процедур, которые создавались и совершенствовались десятилетиями. Несмотря на громоздкость, институциональная система ЕС в целом выполняет свои главные цели. Первая — не дать существующим противоречиям заглушить коллективные интересы, рассматривать их не как тупик, а как вызов и источник развития. Вторая — принимать решения, в которых были бы сбалансированно представлеOт Европейского Союза — к Соединенным Штатам Европы? 431
роде. Закономерно возникает вопрос: является ли история ЕС чем-то особенным, что не может повториться в другое время и в других условиях, или же она — одно из проявлений, пусть и очень своеобразных, универсальных законов интеграции?
Пройденный Сообществами путь достаточен для того, чтобы сделать некоторые выводы и обобщения. Не претендуя и в малой доле на то, чтобы высказывать истину в последней инстанции, авторы излагают здесь свое представление о законах, по которым функционирует интеграционный организм ЕС. Читатели вольны принять или оспорить предлагаемую точку зрения и на основе этого формировать собственный взгляд на обозначенную проблему.
Сначала хотелось бы сделать одно замечание. Широко распространилось мнение, что интеграция — непреложная общемировая тенденция, закономерная форма современного взаимодействия государств-соседей, магистральный путь их развития. Действительно, повсеместная тяга к региональной консолидации не вызывает сомнений: существующие группировки то и дело объявляют о новых совместных программах, в полный голос заявляют о себе новые объединения, как, например, Меркосур. Однако в то же самое время, порой на тех же территориях идут и обратные — центробежные процессы. Об этом убедительно пишет один из крупнейших российских специалистов по проблемам интеграции профессор Ю. В. Шишков1). Так, за последнее время Европа стала свидетельницей распада СЭВ, фрагментации Советского Союза, разъединения Чехословакии, кровопролитного раздела Югославии.
У дезинтеграции есть другие лики. Нередко созданные объединения существуют только на бумаге и в залах заседаний, в иных жизнь едва теплится. Очаги сепаратизма, как старые, так и новые — рядовое явление современности. И не только ее. Как тут не вспомнить развал грандиозной Британской империи (а заодно и зоны фунта), так же как крушение к середине XX века остальных колониальных империй. Аналогичными примерами изобилуют все предшествующие столетия. Создание объединений — такая же органичная черта истории, как и их распад.
Предпосылки интеграции
Европейская интеграция созревала и развивалась в особенных условиях. Не будь их, даже очень разумная коллективная политика едва ли позволила бы Сообществам настолько продвинуться вперед. Примечательно, что ни в одной из других группировок мира нельзя найти такой комбинации факторов, благоприятствующих интеграции, которыми располагает ЕС. Наиболее важными из них являются следующие: 1) высокоразвитая рыночная экономика;
ны интересы различных сторон, и доводить их до исполнения.
Система институтов ЕС основывается на пяти главных принципах.
1. Сочетание институтов двух типов — межгосударственных и наднациональных. Лица, входящие в органы первого типа, действуют от имени и по поручению государств-членов, в органах второго типа их члены действуют независимо, хотя и выдвигаются государствами-членами. Такой двойной принцип помогает сохранять баланс сил между интересами отдельных государств и интересами Союза в целом.
2. Гибкое разделение компетенций между институтами ЕС и национальными правительствами. В одних направлениях интеграции все определяют наднациональные органы (сельскохозяйственная, торговая, денежно-кредитная политика); другие относятся к сфере смешанной компетенции: часть вопросов решается на уровне ЕС, часть — на уровне национальных правительств (региональная, научно-техническая, социальная политика); в третьих (экологическая, культурная политика) — Сообщество лишь координирует действия государств-членов. В 90-е гг. был сделан новый шаг к более четкому и юридически оформленному разделению функций между различными уровнями принятия решений. В Маастрихтский договор был включен принцип субсидиарности; в соответствии с ним, на более высокий уровень передается решение тех вопросов, которые не могут быть эффективно решены на более низком уровне. Конкретно были выделены четыре уровня — местный, региональный, национальный и наднациональный, т.е. в масштабе всего Союза.
3. Многообразие типов принимаемых нормативных актов. Так, регламенты имеют прямое действие и вступают в силу сразу на всей территории ЕС; директивы также обязательны для исполнения на всей территории ЕС, но средства их реализации выбираются государствами-членами; решения как тип нормативного документа касаются только поименованных адресатов; заключения носят рекомендательный характер.
- Примат права ЕС над национальным правом государств-членов в пределах, определяемых основополагающими договорами. Главным источником права ЕС являются три Договора, учредившие Европейские сообщества: Единый европейский акт, Договор о Европейском Союзе (Маастрихтский), Амстердамский договор, а также договоры о присоединении к ЕС новых государств-членов10).
- Обеспечение участия общества и его поддержки курса на развитие европейской интеграции. В рамках институционной структуры ЕС эту задачу решают такие органы как Европейский парламент, Экономический и социальный комитет, Комитет регионов. В сущности, такую же роль играют Конфедерация европейских профсоюзов, объединения политических партий, а также предпринимателей и фермеров государств-членов ЕС. Индикатором уровня поддержки населением планов и деятельности институтов ЕС служат регулярные опросы, проводимые специальной службой «Евробарометр».
Опыт создания институциональной системы и правовой базы интеграции в ЕС, конечно, не следует возводить в абсолют. Другие интеграционные группировки могут что-то заимствовать из него, а что-то делать совсем иначе, тем более что на стадиях, предшествующих таможенному союзу (как в НАФТА или АСЕАН), мощная наднациональная надстройка не требуется. Важно следующее: механизм интеграции должен соответствовать этапу интеграции, специфике объединяющихся государств и быть в состоянии разрешать те противоречия, которые неизбежно возникают в процессе интеграции.
Противоречия интеграции
На протяжении всех лет своего существования Сообществу приходилось маневрировать между опасностями, которые подстерегают любую интеграционную группировку. Их нельзя обойти раз и навсегда, они возникают снова и снова. Опыт ЕС дает хорошее представление о том, какие проблемы несет в себе интеграция. Кроме хорошо известных разногласий между отдельными странами, секторами экономики и частями общества, возникает четыре узла постоянных противоречий: 1) общие (коммунитарные) и национальные интересы, 2) федерализм и национальный суверенитет, 3) единство и разные скорости, 4) общественное мнение.
Несовпадение общих и национальных интересов проявилось еще в ходе переговоров о создании ЕОУС. Будущие участники были согласны, что для успешного развития угольной и сталелитейной промышленности необходимо устранить таможенные барьеры в торговле продукцией этих отраслей. Когда дело дошло до практических шагов, Франция и Бельгия упорно не хотели открывать свои рынки для экспортеров из соседних стран, опасаясь, что национальные производители не выдержат конкуренции. Эта ситуация повторилась в еще большем масштабе при учреждении ЕЭС и Евратома.
Предметом постоянных разногласий становятся взносы в общие фонды ЕС, хотя никто не вступает против принципа финансовой солидарности. Дело в том, что ряд стран постоянно являются нетто-получателями средств, тогда как другие остаются чистыми донорами. В 1980 г. в ЕЭС разыгрался настоящий финансовый кризис: Великобритания отказалась выплачивать свой взнос в бюджет Сообщества, считая его неоправданно большим. Несколько месяцев органы ЕЭС буквально лихорадило, пока, в конце концов, они не согласились уменьшить финансовое бремя Великобритании в обмен на уступки с ее стороны.
В 1997-1998 гг. Испания почти на год затянула принятие Пятой рамочной программы научно-технического развития ЕС. Она настаивала, чтобы расходы на рамочную программу были согласованы только после утверждения сметы структурных фондов ЕС. Являясь главным получателем помощи из этих фондов, Испания опасалась, что ее интересы будут ущемлены после приема новых членов из Центральной и Восточной Европы, и поставила подпись под решением Совета, только получив искомые гарантии. В 1999-2000 гг. Великобритания блокирует решение о налогообложении евробондов, усматривая в нем угрозу для оборотов Сити. Перечень аналогичных примеров продолжить.
Противоречие между национальным суверенитетом и федерализмом также является неотъемлемой чертой интеграции. По мере развития ЕС круг вопросов, которые решаются наднациональными органами, неминуемо расширяется. Это значит, что национальные правительства все чаще должны подчиняться коллективной воле, в том числе интересам других стран-членов. Одновременно органы ЕС вынуждены отходить от практики единогласных решений и заменять ее принципом простого или квалифицированного большинства. Иначе интеграционное объединение станет малоуправляемым и потеряет мобильность.
Между тем, передача на наднациональный уровень функций, традиционно связываемых в общественном мнении с понятиями государственности и суверенитета, всегда проходит очень болезненно. В 1965-1966 г. в ЕЭС с этим был связан тяжелейший кризис: Франция не соглашалась с решением других стран внедрить в Совете принцип голосования большинством. В течение семи месяцев ее представители не являлись на заседания руководящих органов Сообщества. В результате так называемого Люксембургского компромисса единогласное голосование все-таки было сохранено.
Дилемма «европейская идея — национальная идентичность» проявилась уже в ЕОУС. Великобритания отказалась вступить в объединение, посчитав, что его акты слишком связывали действия британского правительства. Ратификация Договора вызвала в парламентах повсеместные споры 6 целесообразности приносить в жертву суверенитет ради идеи, последствия которой тогда виделись весьма смутно. Позже это повторилось в период подготовки Римских договоров. В 90-е гг. дискуссия о соотношении наднациональности полномочий и национального суверенитета возобновилась в связи с планами создания экономического и валютного союза. В ряде стран — Дании, Франции, Великобритании — дебаты носили острый характер. Идея федерализации Европейского Союза и сейчас вызывает в обществе различную реакцию — от безусловного одобрения до самой резкой критики.
Проблема единства и нескольких скоростей возникла в ЕС в свя- зи с созданием валютного союза: Маастрихтский договор впервые предусмотрел возможность интеграции на разных скоростях, оговорив право Великобритании и Дании сохранить национальную валюту. До того времени все участники ЕС продвигались вперед в едином темпе, новым членам полагалось в течение переходного периода подтянуться до уровня остального состава группировки. Как будет решаться эта проблема после грядущего расширения ЕС на восток — сказать трудно. Вероятное разделение Евросоюза на «элитную» и «второсортную» части может радикальным образом изменить лицо интеграции. В других региональных группировках данная проблема способна остро проявиться на гораздо более ранних стадиях, потому что большинство из них объединяет страны с существенными различиями в уровнях благосостояния. Из-за этого стремление наиболее развитых стран перейти к следующим ступеням интеграции может вступить в противоречие с возможностями и интересами сравнительно бедных государств.
На примере ЕС хорошо видно, какую значительную роль может сыграть в интеграции общественное мнение. Не раз уже сверстанные * планы Брюсселя и национальных правительств блокировались или оказывались под угрозой срыва из-за недооценки мнения «человека с улицы». Такие проявления интеграции как открытие внутреннего рынка, сужение национального суверенитета, приток иммигрантов из соседних стран группировки — все это вызывает болезненную реакцию населения. Проявляется она в разных формах: от бурных уличных протестов до вежливого «нет» на референдуме. Например, в Дании для присоединения страны к Договору о Европейском Союзе потребовался повторный референдум, а во Франции голоса сторонников и противников Договора распределились почти поровну. Норвегия дважды доводила до благополучного конца переговоры с ЕС о вступлении, и дважды уже готовые договоры были отвергнуты населением. Отсюда следует, что руководство регионального объединения и национальные власти должны поддерживать постоянную связь с гражданами. В противном случае это будет означать пренебрежение принципами демократии, из-за чего интеграция рискует лишиться общественной поддержки.
Суммируя предшествующий анализ, попытаемся сделать выводы относительно общих черт, проявившихся в западноевропейской интеграции и свойственных интеграционному процессу вообще.
Вывод первый: для создания и развития интеграции нужны соответствующие предпосылки. Судя по имеющемуся мировому опыOт Европейского Союза — к Соединенным Штатам Европы? 431
роде. Закономерно возникает вопрос: является ли история ЕС чем-то особенным, что не может повториться в другое время и в других условиях, или же она — одно из проявлений, пусть и очень своеобразных, универсальных законов интеграции?
Пройденный Сообществами путь достаточен для того, чтобы сделать некоторые выводы и обобщения. Не претендуя и в малой доле на то, чтобы высказывать истину в последней инстанции, авторы излагают здесь свое представление о законах, по которым функционирует интеграционный организм ЕС. Читатели вольны принять или оспорить предлагаемую точку зрения и на основе этого формировать собственный взгляд на обозначенную проблему.
Сначала хотелось бы сделать одно замечание. Широко распространилось мнение, что интеграция — непреложная общемировая тенденция, закономерная форма современного взаимодействия государств-соседей, магистральный путь их развития. Действительно, повсеместная тяга к региональной консолидации не вызывает сомнений: существующие группировки то и дело объявляют о новых совместных программах, в полный голос заявляют о себе новые объединения, как, например, Меркосур. Однако в то же самое время, порой на тех же территориях идут и обратные — центробежные процессы. Об этом убедительно пишет один из крупнейших российских специалистов по проблемам интеграции профессор Ю. В. Шишков1). Так, за последнее время Европа стала свидетельницей распада СЭВ, фрагментации Советского Союза, разъединения Чехословакии, кровопролитного раздела Югославии.
У дезинтеграции есть другие лики. Нередко созданные объединения существуют только на бумаге и в залах заседаний, в иных жизнь едва теплится. Очаги сепаратизма, как старые, так и новые — рядовое явление современности. И не только ее. Как тут не вспомнить развал грандиозной Британской империи (а заодно и зоны фунта), так же как крушение к середине XX века остальных колониальных империй. Аналогичными примерами изобилуют все предшествующие столетия. Создание объединений — такая же органичная черта истории, как и их распад.
Предпосылки интеграции
Европейская интеграция созревала и развивалась в особенных условиях. Не будь их, даже очень разумная коллективная политика едва ли позволила бы Сообществам настолько продвинуться вперед. Примечательно, что ни в одной из других группировок мира нельзя найти такой комбинации факторов, благоприятствующих интеграции, которыми располагает ЕС. Наиболее важными из них являются следующие: 1) высокоразвитая рыночная экономика;
ту, можно выделить три обязательных условия: 1) основу экономики стран-участниц должна составлять обрабатывающая промышленность; интеграция аграрно-сырьевых стран нецелесообразна и мало реальна в практическом плане; 2) участники формируемой группировки должны иметь однородное социально-экономическое устройство; многоукладность экономики — сильнейший тормоз интеграции; 3) нужна сильная политическая воля всех объединяющихся государств.
Назовем еще три фактора, которые оказывают существенное влияние на ход интеграции, определяют естественные пределы ее ,«, потенциального роста. 1) Наличие высокоразвитого промышленного производства открывает двери для внутриотраслевого разделения труда и задает центростремительную направленность экономическому сотрудничеству. 2) Развитая рыночная экономика позволяет создать прочную сеть межфирменных связей, не зависящих от экономического курса правительств и политических перемен. 3) Полицентрическая структура необходима для формирования полномочных наднациональных институтов и продвижения к развитым "& формам интеграции.
Вывод второй: интеграция ведет к возникновению противоречий, которые свойственны самой ее природе. Эти противоречия никогда не исчезают насовсем и возникают на разных стадиях во все новых и новых формах. Чтобы они не привели к распаду объединения, ему необходимо иметь адекватный механизм разрешения споров и текущего согласования позиций сторон. Кроме того, интеграция должна быть взаимовыгодной и постепенной, отступление от первого принципа грозит развалом группировки, а искусственное «подстегивание» процесса не приносит реальных плодов, кроме разочарования и впустую потраченных средств.
И последнее: успех интеграционного объединения напрямую зависит от того, соответствуют ли его цели возможностям и интересам сторон, и может ли оно дать каждому из участников столько выгод и преимуществ, чтобы компенсировать связанные с интеграцией издержки.
