Анисимов О. С. Понятие "методология" во мнении методологов о методологии*
| Вид материала | Документы |
- Анисимов О. С. Методология и наука XXI века, 493.34kb.
- Лекции (28 ч.), 186.92kb.
- Лекции (32 ч.), 187.68kb.
- Методология и методика исторического исследования, 36.8kb.
- Нові надходження за 2011 рік Випуск, 179.23kb.
- Евгений Анисимов, 60.08kb.
- 1992 2010 Анисимов О. С, 2098.68kb.
- Искусство костюма и текстиля» м «Логика и методология исследований в дизайне», 12.88kb.
- Программа государственного междисциплинарного экзамена 2006-2007 учебный год, 258.32kb.
- Программа курса методология истории д филос н., проф. Антипов Г. А. Новосибирск 2004, 62.35kb.
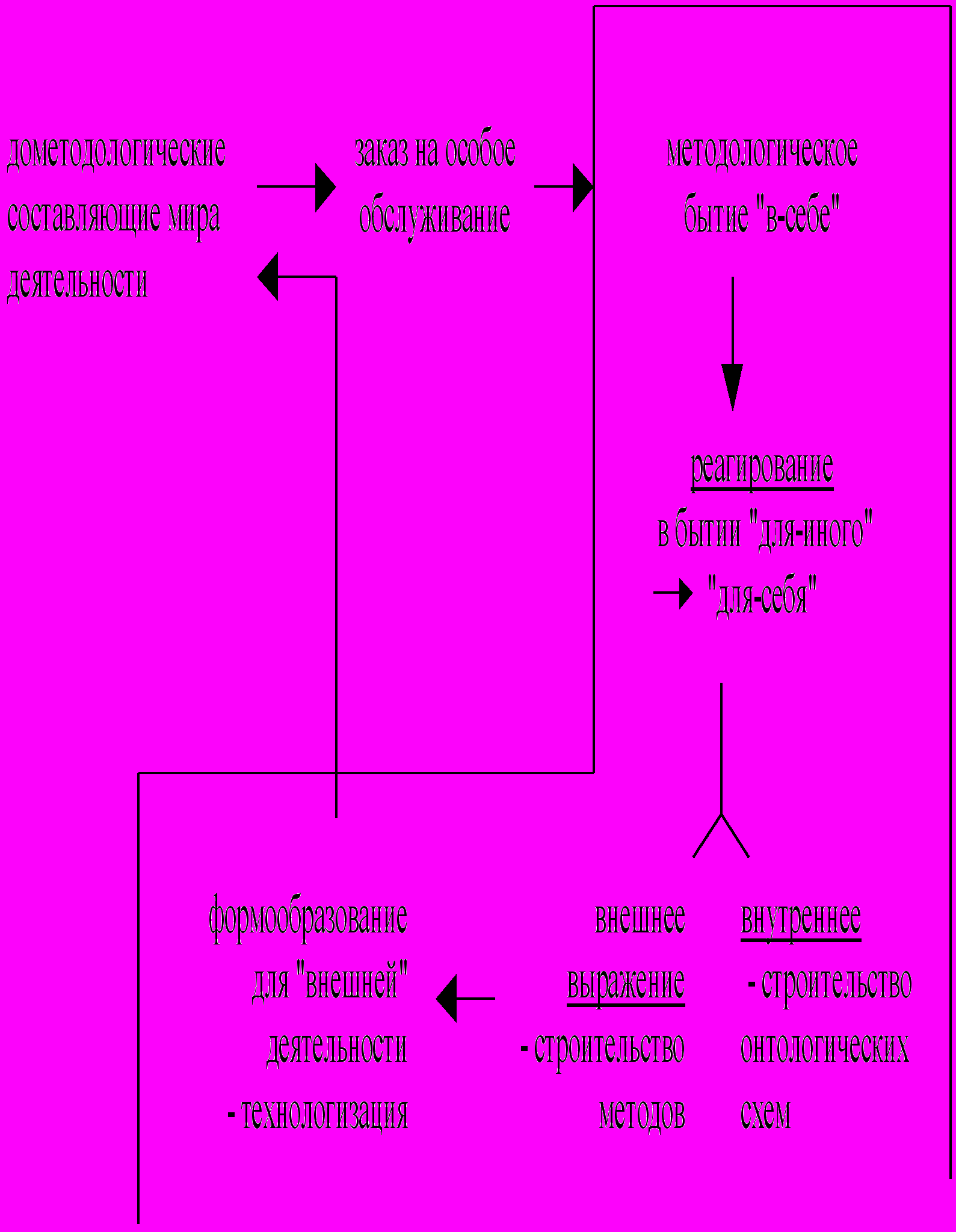
Схема 23
Тем самым, универсальность методологического мышления нужно обнаружить внутри методологической позиции по объему того, что замещается и по потенциалу замещаемости, по мощности этого мышления. Методологическое мышление имеет своим прототипом теоретическое мышление, которое так же не поглощает эмпирический материал, а замещает его и затем лишь соучаствует в судьбе этого материала и всей целостности науки. Именно немецкая классическая философия, особенно Гегель, раскрыли все эти мыслительные соотношения на основе учения о духе. Кроме того, само теоретическое мышление имеет свои и функцию, и процессы, и механизм, организованность. В пределах механизма мышления теоретика, мы видим роль средств, языковой парадигмы, правил оперирования средствами в синтагматике и зависимости механизма и уровня совершенства механизма от мощности средств и логических форм, "правил". Точно так же и методологическое мышление по своей мощности зависимо от тех языковых средств теории деятельности, пользуясь которыми, оно строит онтологические схемы и методы (см. сх. 24):
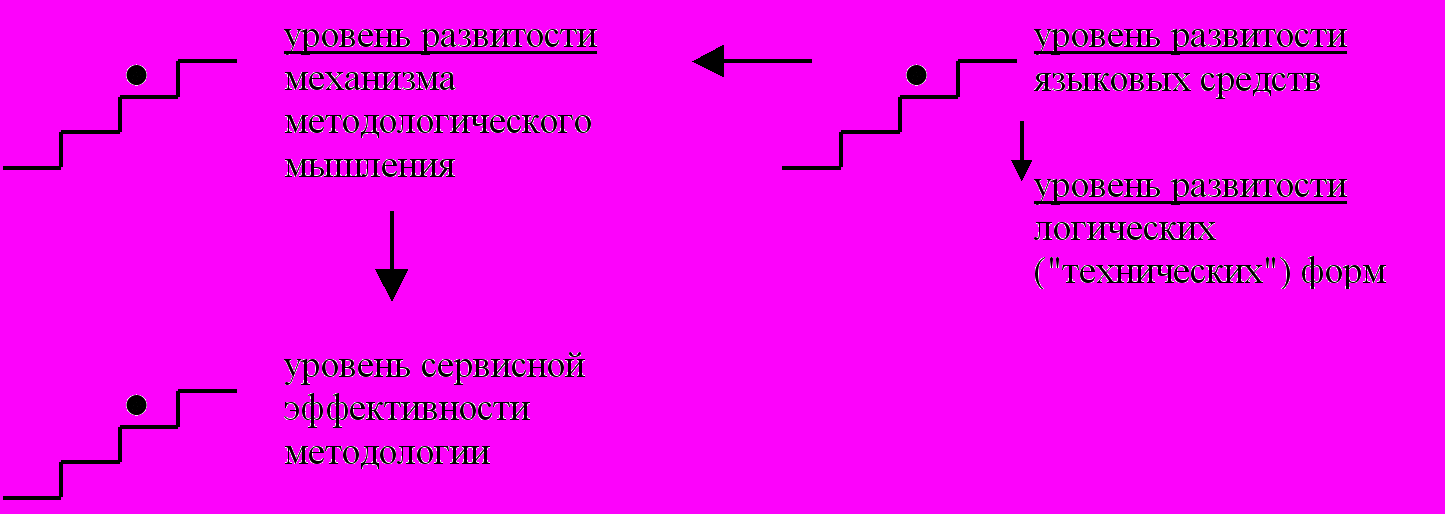
Схема 24
Тем самым, методологическая ответственность перед дометодологическими партнерами сводится к эффективности результатов самопроявления методологии, ее бытия "для-иного", тогда как сама методологическая деятельность заинтересована не в демонстрации рутины, бесконечного оперирования своими средствами. Она заинтересована не в обслуживаемости внешнего в синтагматике, а в совершенствовании своего потенциала, сосредоточенного в парадигматике, развитии парадигматики. Поводом для этого развития выступают затрудения в синтагматике из-за недостаточной мощности парадигмы (см. сх. 25):
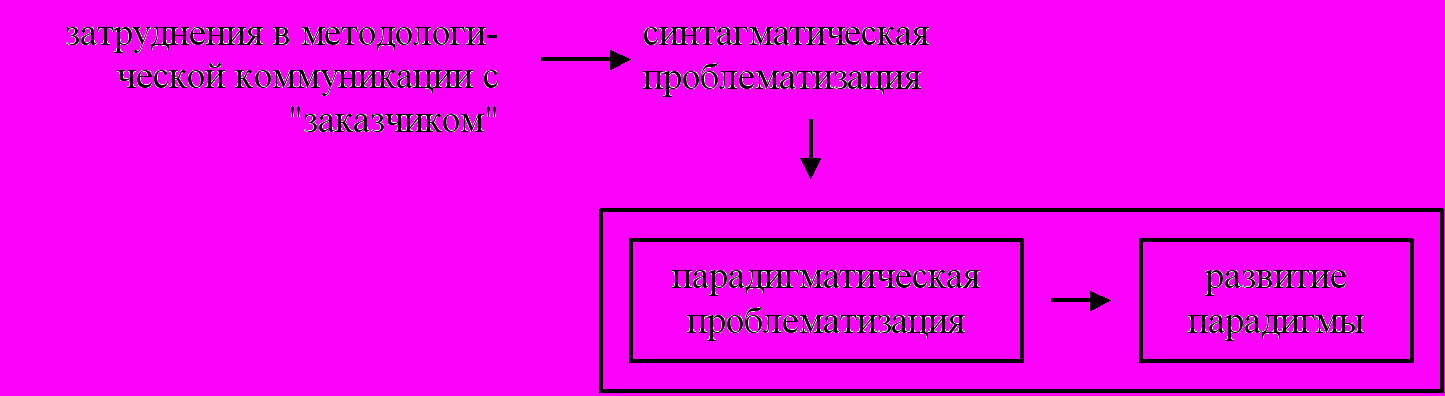
Схема 25
Именно в этом и состоит осмысленность тезиса о методологической продуктивности, усмотренной не только в методах (синтагматика типа "для-иного"), но и в средствах (парадигматика типа "в-себе" и "для-в-себе"). И тогда функционирование методологии связано с методологическим производством парадигматического, а не синтагматического типа, тогда как развитие методологии связано с совершенствованием механизма развития парадигматики. Здесь нет интересов самого по себе внешнего, для практики, оргпроектирования, программирования, управления и т.п. Участие в этом выступает лишь включением в общую кооперативную связь, особую "социализацию" методологии. Об этом же говорит и склонность относить методологию к слоям воспроизводства и развития культуры, а не самой по себе практики. Развитие практики является необходимостью дометодологической, существовавшей всегда. Иное дело в том, как именно эта функция реализуется. Также как есть функция развития познания, но еще до появления выделенного теоретического звена и оформления всего механизма научного познания.
Тем самым, мы не можем согласиться с размытостью границ функции методологии, методологического типа деятельности и мышления. Если предписания, проекты средств как последних оснований организации и развития деятельности рассматриваются в качестве методологических продуктов, то это относится к бытию механизма методологической деятельности, мышления, мыследеятельности, но не к самому развитию и организации деятельности. Функция методологии в рамках кооперативной связи состоит в создании "последних оснований", также как вне кооперативной связи она состоит в укреплении "последних оснований" создания оснований (см. сх. 26):
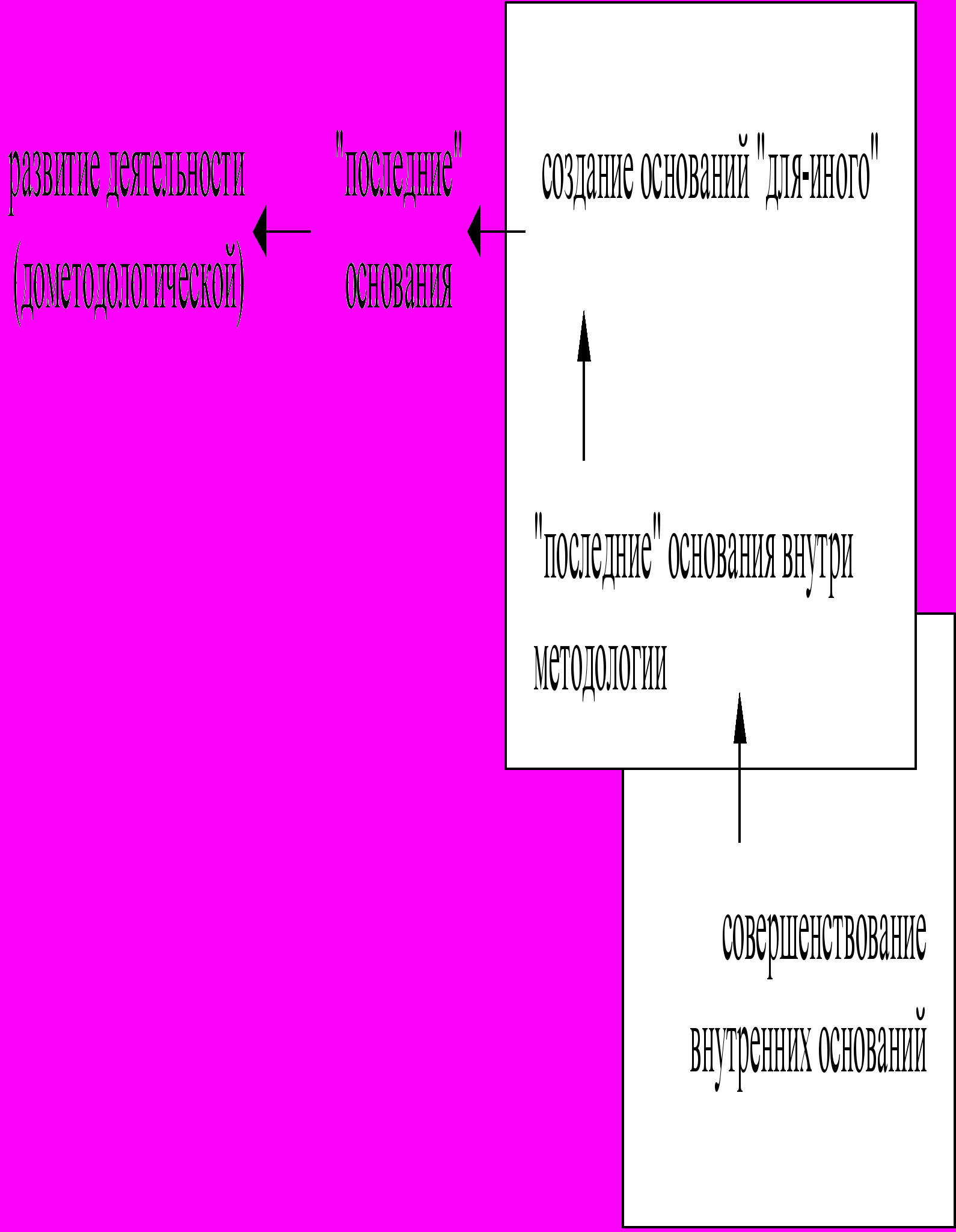
Схема 26
В этой формуле видны черты мысли Маркса, который анализировал эффективность производства в зависимости от средств и производства этих средств за счет использования средств производства средств (см. также нашу книгу: "Маркс – экономическая онтология, метод, мир деятельности"). Никто не станет требовать от средств инструментального производства их прямого участия в производстве средств потребления или применения стратегических, экстремальных сил в условиях решения тактических задач. Точно также средства и формы проблематизации парадигм языка теории деятельности не стоит непосредственно применять при коррекции парадигматически значимых синтагм, высказываний в мыслекоммуникации. Именно такими функциональными различиями можно осмыслить отличия понятий от категорий, так как категории предназначены для конструирования понятий как средств построения собственно мыслекоммуникативных высказываний. Совершенствование категорий лишь подготавливает более совершенное построение понятий, но не занимается самим конструированием понятий, хотя и извлекает повод к своему "действию" через критический анализ практики конструирования понятий. В точке зрения
Г.П. Щедровицкого такого иерархирования и жесткости методологического самоопределения мы не находим.
В точке зрения Б.В. Сазонова сохраняется внешняя устремленность к развитию и саморазвитию, к проблематизации и депроблематизации ситуации, хотя и через "развитие и создание" средств совместной деятельности. Если сохранить такую устремленность, то все формы участия в развитии и саморазвитии, в которых есть разработка средств деятельности и мышления, согласование и организация деятельности с помощью этих средств, нужно назвать методологическими. Следует подчеркнуть, что само понимание "развития", "саморазвития", "средств" деятельности и мышления в методологии и в дометодологических формах аналитики (наука, прогнозирование, проектирование, консультирование и т.п.) достаточно различается. Философия, особенно в послегегелевский период, во многом анализировала и входила в отношения развивающего типа, имела как понятийные различения о подобных явлениях, так и их вовлечение в ход анализа проблемных ситуаций. Но моменты содержаний онтологем, понятий, категорий внутри философского "пространства" и рефлексии мышления, культуры, языка, развития и т.п. не принадлежали еще собственно методологическому пространству, функциональному месту, механизму методологической деятельности и мышления. Они лишь подготавливали почву для возникновения методологии.
Б.В. Сазонов отмечает специфичность методологической деятельности, наличие "своего" предмета анализа, своей сервисной бытийности, создание средств совместной деятельности. Однако, у него нет вполне определенной черты, разделяющей "внешнее", "внутреннее" для методологии, характера реагирования внутреннего на внешнее с соблюдением принципа сохранения внутреннего, различия между чувствительностью методологии на внешние призывы и ее законной нечувствительностью и т.п.
Следует отметить, что до периода проведения ОДИ и, особенно, до начала "перестройки", методология достаточно отчетливо соблюдала свои интересы как фрагменты культуры, чаще всего, предлагая проекты и программы коренного реформирования науки, образования, логики, философии и т.п., вне прямого заказа на преобразования. При этом удавалось, в значительной степени, сохраняться по образу своих действий. В то же время и тогда различительные линии были начертаны лишь предварительно и многие могли воспринять выдвижение этих проектов и программ как "внутреннее изделие" методологии. После начала игрового периода и, особенно после 1985-1986 гг., в благоприятной среде множества заказов на игры и возможности их финансового обеспечения, уровень определенности разграничительных линий стал неуклонно снижаться.
В.М. Розин подчеркивает ряд особенностей методологического мышления. Например, это приоритет мышления над онтологией, понятийный характер рассуждения, включенность рефлексии, схематизации мышления и деятельности самих методологов, распредмечивания мышления в поликультурных условиях. Действительно, онтологии появляются в ходе методологического мышления, в слое синтагматики и подготавливаются к отчуждению от мышления. Поэтому приоритет должен даваться основанию, а не основанному, мышлению, а не онтологии. Но и само мышление имеет своим основанием парадигматику, базисные средства построения мышления, высказываний и формы этих процессов, формные абстракции – "правила логики". Чтобы построить высказывание и достичь намеченной цели, решить задачу, вовремя реагировать на препятствия, затруднения, нужна рефлексивная самоорганизация. Но и рефлексия является основанным, а не основанием, так как парадигма и выступает как внутреннее основание, не имеющее персонификации, а поводом к синтагматическому реагированию предстает необходимость выразить в языковых средствах содержание внешнего напряжения, внутренней и позиционно адекватной интенции. Само распредмечивание является "растворением" синтагматической организованности в парадигматическом основании построения любых организованностей синтагм при фиксированных требованиях и формах определенного типа синтагм. Аналогично этому, в синтетической онтологии языка "растворяются" онтологии отдельных предметов и получают вторичную предметность через соотнесение онтологии языка с типовой предметной фокусировкой и однородностью набора материала для его языкового выражения. Также и в "метафизиках" философского характера "растворяются" частно-предметные онтологии. Распредмечивание означает замещение предметных представлений языковой онтологией во вполне определенном месте этой надпредметной онтологии. Но это замещение, если оно не теряет зависимости от внешних обстоятельств, заказов, зафиксированных содержательных проблем, является временным условием возврата в скорректированную предметизацию, является перепредмечиванием, построение предмета в ответ на заказ и как условие депроблематизации.
Тем самым и у В.М. Розина не находится разграничение между внутренним и внешним методологии, а указанные особенности остаются периферическими для "собственно" методологии, отражающими реальное усложнение мышления в методологии. Если многие такие особенности и не присущи, либо присущи не совмещенно для дометодологического мышления, то они выступают как исторические образцы "чего-то", названного методологией вне строгой и определенной исходной характеристики, дающей другим законный характер. Самоопределение здесь остается эмпирическим, без введения "сущности".
Эмпирическими и периферическими являются характеристики методологического мышления и самих методологов в мнении и А.А. Тюкова, подчеркивающего чистую рефлексивность, ее субъективное принятие методологами, свободу мысли, плюрализм сознания, протекание мышления в полипредметном и полипозационном пространстве, непризнание границ сознания. Указание на проблематизацию также еще не специфично для методологии, так как критическая ориентация существует и в науке, в управлении, в трансляциях и т.п., составляя лишь предпосылку появления методологии. Сама проблематизация создает лишь повод для инвентаризации языковых средств, могущих обеспечить проблематизацию и депроблематизацию, для коррекции набора средств парадигматического типа. Подобным образом в науке "давление" новых эмпирических материалов, осознание необходимости их теоретического освоения создает повод для проверки теорий на возможность отреагировать на повод. И только при определенных условиях, необходимость перестроения теории ведет к проблематизации самих оснований, понятий, а затем и категорий, как оснований инструментально-парадигматического типа. И оформление социальных инноваций в культурных средствах не является, собственно, методологическим "производством", производством конечных оснований. Еще менее определенной является точка зрения В.Л. Даниловой, так как выбор категорий, онтологем, типов знания для дискурса, может происходить и вне методологической позиции. Ее характеристики остаются исторически-процессуальными вне функционального первоначала.
Содержание мнения А.П. Буряка неоднородно. Если методология является механизмом построения частных философий, то она не обладает самостоятельностью и обслуживает решение философских проблем, интегрируясь в целое философствования и философского мышления. Это не противоречит вхождению методологической деятельности в кооперативные отношения с философской деятельностью, решение сервисных задач, обеспечения процесса создания "частных" философий. Но само построение частных философий является внутренним процессом в философии. Совсем иная направленность у методологии, если она анализирует сферы деятельности, в том числе и философские звенья этих сфер. Но анализ деятельности, сфер деятельности может производиться и вне методологии, в практике дометодологической формы рефлексии. Здесь нет специфики бытия методологии. Даже в том случае, если осуществляется проектирование, разработка миссий, стратегий, присутствие методологии не является обязательным, так как все эти виды мышлений и разработок производятся лишь за счет помещения в рефлексивные типы позиций – проектировщика, стратега и тому подобное, а не за счет собственно методологизации (см. сх. 27):
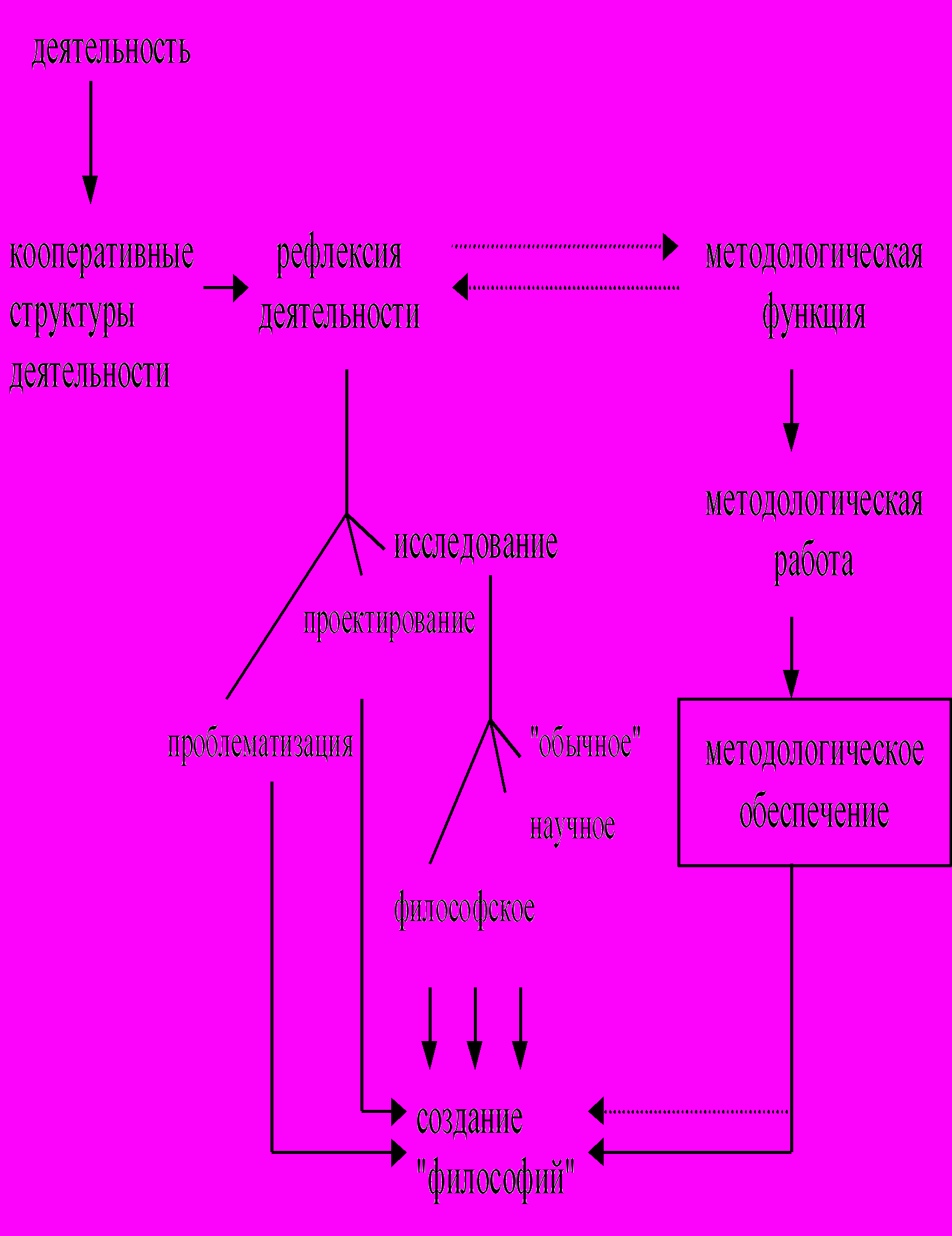
Схема 27
При обращенности к сфере культуры и акцентировке на функциональное предназначение разрабатываемых в методологии средств, методов, онтологий, можно говорить о "хранении" созданных единиц. Но это должны быть и единицы в "своем" звене культуры, рефлексивной культуры, что не совпадает с философским осмысливанием культуры, построением философии культуры, не обязательно подчиненным методологическим требованиям и, тем более, не помещенным во внутрь методологической позиции, сферы методологии. Иначе говоря, и здесь границы между внутренним и внешним для методологии указаны весьма неявно, неопределенно, что придает неопределенность введению функционального места методологии.
Неопределенность "самоопределения " и "самополагания" методологии остается и у В.В. Мацкевича. Если объектом методологии выступает мышление, даже если оно предстает как полиобъектная организованность, специфика методологии не видна в отличие, например, от логики и науки о мышлении. Исследование мышления, в том числе и "комплексирующееся", и исследование деятельности различаются по объекту изучения, если не введены соотношения между мышлением и деятельностью и не разъяснено расположение мышления в деятельности или деятельности в мышлении. Тем более, если упоминаемые междисциплинарные коллективы найдены или не найдены в целостности деятельности или мышления, необходимо еще найти объект изучения для методологии, после чего в нем можно отыскивать и мышление, и деятельность, и коллективы, методы мышления и деятельности и т.п. (см. сх. 28):
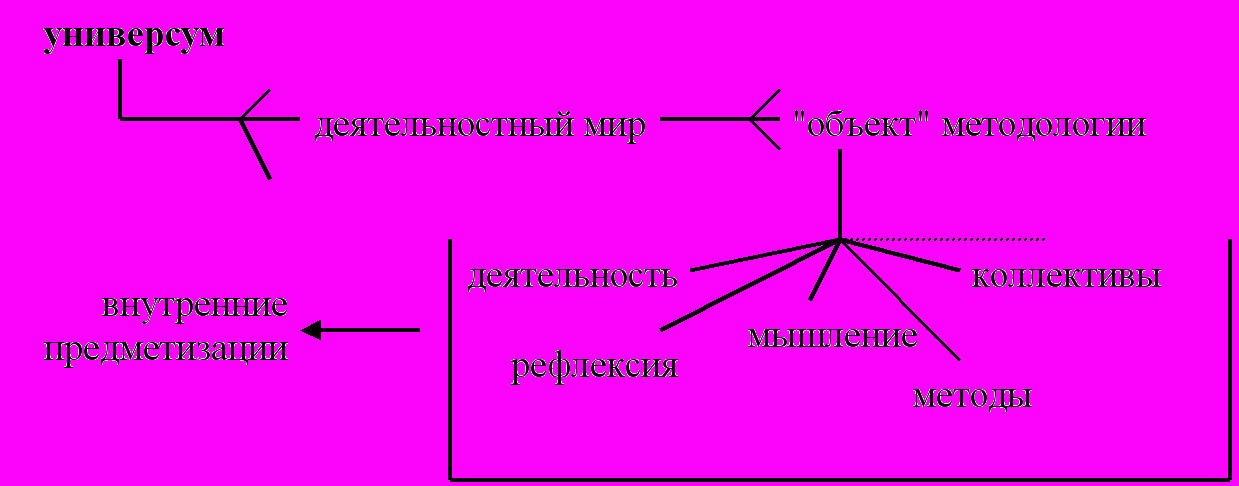
Схема 28
Все, что сказано, может быть находящимся "внутри" методологии и стать основанием для внутренней предметизации, если найдены функция, место, организованность методологии.
В.В. Мацкевич утверждает, что методология предполагает место для парадигматизации элементов (целей, ценностей, этических норм и др.). Но, чтобы была парадигматизация, требуется перевести содержание целей, ценностей, этических и иных норм в содержание текстов, схем, синтагм в языке теории деятельности, проверить "размещенность" целей, ценностей, этических и иных норм внутри методологического пространства, присущность методологии, а затем осуществлять, собственно, выделение парадигматических единиц как средств построения любых синтагм в рамках методологического мышления. Все это не замечается в данном воззрении.
Важной для методологии выступает мысль В.В. Мацкевича о том, что методология оперирует функциональными местами, а не содержаниями как наполнениями этих мест. Именно в методологическом обеспечении любой рефлексии любой деятельности в центре внимания находится выявление деятельностных функций того, что анализируется. Для этих выявлений, придающих сущностный статус анализируемому, и требуются специальные средства методологии и способы их применения. Переход от функционального анализа к морфологическому и организованностному является вторичным (см. сх. 29):
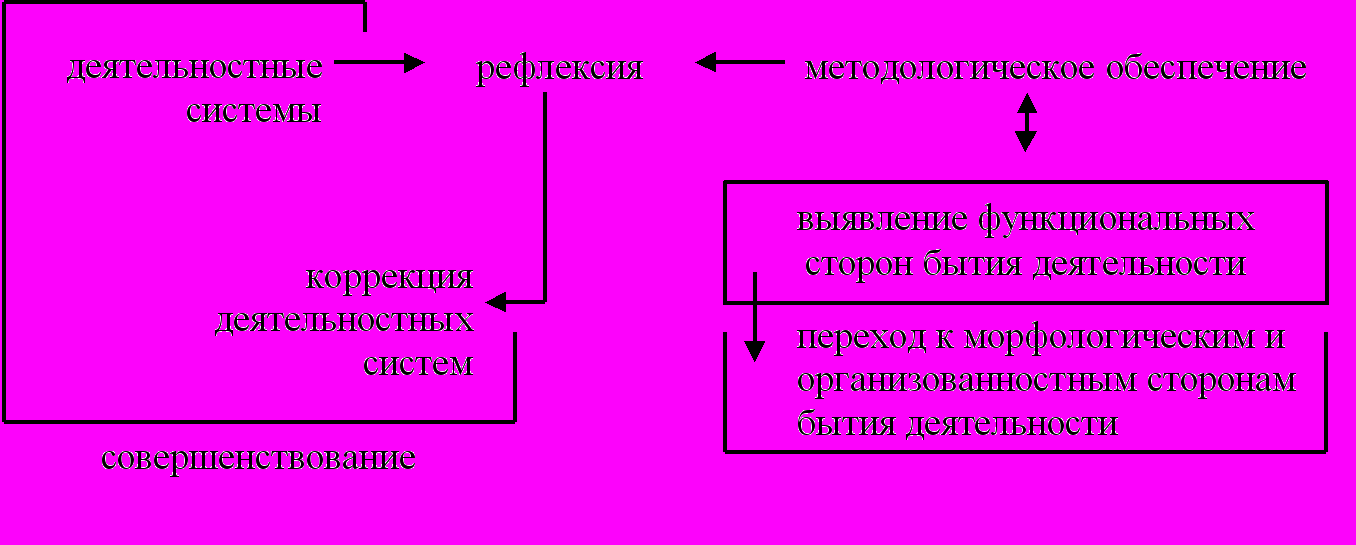
Схема 29
Однако, подобные переходы не раскрываются в иерархии приоритетов и самого механизма методологического бытия, даются мимоходом, как "очевидные". Справедливым является и указание на комплексирование реалистической и номиналистической установок. Номинализм имеет своим основанием организационно-мыслительный характер существования любых средств методологического мышления, так как само мышление подчиненно охватывающему деятельностному бытию методолога, его включенности в кооперативно-деятельностные отношения, в зону "практического разума". А реалистическая установка базируется на реализации функции отражения и онтологического статуса применяемых средств методологического мышления (см. сх. 30):

Схема 30
Практичность разума проявляется в базисной установке на проблематизацию, оспаривание правомерности прошлой практики как соответствующей "идее", в том числе и проблематизацию, о которой говорит В.В. Мацкевич, "любого подхода". В этом состоит интенциональность, "предвзятость" методологии. Действительно, если рефлексия, как предпосылка методологии, по функции предполагает нахождение причин, имеющихся или возможных затруднений, а по механизму предполагает проблематизацию соответствия реальной деятельности ее "сущности", "идее", "функции" в конкретных исторических условиях, то методология придает этой установке неслучайность, принципиальность. Тем более, что содержательность неслучайности деятельности, функционально значимое выражение неслучайности и выражена в подходе. Для придания неслучайности практике деятельности нужно обеспечить, прежде всего, неслучайность реализуемого подхода, вклад в достижение которой и вносит методология с ее возможностями проблематизации в рамках потенциала применяемых средств и методов. "Предвзятость" методологии как раз и состоит в неслучайном и "упорном" применении соответствующих средств в обнаружении расхождения между реальным и идеальным бытием мира деятельности и нахождении путей преодоления такого расхождения (см. сх. 31):
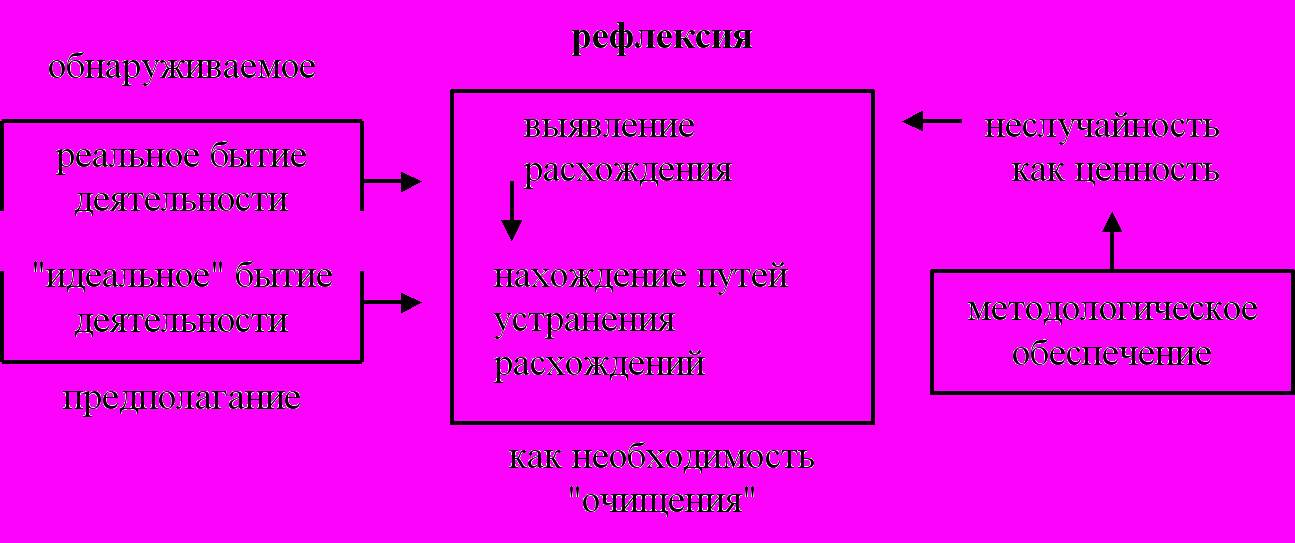
Схема 32
Иначе говоря, методология выступает средством и условием придания неслучайности "очистительному" процессу в мире деятельности. В этом состоит ее универсумалисткая "миссия".
А.П. Зинченко говорит о методологии как разработке и концептуальном обеспечении программирования системы практических наук. Если обращать внимание на программирование, то его можно осуществлять и без методологии за счет функционального помещения себя в место для программирования этих наук. Создание концепции в ходе программирования, если она обращена по содержанию к деятельностным механизмам "практических наук", уже ближе к возможности применения методологических средств. Но концепции подобного рода возникали и возникают до вовлечения методологии. Поэтому, если видеть методологию как "одно из средств" соучастия в построении подобных программ, то нужно ввести специфику такого участия, исходящую из внутренних свойств методологии. А это то как раз и не обсуждается. Кроме того, следует обосновать и охарактеризовать особенности "практических наук", их отличие от предметизированных наук и комплексных совмещений предметных наук при изучении социокультурных явлений.
А.П. Зинченко видит методолога как совместителя философской, эпистемической, практической работ, прежде всего, в организации междисциплинарных взаимодействий, аналитического отношения к социокультурным ситуациям. Однако, все эти работы могут рассматриваться как места приложения результатов методологических разработок, соучастия в этих разработках или осуществления работ и вне участия методологов. Поэтому нельзя раскрыть методологию, ее бытие лишь по критерию участия во "внешних" работах и вне анализа и использования
