Развитие татарской грамматической теории на материале грамматик арабского и татарского языков (вторая половина XIX начало XX вв.)
| Вид материала | Автореферат |
- Становление и развитие мировой юстиции в Тамбовской губернии (вторая половина XIX начало, 437.95kb.
- Этические теории, 644.03kb.
- Формирование и развитие мусульманских общин великобритании (вторая половина ХХ начало, 329.02kb.
- Нп «сибирская ассоциация консультантов», 195.12kb.
- Влияние миграционных процессов на изменение историко-демографической ситуации в Казахстане, 1207.9kb.
- Эволюция структуры и семантики перфекта как полифункциональной грамматической категории, 626.92kb.
- Арабская историческая драма (Вторая половина XIX начало ХХ века), 309.95kb.
- Этнокультурные особенности одежды негидальцев (вторая половина XIX начало XXI вв.), 421.78kb.
- Суд присяжных в башкОртостане (вторая половина XIX начало XX вв.), 240.92kb.
- Тематическое планирование учебного материала по истории 11 класс, 600.67kb.
1 2
На правах рукописи
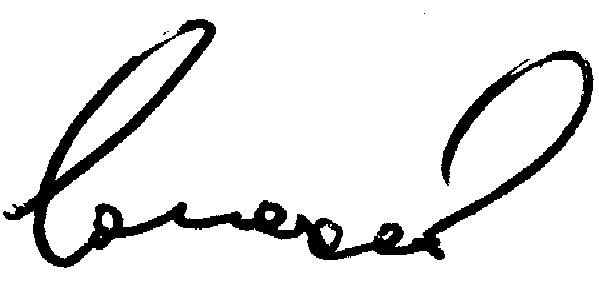
Салахов Абдулла Мунирович
Развитие татарской грамматической теории
на материале грамматик
арабского и татарского языков
(вторая половина XIX – начало XX вв.)
Специальность: 10.02.02 – языки народов Российской Федерации
(татарский язык)
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени
кандидата филологических наук
К
 азань - 2010
азань - 2010Работа выполнена в отделе рукописей, научного и архивного фонда
Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова
Академии наук Республики Татарстан
Научный руководитель: доктор филологических наук
Ахметзянов Марсель Ибрагимович
Официальные оппоненты: доктор филологических наук профессор
Нуриева Фануза Шакуровна (г. Казань)
кандидат филологических наук доцент
Закиров Рафис Рафаэлович (г. Казань)
Ведущая организация: ГОУ ВПО «Елабужский государственный
педагогический университет»
Защита диссертации состоится «14» декабря в 13.00 часов на заседании диссертационного совета Д 022.001.01 по защите диссертаций на соискание учёной степени доктора филологических наук при Институте языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан по адресу: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лобачевского, 2/31.
С диссертацией можно ознакомиться в Центральной научной библиотеке Казанского научного центра РАН (420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лобачевского, 2/31).
Электронная версия автореферата размещена на официальном сайте
ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ «13» ноября 2010 г. (ссылка скрыта.
antat.ru /dissertacii.php). Режим доступа: свободный.
Автореферат разослан «13» ноября 2010 г.
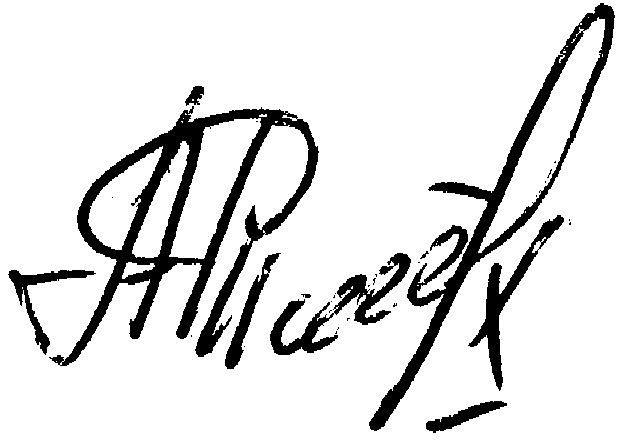
Учёный секретарь
диссертационного совета
д
 октор филологических наук доцент А.А.Тимерханов
октор филологических наук доцент А.А.Тимерханов
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. История формирования грамматической теории татарского языка продолжает оставаться актуальной проблемой татарской лингвистической науки. В частности, период второй половины XIX – начала XX вв. относится к малоизученным этапам в истории формирования татарского литературного языка и его грамматического строя. Татарская филология, будучи тесно связана в диахроническом плане с арабским языкознанием, до сих пор испытывала настоятельную необходимость в изучении арабских грамматических трактатов, использовавшихся в татарских учебных заведениях, как легших в основу первых трудов по татарской грамматике середины XIX – начала XX вв., а также пособий по татарскому языку того же периода в сравнительном плане с выявлением степени влияния первых на грамматики татарского языка как на терминологическом уровне, так и в отношении грамматических категорий. Изучение учебников арабского языка, применявшихся в татарских конфессиональных школах, важно потому, что знание их содержания поможет воссозданию более полной картины эволюции татарского языкознания, начиная с середины XIX в., поскольку арабская грамматическая теория представляет собой те истоки, из которых черпали материал для своих трудов первые татарские филологи, описывая различные грамматические явления татарского языка. Исследование наряду с учебниками арабского языка пособий по татарскому языку также необходимо для понимания и интерпретации хода развития татарской грамматической теории. Анализ пособий по обоим языкам позволит в новом ракурсе осмыслить процесс становления грамматики татарского языка, даст объяснение способам описания грамматических явлений татарского языка, использовавшимся татарскими филологами второй половины XIX – начала XX вв., а также возможность определить те оригинальные решения, которые применяли первые татарские грамматисты при изложении специфических аспектов татарского языка относительно арабского.
Степень изученности темы. К сожалению, проблема влияния арабской лингвистической традиции на первые труды татарских филологов в области грамматики не получила исчерпывающего освещения со стороны исследователей вплоть до настоящего времени. Фрагментарно вопрос наличия арабских заимствований в учебниках по грамматике татарского языка, составленных во второй половине XIX – начале XX вв., отражен в критических статьях Г.Г. Ибрагимова1, Д.Д. Валиди2 и в труде Л.З. Заляя «Татар теленең тарихи морфологиясе» («История морфологии татарского языка»)3. Вместе с тем, в татарском языкознании накоплен немалый материал по изложению содержания учебников обозначенного периода и точек зрений их авторов на различные грамматические явления. Сюда можно отнести вышеупомянутый труд Л.З. Заляя, в котором дается описание некоторых татарских грамматик конца XIX – начала XX вв. и особенностей взглядов лингвистов того времени относительно грамматических категорий. Следует также отметить работу И.Б. Башировой «Татар әдәби теле тарихы: XIX гасыр ахыры – XX йөз башы» («Татарский литературный язык конца XIX – начала XX века»), в которой также нашли свое освещение некоторые морфологические явления татарского языка в историческом плане4.
Из отдельно взятых работ наиболее обстоятельно была исследована грамматика выдающегося татарского ученого-просветителя К. Насыри – «Анмузадж». В.Н. Хангильдину принадлежит статья, в которой приводится довольно подробное описание вышеназванного трактата и отмечается, что в «труде К. Насырова проанализированы почти все основные вопросы и грамматические категории современного татарского языка. Многие из них получили довольно полную и с современной точки зрения правильную характеристику. В частности, здесь освещены категория падежа в именах существительных, категория лица и числа в глаголах, категория залогов, а также другие вопросы грамматического строя татарского языка – образование частей речи при помощи суффиксов, отсутствие форм рода, вопросы словосочетания и структуры простого нераспространенного предложения и др.»5.
В 1975 г. было осуществлено издание перевода грамматики К. Насыри на русский язык, а также транскрипции текста оригинала с арабской графики на кириллицу, подготовленные Р.С. Газизовым под редакцией Я.С. Ахметгалиевой. В предисловии к данной работе также содержится информация описательного характера, где приводятся достоинства трактата ученого. Частично грамматическое наследие К. Насыри отражено в публикациях К.З. Зиннатуллиной «К проблеме залогов в современном татарском литературном языке»1 и Ф.А. Ганиева «О синтетических и аналитических падежах в татарском языке»2 и статьях других авторов.
Более подробно были описаны татарские грамматики, подготовленные для русскоязычных учащихся. Это объясняется тем, что они писались на основе кириллицы, в отличие от аналогичных грамматик, написанных на татарском языке с использованием арабской графики. Среди многочисленных публикаций и статей по данной теме следует отметить книгу А.Н. Кононова «История изучения тюркских языков в России»3, в которой приводится достаточно полное изложение развития тюркского языкознания в России.
Весьма обстоятельное описание получила грамматика Казем-Бека в статье А.М. Демирчизаде «Грамматика турецко-татарского языка профессора Казем-Бека»4. Вопрос русскоязычных татарских грамматик также нашел свое освещение в статьях М.З. Закиева «Влияние Казанского университета на развитие тюркологии в первой половине XIX века»5, Н.А. Мазитовой «Мухаммед-Галей Махмудов»6, Ф.С. Сафиуллиной «Хусейн Фейзханов»7, К.З. Зиннатуллиной «К проблеме залогов в современном татарском литературном языке»8, З.М. Валиуллиной «К истории изучения частей речи в татарском языкознании»9 и других публикациях и работах.
Наиболее полно грамматики татарского языка, созданные в середине XIX – начале XX вв., нашли свое освещение в диссертационной работе И.Г. Мифтаховой «Развитие грамматической теории в татарском языкознании. Самостоятельные части речи (по татарским грамматикам XIX – начала XX вв.)», в которой по группам в хронологическом порядке был проведен анализ нескольких десятков татарских грамматик, самоучителей и других учебных изданий грамматического характера, ориентированных как на русскую, так и татарскую аудиторию. Автор данного исследования, однако, не ставит своей главной целью выявление степени влияния арабской грамматики, а также использования свойственных ей грамматических категорий и понятий при описании специфических аспектов татарского языка, в отличие от нашей работы, во главу угла которой поставлено определение заимствований из арабского грамматического учения при описании грамматики татарского языка, как имеющего свои особенности и отличительные черты.
Объектом изучения выступает грамматический материал пособий по арабскому языку, применявшихся в татарских медресе во второй половине XIX – начале XX вв., и учебников татарского языка того же времени.
Предметом исследования является изложение грамматического строя татарского языка через призму арабской лингвистической традиции, предложенное татарскими филологами, а также расхождения, имевшие место между ними при описании тех или иных грамматических явлений.
Цель данной работы состоит в выявлении заимствований из арабских грамматик, использовавшихся в трудах татарских ученых, которые употреблялись для описания аналогичных и специфических явлений татарского языка, а также в определении предложенных ими оригинальных решений, отражавших особенности татарской грамматической системы. В связи с тем, что синтаксический аспект в татарских грамматиках указанного периода освещался лишь частично, в рамках настоящей работы были изучены исключительно вопросы морфологии. Исходя из цели, были определены следующие задачи исследования:
- изложить исторические предпосылки, обусловившие превалирование арабского языка в татарских учебных заведениях до начала XX в;
- определить грамматические явления и категории, описанные в грамматиках арабского языка, использовавшихся в татарских медресе во второй половине XIX – начале XX вв.;
- определить грамматические явления и категории, описанные в грамматиках татарского языка обозначенного периода;
- провести сопоставительный анализ между морфологическими явлениями, описанными в татарских грамматиках, составленных во второй половине XIX – начале XX вв., и арабским грамматическим учением с целью выявления универсального и дифференциального.
Научная новизна диссертации заключается в выявлении степени влияния арабской грамматики на становление и эволюцию грамматики татарского языка на основе исследования как грамматических трактатов по арабскому языку, применявшихся в татарских медресе во второй половине XIX – начале XX вв., так и татарских грамматик, созданных в указанный период.
Теоретическую основу исследования составили труды современных арабских и татарских филологов в области грамматики. В процессе идентификации деривационных и релятивных морфем татарского языка мы обращались к работам Ф.А. Ганиева, Ф.М. Хисамовой, Ф.Ю. Юсупова, А.А. Юлдашева и др. При исследовании средневековых арабских грамматических трактатов были использованы труды известных отечественных арабистов Б.М. Гранде, А.А. Ковалева, Г.Ш. Шарбатова, Б.З. Халидова и др.
Методологической основой исследования послужили положения, разработанные в трудах Л.З. Заляя, В.Н. Хангильдина, М.З. Закиева, Ф.С. Сафиуллиной, И.Б. Башировой, И.Г. Мифтаховой и других ученых.
Методы исследования. При исследовании использовались следующие методы: сравнительно-типологический метод, давший возможность сравнить как схожие, так и специфические явления неродственных языков (арабского и татарского); метод компонентно-семантического анализа терминов при определении того или иного термина-эквивалента; дедукция, индукция, классификация и обобщение.
Материалом исследования послужили научно-дидактические монографии, посвященные арабской грамматике, составленные средневековыми восточными авторами аз-Замахшари1, Ибн Хаджибом2, ал-Джурджани3; грамматические трактаты «Мукадимаи Бедон»4, «Шарх Абд ‘Аллах»5, «Сарф Му‘иззи»6; учебники арабской грамматики, подготовленные татарскими просветителями конца XIX – начала XX вв., Г. и С. Баруди1, А. Максуди2, А. Умари3; пособия по татарской грамматике, написанные Г. Фейзхановым4, К. Насыри5, М. Умидбаевым6, А. Мухаммадрахимом7, А. Максуди8.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что проведенное в ней сравнительное исследование грамматик арабского и татарского языков в известной степени способствует реконструкции процесса формирования и развития татарского грамматического учения на базе арабской языковой традиции. Материалы исследования также могут быть использованы в дальнейших исследованиях вопросов татарской лингвистики в диахроническом плане в общем и татарских грамматик указанного периода, в частности.
Практическая ценность исследования состоит в том, что полученные результаты могут быть включены в программу по изучению истории татарского языка, использоваться при составлении учебников по татарской морфологии, а также при обучении арабскому языку на основе компаративного метода и с опорой на родной (татарский) язык.
Положения, выносимые на защиту:
1. История просвещения и система образования татарского народа, как и становление и развитие грамматической теории татарского языка неразрывно связаны с арабской филологией.
2. Авторы первых татарских грамматик, написанных для учащихся-татар, за основу брали хорошо известные им работы восточных авторов по грамматике арабского языка.
3. Терминологические заимствования из арабского языка представляли собой как прямой перенос для обозначения аналогичных понятий в татарском языке, так и использовались для номинации явлений, свойственных лишь татарскому языку, либо представляли собой новые термины на основе арабской лексики.
4. Специфические явления татарского языка по-разному освещались в трудах татарских филологов второй половины XIX – начала XX вв., созданных на базе арабской грамматики, как следствие процесса развития татарской грамматической теории в тот период.
Апробация работы. Основные положения диссертации освещены на страницах пяти публикаций: в журналах «Вестник Вятского государственного гуманитарного университета» (2009, № 4(2)), «Научный Татарстан» (2010, № 2); в сборниках научных статей «Milli mәdәniәt» (2009, № 18; 2010, № 20), «Филологические исследования» (2009).
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и библиографии.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяются ее цель и задачи, объект и предмет, излагается научная новизна, теоретико-методологическая база, материал исследования, теоретическая значимость и практическая ценность работы, сформулированы положения, выносимые на защиту, обозначена структура диссертации.
Первая глава «Учебники по арабской грамматике, распространенные среди татар во второй половине XIX – начале XX вв.» включает три параграфа.
В первом параграфе приводятся краткие сведения из истории проникновения ислама в татарское общество и упоминаются основные вехи становления образования у татар до начала XX в.
Относительно начала распространения ислама в Волго-Уральском регионе достоверных источников не имеется. Вероятно, появление первых проповедников и начальный этап знакомства с исламом следует относить к VIII – IX вв., чему способствовало установление регулярных торгово-экономических связей булгар со странами Востока1. «С внедрением ислама среди булгар стало распространяться восточное просвещение и грамотность»2. Арабский язык при этом служил своего рода мостом для усвоения населением Поволжья культурных достижений мировой цивилизации1.
К сожалению, располагаемые нами памятники письменности булгарского периода, эпохи Золотой Орды и Казанского ханств весьма скудны и позволяют вести только гипотетические суждения о содержании образовательного процесса у татар того времени. «Можно лишь предположить, что влияние среднеазиатской традиции было доминирующим и проявлялось во всех отраслях знаний»2, как следствие тесных культурных и торгово-экономических связей между двумя регионами.
Рубеж XVII – XVIII вв. стал временем возрождения мусульманской учености среди татар. Главенствующую роль в этом процессе сыграли лица, получившие образование на Кавказе и в Мавераннахре3.
В конце XVIII в. среди татар начинает формироваться просветительство, которое достигает своей зрелости в середине XIX в. Виднейшими его представителями стали Г. Утыз-Имяни, Г. Курсави, И. Халфин, Ш. Марджани, К. Насыри, Х. Файзханов и др.4
Вторая половина XIX столетия ознаменовалась проникновением в общественную жизнь татар новых веяний, «а до этого татарские медресе представляли собой традиционное мусульманское учебное заведение бухарского типа»5, которое к середине XIX в. уже не отвечало потребностям татарского общества. В начале XX в. у татар начинает формироваться собственная система образования, ориентированная на европейскую; появились знаменитые медресе «Касимия», «Мухаммадия», «Хусайния», «Галия» и др.6, в стенах которых получили образование будущие татарские реформаторы и общественно-политические деятели.
Второй параграф посвящен исследованию трудов по арабской грамматике иностранных авторов, использовавшихся в татарских медресе во второй половине XIX – начале XX вв., легших в основу первых грамматик татарского языка, составленных для учащихся-татар.
Наибольшей популярностью в татарских конфессиональных школах при изучении арабского языка пользовались следующие книги: «Анмузадж» («Образец») аз-Замахшари (1220–1294), «ал-Кафийа» («Достаточный [трактат]») Ибн Хаджиба (1174–1249), «ал-‘Авамил ал-ми’а» («Сто [грамматических] факторов») ‘Абд ал-Кахира ал-Джурджани (ум. 1078), «Мукаддимаи Бедон» («Введение “Знай”»), «Шарх ‘Абд Аллах» («Комментарий ‘Абд Аллаха»), «Сарф Му‘иззи», («Морфология Му‘изза»). Первые две работы посвящены грамматике в целом – морфологии и синтаксису, последние три – морфологии; в трактате ал-Джурджани изложены исключительно вопросы синтаксиса.
В пособиях аз-Замахшари и Ибн Хаджиба получили описание следующие морфологические явления. Части речи традиционно делятся на имя (اسم), глагол (فعل) и частицы (حرف). Имена, помимо формы единственного числа, могут принимать форму двойственного и множественного чисел; склоняться по падежам (إعراب), которых три: именительный (رفع), родительный (جر), винительный (نصب); иметь форму мужского и женского родов.
Прилагательные (صفة), местоимения (مضمر) и числительные (اسم العدد) рассматриваются в качестве разрядов имени. Исходя из лексико-грамматических особенностей, прилагательные делятся на качественные (صفة مشبهة), относительные (اسم منسوب) и употребленные в форме сравнительной степени
(اسم تفضيل).
Местоимения делятся на раздельные (منفصل), слитные (متصل), в том числе и показатели субъекта действия в глаголах, указательные (اسم الإشارة) и относительные (اسم موصول); числительные деления на разряды не имеют. В состав разрядов имени также входят и наречия (ظرف).
Глаголы имеют формы прошедшего (ماض) и настояще-будущего времен (مضارع), могут быть употреблены в действительном (معلوم) и страдательном залогах (مجهول), изменяться по наклонениям, которых четыре: изъявительное (رفع), сослагательное (نصب), условное (جزم), повелительное (أمر). Следует отметить, что понятие «наклонение» применительно к арабскому языку весьма условное, поскольку соответствующие глагольные формы включают в себя выражение гораздо более широких грамматических явлений. С учетом способности или неспособности управлять винительным падежом имени глаголы делятся на переходные (متعد) и непереходные (غير متعد). Слова, исходя из того, могут ли они принимать различные флексии, или имеют только одну морфологическую форму, распадаются на изменяемые (معرب) и неизменные (مبني).
Причастия имеют форму действительного (اسم فاعل) и страдательного залогов (اسم مفعول) и являются одним из разрядов имени, также как и имя действия (مصدر) и имя отглагольное (اسم فعل).
Класс частиц представлен собственно частицами, предлогами (حرف جر) и союзами (حرف عطف). Подражательные слова (أصوات) Ибн Хаджиб включает в рубрику неизменяемых имен.
В работе ‘Абд ал-Кахира ал-Джурджани «ал-‘Авамил ал-ми’а», посвященной синтаксису, описываются грамматические факторы, управляющие тем или иным падежом/наклонением применительно к именам и глаголам соответственно, а также изменения, вызываемые ими в окончаниях данных словоформ.
«Мукаддимаи Бедон», вероятный автор которого имам деревни Ура Казанского уезда Юнус бин Иванай (род. 1639)1, представляет собой краткий свод морфологии арабского языка и предназначен для начинающих знакомство с арабской грамматикой. Он посвящен механизмам образования производных словоформ от имени действия (масдар): причастие действительного и страдательного залогов, глагол прошедшего и настояще-будущего времен, отрицательная форма глагола прошедшего (جحد) и настоящего времен (نفي), повелительное наклонение и его отрицательная форма (نهي), имя места (اسم مكان), имя времени (اسم زمان), имя орудий (اسم آلة), сравнительная степень прилагательного, а также спряжению глагола в обоих залогах.
«Шарх ‘Абд Аллах» – анонимный комментарий ко второму разделу первой части «Сарф Му‘иззи». Этот трактат является второй ступенью изучения арабской морфологии, в котором освещаются все имеющиеся в арабском языке семнадцать пород глагола, в том числе как состоящие исключительно из корневых букв (مجرد), так и имеющие в своем составе дополнительные буквы (مزيد), а также правила образования упомянутых двенадцати производных от масдаров.
Авторство «Сарф Му‘иззи» приписывается некоему ‘Изз ад-дину аз-Занджани (писал в 1257 в Багдаде)2. Являясь своего рода введением в морфологию, это сочинение посвящено описанию изменений, происходящих в парадигме спряжения глагола, в том числе с учетом наличия «слабых» (ا , و, ي) и удвоенных букв, наряду с изложением соответствующих правил употребления местоименных суффиксов.
В третьем параграфе рассматриваются учебники по арабской грамматике, составленные татарскими авторами конца XIX – начала XX вв.
В качестве пособий по арабскому языку в татарских медресе конца XIX – начала ХХ вв. широкое распространение получили работы С. Баруди – «Сарф ‘араби» («Арабская морфология»), Г. Баруди – «Хусн ал-машраб фи сарф лисан ал-‘араб» («Благой напиток в морфологии языка арабов»), А. Максуди – «Истифтах» («Начало»), «Истикмал» («Завершение»), «ал-Каванин ан-нахвиййа» («Законы синтаксиса»), А. Умари – «Му‘аллим сарф лисан ал-‘араб» («Учитель морфологии языка арабов»), «Му‘аллим нахв лисан ал-‘араб» («Учитель синтаксиса языка арабов») и др.
Грамматики арабского языка, составленные татарскими филологами, во многом идентичны в отношении грамматического материала с трактатами восточных авторов, что объясняется устоявшимися традициями арабского грамматического описания с одной стороны и неполной разработанностью грамматики татарского языка с другой. Преимуществом пособий, подготовленных татарскими учеными, было то, что они приобрели большую практическую направленность в сравнении с работами предшественников, носившими, главным образом, теоретический характер.
Учебники татарских реформаторов отличались упрощенным изложением материала и наглядностью, благодаря достаточному количеству примеров, контрольным вопросам и закрепительным упражнениям; описанию различных грамматических явлений отводились отдельные параграфы, расположенные в логической последовательности, исходя из их первостепенности. Трактаты татарских просветителей давали комплексное и развернутое описание грамматики арабского языка, в отличие от средневековых пособий, представлявших собой предельно лаконичные научно-дидактические сочинения, для которых требовались дополнительные комментарии.
Вторая глава «Грамматики татарского языка, второй половины XIX – начала XX вв.» состоит из трех параграфов.
Первый параграф содержит сведения из истории формирования татарского литературного языка и его грамматической системы.
Как отмечают исследователи, «основные лексические, фонетические и грамматические особенности татарского языка были заложены еще в древнетюркском языке, письменные памятники которого относятся к V–VIII вв.»1. Язык поволжских тюрков своими корнями непосредственно восходит к литературному языку периода Золотой Орды2, основу которого, по мнению большинства ученых, составляет кыпчакский, по своим структурным особенностям заметно отличавшийся от предшествовавшего караханидско-уйгурского литературного языка3. Окончательное формирование татарского общенародно-разговорного языка, на базе которого возник современный татарский литературный язык, произошло в период существования Казанского ханства4.
Зачатки тюркологии, неотъемлемой частью которой является татарское языкознание, были заложены еще в IX–XI вв. под влиянием арабской филологии. Экономические, политические и религиозные связи арабов с тюркскими племенами способствовали пробуждению интереса к их языку и культуре5. После принятия тюркскими племенами ислама начинается активное использование ими арабского языка не только в связи с необходимостью его изучения с целью постижения смыслов Корана и овладения мусульманскими науками, но и по той причине, что он являлся средством коммуникации для всех народов, исповедовавших ислам. Так, древнейший сохранившийся до нашего времени труд, содержащий тексты на тюркском языке «Диван лугат ат-турк» («Словарь тюркской лексики») Махмуда ал-Кашгари, датируемый 1074 г., написан на арабском языке. Его тюркский лексикон, подобран по образу лексикона арабского словаря «Диван ал-адаб фи байан лугат ал-‘араб» («Словарь арабского языка в литературных цитатах») Исхака ал-Фараби (ум. 961)6. Многие из подобного рода произведений не сохранились до нашего времени, но их названия упоминаются в других сочинениях и библиографических списках7.
Впервые издание грамматики татарского языка было осуществлено в 1801 г.; ею стала работа И. Гиганова «Грамматика татарского языка», написанная для русскоязычных учащихся. Позже в свет вышли татарские грамматики и других авторов, составленные для русскоязычной аудитории: И. Хальфина, М. Иванова, А. Троянского и др.
В конце XIX в. в связи с ростом национального самосознания татар преподавание татарского языка вводится не только в русских гимназиях, но также и в татарских конфессиональных школах; появляются грамматики, составленные для самих татар на их родном языке, предназначенные для учащихся медресе. Первым из подобного рода работ стал трактат Г. Фейзханова «Татар телгә кыскача гыйлем сарыф» («Краткая морфология татарского языка»), увидевший свет в 1887 г.1 Фундаментальные исследования по морфологии и синтаксису татарского языка провел К. Насыри в своей работе «Анмузадж» (1895)2.
Начало XX в. ознаменовалось ростом активности по созданию учебных пособий на фоне пробуждения общественно-политической мысли и реформы национального образования. В этот период вышли труды М. Умидбаева «Татарча нәхүнең мохтәсары» («Сокращенная грамматика татарского языка») (1901 г.), А. Мухаммадрахима «Төрки сарыфы» («Морфология татарского языка») (1905 г.), одноименная монография А. Максуди (1910 г.). Особую популярность получили работы Г. Ибрагимова «Татар сарыфы» («Татарская морфология») (1911), «Татар нәхүе» («Татарский синтаксис») (1911), «Татар имлясы» («Татарская орфография») (1914)3, ставшие учебными пособиям в таких ведущих татарских медресе как «Мухаммадия», «Хусайния», «Галия», «Касимия» и др.4 Отдельное место занял труд Дж. Валиди «Татар теле грамматикасы» («Грамматика татарского языка»), изданный в 1920 г. Эта работа явилась новым витком в содержании грамматик татарского языка, поскольку, в отличие от учебников предшественников, ориентированных на начинающих обучение, предназначалась для учащихся национальных заведений среднего уровня5.
В 1926 г. вышла в свет «Шәкли нигездә татар грамматикасы» («Формальная грамматика татарского языка») Г.Х. Алпарова, в которой автор предложил оригинальную классификацию частей речи, выдвинул новый взгляд на проблему падежа, суффикса, придаточного предложения1.
Дальнейшее развитие и формирование татарской грамматической теории связано с деятельностью таких ученых как Ш.А. Рамазанов, В.Н. Хангильдин, Л.З. Заляй, Д.Г. Тумашева, С.М. Ибрагимов, М.З. Закиев, Ф.А. Ганиев, Ф.М. Хисамова, Ф.С. Сафиуллина и др.
Во втором параграфе дается краткий обзор учебников татарского языка второй половины XIX в., составленных на русском языке.
Научное изучение татарского языка и описание его грамматического строя было связано с введением его в качестве самостоятельного предмета в русских гимназиях и семинариях. Первой грамматикой татарского языка, написанной для русскоязычных учащихся, стал вышеупомянутый труд И. Гиганова «Грамматика татарского языка». В одном переплете с пособием, вобравшим материал по фонетике, орфографии и морфологии татарского языка2, содержится татарско-русский словарь объемом около 1800 слов, лексический материал которого представлен не в алфавитном, а в тематическом порядке3.
В 1809 г. была издана «Азбука и грамматика татарского языка с правилами арабского чтения, преподаваемая в Казанской Императорской Гимназии» И. Хальфина. Книга состоит из двух частей: в первой описывается фонетика и правила чтения татарского языка, во второй – его морфологический строй4.
В 1842 г. издается «Татарская грамматика» М. Иванова. Как следует из предисловия, в основу данной грамматики легли дополнения и пояснения в виде записок, которые автор делал к трудам И. Хальфина, А. Троянского и в особенности И. Гиганова в процессе преподавания им татарского языка в Оренбургском Неплюевском военном училище. В пособии представлен материал по фонетике, орфографии, морфологии и синтаксису татарского языка1.
В 1860 г. в свет выходит «Краткая татарская грамматика священника Александра Троянского». В отличие от работы И. Гиганова в ней содержится не только материал по фонетике, орфографии и морфологии татарского языка, но и некоторые сведения по синтаксису. Пособие также снабжено словарем и разговорником2.
В том же году была выпущена «Краткая татарская грамматика, изложенная в примерах» К. Насыри. Эта работа носила в большей степени практический характер, поскольку не содержала правил и определений3.
В 1862 г. была налитографирована автором «Краткая учебная грамматика татарского языка» Х. Фейзханова, написанная на основе «Практического руководства по татарскому языку» Г. Махмудова (1857), в которой Х. Фейзханов еще больше систематизирует грамматические правила, делает примечания, более приспосабливая учебник для непосредственного обучения татарскому языку4.
Вышеперечисленные пособия были ориентированы на грамматику русского языка. Это объясняется тем, что, с одной стороны, они предназначались для русскоязычной аудитории, а с другой – отсутствием унифицированного описания грамматической системы татарского языка, которая стала приобретать современные очертания лишь в начале XX в.
Третий параграф посвящен описанию грамматик татарского языка конца XIX – начала XX вв., составленных на татарском языке.
Начиная с конца XIX в. в условиях обновления системы образования в татарских конфессиональных школах вводится преподавание татарского языка. Данное обстоятельство требовало подготовки учебных пособий на родном для учащихся языке, которые во многом составлялись с ориентиром на арабскую грамматику, поскольку ее изучению традиционно уделялось большое внимание в татарских медресе5. Наиболее известными из такого рода пособий стали вышеназванные работы Г. Фейзханова, К. Насыри, М. Умидбаева, А. Мухаммадрахима и А. Максуди. В их трудах получили описание следующие морфологические явления.
Части речи. К. Насыри и А. Мухаммадрахим приводят генеральную классификацию частей речи, состоящую из трех элементов: имя (اسم – исем), глагол (فعل – фигыль), частица (حرف – хәреф). Имена, в свою очередь, делятся на разряды: существительное (اسم ذات – исме зат), прилагательное (اسم صفة – исме сыйфат), местоимение (ضمير – замир), числительное (اسم عدد – исме гадәд). В числе глагольных форм К. Насыри описывает инфинитив (مصدر – масдар), причастие (اسم فاعل – исме фагыйль), деепричастие (اسم فعل – исме фигыль); отдельно рассматривает наречие (ظرف – зарыф). А. Мухаммадрахим, описывая числительные, не выделяет их в качестве разрядов имени, хотя и называет «именем числа». Также он не отмечает причастие, деепричастие и наречие. В раздел о частицах оба автора включают собственно частицы, союзы, послелоги и междометия.
Г. Фейзханов изначально части речи делит на пять классов: существительное, прилагательное, местоимение, глагол, частицы, состав которых также неоднороден; числительные описываются в разделе прилагательного.
В системе частей речи М. Умидбаева – автор называет их «частями предложения» (جمله قسملرى – җөмлә кыйсемләре) – к частям речи, описанным в трактате Г. Фейзханова, добавляются причастие, деепричастие, обстоятельство, союзы (عطف – гатыф) и междометия (ندا – нидә).
Классификацию частей речи в большей степени, чем у других авторов, соответствующей принятой в настоящее время, видим у А. Максуди: существительное, прилагательное, числительное, местоимение, глагол, наречие, частицы – включают суффиксы и послелоги – междометия (صوت – савыт).
В семантическом отношении рассматриваются имена собственные и нарицательные во всех монографиях. Помимо этого К. Насыри и А. Максуди выделяют имена абстрактные, в «Анмузадже» также описываются имена конкретные, М. Умидбаев описывает имена собирательные.
Категория принадлежности. Cуффиксы принадлежности Г. Фейзханов, М. Умидбаев и А. Мухаммадрахим рассматривают в качестве одного из разрядов местоимений – местоимение принадлежности (ضمير اضافى – замир изафи). К. Насыри характеризует их как слитные местоимения (ضمير متصل – замир мөттасыйль). А. Максуди таковые называет буквами, которые присоединяются ко второму компоненту изафетной конструкции – аның киеме «его одежда».
Падежная система. Автор каждой из грамматик предлагает собственную систему падежей. Принятые в настоящее время шесть падежных форм описываются у Г. Фейзханова, А. Мухаммадрахима и А. Максуди. Г. Фейзханов дополняет их двумя: принадлежный (مضاف إليه – мозаф иләйһ) – -ы/-е, -сы/-се: шәкерт китабы «книга ученика», алма бакчасы «яблоневый сад» и совместный (مفعول معه – мәфгуль мәгәһ), образующийся через послелог белән – китап белән «с книгой»; А Мухаммадрахим – тремя: направительный (مفعول له – мәфгуль ләһ) – каләм өчен «для карандаша», совместный и принадлежный. А. Максуди – одним: подобный (مثال – мисал) – кемчә «как»? кешечә «по-человечески»; ничә «как»? киемчә «подобно одежде». К. Насыри заменяет исходный падеж на совместный; М. Умидбаев – на предложный (ظرف دوشمى – зарыф төшеме): кем хакында «о ком»? ни хакында «о чем»?, а для одушевленных предметов добавляет седьмой – звательный (ندا دوشمى – нидә төшеме), образующийся посредством употребления частиц обращения йә, эй.
Категории числа и лица описываются во всех грамматиках; вопрос рода (его выражение лексическими средствами) освещается у трех авторов – Г. Фейзханова, К. Насыри и М. Умидбаева.
Прилагательное. Г. Фейзханов, К. Насыри и М. Умидбаев описывают формы трех степеней сравнения прилагательного: положительную, сравнительную и превосходную. Но если первый формы сравнительной и превосходной степеней приводит в качестве типов именных словоформ:
(اسم زيادة وغاية – исме зиядә вә гайә) «имя усиления», (اسم تفضيل – исме тәфзыйль) «имя превосходства», а второй лишь отмечает способность прилагательных принимать суффиксы и частицы, указывающие на относительно большую и абсолютно наибольшую интенсивность признака, то М. Умидбаев прилагательные изначально делит на три степени сравнения. А. Мухаммадрахим и А. Максуди делят прилагательные, исходя из лексико-грамматических особенностей, на качественные и относительные. Г. Фейзханов также приводит аналогичную классификацию прилагательных, но к первым относит причастные формы (язучы «пишущий», язылмыш «написанный») и производные от имен (акыллы «умный», хөрмәтле «уважаемый»). Форма уменьшительной степени в пособиях не освещается.
Глагольные категории лица и числа. Способность глагола изменяться по лицам и числам освещается у всех авторов; явление переходности и непереходности описывается у Г. Фейзханова, А. Мухаммадрахима и А. Максуди; способность глагола употребляться в одном из двух аспектов отмечена всеми авторами.
Категория времени. Относительно категории времени глагола также наблюдается различие в подходах к ее описанию. Так, прошедшее категорическое, прошедшее результативное, настоящее и будущее неопределенное описывают все авторы, к которым К. Насыри, Г. Фейзханов, М. Умидбаев и А. Максуди добавляют преждепрошедшее. Кроме этого Г. Фейзханов отмечает прошедшее незаконченное, К. Насыри – прошедшее результативное в будущем – -ган/-гән + булыр: алган булыр «он возьмет»1, М. Умидбаев и А. Максуди – прошедшее незаконченное. А. Мухаммадрахим вместе с М. Умидбаевым отмечают также форму будущего времени на -гай/-гәй + суффикс принадлежности: язгаймын «написал бы я», которую в настоящее время относят к желательному наклонению2. Г. Фейзханов наряду с А. Максуди выделяет форму будущего времени на -асы/-әсе: беләсе «он узнает», выражающую «действие, которое непременно должно совершиться в будущем»3. М. Умидбаев освещает две формы прошедшего субъективного на -ып/-еп + суффикс принадлежности – синтетическую: языпмын «я написал»4 и аналитическую: -ып/-еп + иде: языпмын иде «я уже написал»; аналитическую форму прошедшего незаконченного – -р + иде, которая «связана с обозначением незаконченного действия, перенесенного в план прошедшего»5; давно прошедшее неопределенное – -ган + суффикс принадлежности + бар: күргәнем бар «я видывал»6; прошедшее многократное; аналитическую форму настоящего времени – -а + торган: ата торган «обычно цветет», которая выражает действие, имеющее регулярный характер7; будущее заключительное – -са/-сә + кирәк: язсам кирәк «я напишу», «которым, по соображению с обстоятельствами заключается, что действие должно совершиться»8. А. Максуди упоминает настоящее длительное – -макта/-мәктә: белмәктә «он знает»9 и будущее категорическое.
Категория наклонения как таковая отдельного описания не нашла, тем не менее, соответствующие глагольные формы приводятся либо в качестве отдельных форм, выражающих отношение содержания высказывания к действительности, либо в составе различных рубрик. Так, К. Насыри и А. Мухаммадрахим отмечают формы всех пяти традиционно выделяемых наклонений – изъявительного, повелительного, желательного, условного и сослагательного. Но если первый приводит их в качестве отдельных форм, то второй – в числе производных от инфинитива. Г. Фейзханов освещает формы первых четырех наклонений в качестве отдельных форм. М. Умидбаев аналогичным образом приводит формы изъявительного, повелительного и условного наклонений, а форму желательного – в контексте времен глагола. А. Максуди отмечает формы первых четырех наклонений в составе парадигмы глагольных словоформ.
Категория залога. К. Насыри единственный, кто освещает все пять залогов татарского глагола в самостоятельном разделе. М. Умидбаев также приводит аналогичное количество залоговых форм, но в качестве вариантов инфинитива. Г. Фейзханов, А. Мухаммадрахим и А. Максуди отдельно описывают действительный и страдательный залоги, которые первый и второй дополняют формой понудительного залога в качестве типа переходных глаголов, образующихся через присоединение суффикса -дыр/-дер к непереходным глаголам: көл «смейся» – көлдер «рассмеши». А. Максуди отмечает форму возвратного залога в разделе о глаголах, имеющих суффиксы (قوشمتالى فعللر – кушымталы фигылләр). Г. Фейзханов обнаруживает форму взаимно-совместного залога под рубрикой «глагол взаимного действия» (اورتاق فعل – уртак фигыль).
Способы действия глаголов отражены у К. Насыри и А. Максуди, которые описывают две формы протекания действия: периодическая повторяемость (язгаламак «писать изредка») и нерегулярная повторяемость или неполнота (караштыргаламак «посматривать»).
Причастие. К. Насыри и М. Умидбаев приводят причастные формы прошедшего – -ган/-гән: язган «написавший» и настоящего времен – -учы/-үче: язучы «пишущий», которые второй дополняет формами будущего времени на -ар/-әр, -ачак/-әчәк, -асы/-әсе, -макчы/-мәкче: язар, язачак, язасы, язмакчы «который напишет», а также формой прошедшего времени на -мыш/-меш: язмыш «писавший».
Г. Фейзханов и А. Максуди причастия характеризуют как безвременные глагольные формы, указывающие либо на субъект, либо на объект действия, и выделяют оппозицию, представленную именем действователя (اسم فاعل – исме фагыйль), образующимся через суффикс -чы/-че, и именем поддейственным (اسم مفعول – исме мәфгуль), формирующимся посредством суффикса -ылмыш/-елмеш у первого и суффиксов -ын/-ен/-н, -ыл/-ел/-л у второго. К причастным формам А. Максуди также относит ряд существительных и прилагательных, получивших соответствующие форманты (белгеч «знаток», үткен «острый», тапкыр «находчивый»), а также глагольную форму наклонения намерения -макчы/-мәкче: белмәкче «он собирается знать», выражающую решимость совершить действие1.
А. Мухаммадрахим описывают причастные формы на -учы/-үче двух залогов (действительного и страдательного) в числе производных от инфинитива.
Деепричастие. К. Насыри выделяет четыре формы деепричастий (اسم فعل – исме фигыль): на -а/-ә: ала «беря», -ып/-еп: алып «взяв», -гач/-гәч: алгач «взяв», -ганчы/-гәнче: алганчы «прежде, чем взять». М. Умидбаев называет деепричастия адвербализированными глаголами и приводит аналогичные формы, которые связывает с временами. Суффиксы -а/-ә, -й образуют формы настоящего времени, -ып/-еп, -гач/-гәч – прошедшего, -ганчы/-гәнче – будущего. А. Максуди приводит более точную дефиницию данному разряду слов, указывая, что деепричастие выражает действие относительно времени другого действия. Так, деепричастие может указывать на действие синхронное (حاضرﮔﯽ حال – хәзерге хәл): белеп «зная», предшествовавшее (الكى حال – әлеке хәл): белгәнче «прежде, чем узнать», последовавшее (صوﯖﻐﯽ حال – соңгы хәл): белгәч «узнав», повторяемое (تكرارلى حال – текрарле хәл): яза-яза «написав (несколько раз)», отсутствовавшее ( عدمى حال– гәдәми хәл): белмәс борын «не зная ранее». В работах Г. Фейзханова и А. Мухаммадрахима деепричастные формы описания не получили.
Инфинитивные формы (مصدر – масдар) освещаются всеми авторами, в которые включены и формы имени действия. Так, Г. Фейзханов делит инфинитив на три типа: глагольный (مصدر فعلى – масдар фигли) – образуется посредством присоединения к основе, представленной глаголом, суффикса
-мак/-мәк: бармак «идти»; именной (مصدر اسمى – масдар исми) – сущ. +
-ламак/-ләмәк: эшләмәк «работать»; описательный (مصدر وصفى – масдар васфи) – прил. + -лашмак/-ләшмәк, -ланмак/-ләнмәк: татулашмак, татуланмак «мириться». К. Насыри и М. Умидбаев в качестве показателя инфинитива приводят суффикс -мак/-мәк: бирмәк «давать». А. Мухаммадрахим отмечает инфинитив на -мак/-мәк в качестве основной формы, на -аклык/-әклек: язмаклык, -ма/-мә: язма, -мыш/-меш: язмыш, -у/-ү: язу «писать» – в качестве вторичных. А. Максуди выделяет следующие форманты инфинитива: -у/-ү, -мак/-мәк, -маклык/-мәклек, -ыш/-еш. Формы на -у/-ү и -ыш/-еш в настоящее время рассматриваются как имена действия.
Местоимения. Г. Фейзханов выделяет местоимения личные (ضميرشخصى – замир шәхси): мин «я», без «мы», син «ты», сез «вы», ул «он/она», алар «они»; принадлежные (ضمير اضافى – замир изафи) – -м, -ыбыз/-ебез, -ң, -ыгыз/-егез,
-ы/-е, -лары/-ләре: китабым «моя книга», китабыбыз «наша книга»; глагольные (ضمير فعلى – замир фигъли), соответствующие суффиксам лица в глаголах прошедшего категорического времени: яздым «я написал», яздык «мы написали» и глаголах условного наклонения: язсам «если я напишу», язсак «если мы напишем»; указательные (اسم اشارة – исме ишарә): теге «тот», бу «этот» и относительные (موصول اسم – исме мәүсуль): кайсы «который», шул «тот».
К. Насыри местоимения делит на две группы: раздельные (ضمير منفصل – замир мөнфасыйль), соответствующие личным местоимениям, и слитные (ضمير متصل – замир мөттасыйль), соответствующие суффиксам принадлежности; имена указательные (исме ишарә): шул «тот/та/то», бу «этот/эта/это» и имена присоединяемые (исме мәүсуль): андыйн, шундыйн «такой» (совр. указательные местоимения) рассматривает отдельно.
М. Умидбаев приводит семь разрядов местоимений, в которые включает личные (замир шәхси); возвратные (замир изафи): үз «сам»; указательные (ضمير شهادة – замир шәһадәт): бу «этот», шул «этот», «тот», андагы «тот»; относительные (ضمير نسبى – замир нисби): кем «кто», ни «что», кайсы «который», нинди «какой», кемнең «чей»; вопросительные (سؤال ضمير – замир сөаль): кем «кто», ни «что», кайсы «чей», ничә «сколько»; принадлежные (خواﺠﻪلق ضميرى – хуҗалык замиры), образующиеся через добавление к личным, возвратным и относительным местоимениям суффикса -ың/-ең: синең «твой», аның «его»; неопределенные (ضميرنامعلوم – замир нәмәгълүм): бер кемсә «кто-то», кем булса «кто-нибудь»; определенные (ضمير معلوم – замир мәгълүм): һәр бер, һәр кайсы «каждый», һәр нәрсә «всякое». Принадлежные местоимения помимо указанной формы имеют еще два типа. Первый (مستقل درجه – мөстәкыйль дәрәҗә) образуется через присоединение суффикса -ныкы/
-неке, который в настоящее время является формантом категории принадлежности местоимений: минеке «мой», безнеке «наш». Второй тип (ايصال درجه – исал дәрәҗә) представлен суффиксами -ым/-ем/-м, -ыбыз/-ебез, -ың/-ең/-ң,
-ыгыз/-егез, -ы/-е, -лары/-ләре, которые в современной грамматике рассматриваются как показатели категории принадлежности имени.
А. Мухаммадрахим местоимения делит на четыре разряда: личные (замир шәхси); принадлежные (замир изафи) (совр. суффиксы принадлежности); относительные (замир нисби), примыкающие к сказуемым: мин халфәмен «я учитель»», син халфәсең «ты учитель», ул халфәдер «он учитель»; глагольные (замир фигъли) (совр. суффиксы лица в глаголах): яздым «я написал», яздың «ты написал», язды «он написал»; описательные (ضمير وصفى – замир васфи) – суффиксы -гы/-ге: укудагы «который на учебе», өйдәге «который в доме»; указательные местоимения рассматривает отдельно.
А. Максуди различает местоимения личные (шәхес замирлары); повествовательные (خبر ضميرلرى – хәбәр замирлары): минеке «мой», безнеке «наш»; притяжательные (مضاف ضميرلرى – мозаф замирлары): минем «у меня», безнең «у нас» (совр. местоимения в притяжательном падеже); указательные (ишарә замирлары): бу «этот», болар «эти», теге «тот», тегеләр «те», шул «тот», шулар «те»; вопросительные (сөаль замирлары): кем «кто», кемләр «кто» (мн. ч.), ни «что», ниләр «что» (мн. ч.), кайсы «который», кайсылар «которые», нинди «какой», ниндиләр «какие».
Числительное. К. Насыри описывает следующие разряды числительных: обычные (اسم عدد عادتى – исме гадәд гадәти): бер «один», ике «два», өч «три»; порядковые (اسم عدد ترتيبى – исме гадәд тәртиби): беренче «первый», икенче «второй», өченче «третий»; количественные (اسم عدد مقدارى – исме гадәд микъдәри): берәү «один», икәү «два», өчәү «три»; разделительные
(اسم عدد تقسيمى – исме гадәд тәкъсими): өчәр «по три», дүртәр «по четыре», бишәр «по пять». По мнению К. Насыри, числительные на -ау/-әү используют при внимательном счете во избежание ошибок1. Г. Фейзханов делит числительные на количественные (اصل صان – асыл сан): бер «один», ике «два», өч «три»; порядковые; разделительные; собирательные (ييو صانى – йыйу саны): берәү «один», икәү «двое», өчәү «трое». М. Умидбаев выделяет числительные количественные; порядковые; разделительные; дробные (واقلاو حسابى – ваклау хисабы): биштән өч «три пятых», алтыдан дүрт «четыре шестых»; собирательные (جيو صانى – җыю саны): икәүләп «вдвоем», унаулашып «вдесятером». А. Мухаммадрахим различает числительные количественные, порядковые, дробные, разделительные. А. Максуди числительные делит на две большие группы: полные (بوتون صانلر – бөтен санлар) и частичные (اولوش صانلر – өлеш санлар). К первым относятся все известные числительные, ко вторым – слова, обозначающие дробные части полных числительных: икедән бер «одна вторая», өчтән ике «две третьих».
Наречие в качестве самостоятельного класса слов описывают М. Умидбаев и А. Максуди. К. Насыри также посвящает наречиям отдельную рубрику, которые делит на два типа: наречия времени (ظرف زمان – зарфы заман): көндез «днем», төнлә «ночью» и места (ظرف مكان – зарфы мәкән): анда «там», өстә «наверху». Г. Фейзханов и А. Мухаммадрахим приводят некоторые наречные формы в разделе о частицах.
Послелоги, союзы, частицы и междометия Г. Фейзханов, К. Насыри и А. Мухаммадрахим включают в раздел частиц. М. Умидбаев и А. Максуди выделяют междометия в качестве отдельной разновидности слов. Союзы в качестве частей речи отдельно рассматривает только М. Умидбаев.
Заключение содержит основные выводы, обобщающие результаты исследования.
Первые татарские грамматики второй половины XIX – начала XX вв., ориентированные на татароязычную аудиторию, преимущественно составлялись исходя из принципов арабского грамматического описания по причине превалирования преподавания арабского языка в татарских конфессиональных школах в виде одной из основных дисциплин. Вплоть до конца XIX в. в качестве учебников арабского языка в татарских медресе использовались трактаты известных средневековых восточных авторов, представлявшие собой предельно лаконичные научно-дидактические сочинения, к которым требовались дополнительные комментарии, впоследствии уступившие место современным учебным пособиям, подготовленным татарскими реформаторами, отражавшим передовые тенденций составления дидактической литературы.
Влияние арабского грамматического учения на труды первых татарских филологов сказалось на их лингвистическом рассуждении в целом: терминологическом аппарате, классификации частей речи, описании грамматических явлений и их компонентов. Арабские термины использовались для названия большинства грамматических явлений татарского языка. При интерпретации специфических аспектов татарского языка ими употреблялись оригинальные термины на основе арабской лексики либо сочетания слов из татарского и арабского языков. Классификацию частей речи аналогичную арабской приводят К. Насыри и А. Мухаммадрахим. Суффиксы принадлежности в качестве слитных местоимений рассматривает К. Насыри, который вместе с Г. Фейзхановым выделяет также и «относительные местоимения». Уменьшительная степень прилагательных не получила описания ни у одного из авторов. Формы изъявительного, сослагательного, условного и повелительного наклонений, по аналогии с арабской грамматикой, приводят Г. Фейзханов, М. Умидбаев и А. Максуди. Лишь две залоговые формы – в зависимости от известности либо неизвестности субъекта действия – в рамках одной рубрики излагают Г. Фейзханов, А. Мухаммадрахим и А. Максуди. Две причастные формы, следуя в арабском русле, в качестве имени действователя и имени поддейственного безотносительно ко времени освещают Г. Фейзханов и А. Максуди. Деепричастия не получили описания у Г. Фейзханова и А. Мухаммадрахима. Наречия, исходя из лексических значений, на два разряда (места и времени) делит К. Насыри. Частицы, послелоги, союзы и междометия в группу служебных слов объединяют К. Насыри и Г. Фейзханов.
Наиболее наглядно специфические аспекты татарского языка относительно арабского проявляются в категории склонения имени, степенях сравнения прилагательного, системе времен, наклонений и залогов глагола, классификации местоимений и числительных. Это обусловлено тем, что в арабском языке насчитывается всего три падежа, три времени, четыре наклонения и два залога глагола. Прилагательное имеет две формы степеней сравнения (положительная и сравнительная); местоимения представлены слитными (соответствуют суффиксам принадлежности и показателям субъекта действия в глаголе), раздельными (соответствуют личным местоимениям) указательными и относительными; числительное не группируется по разрядам.
В изученных нами татарских грамматиках число падежей варьируется от четырех до девяти. Г. Фейзханов приводит восемь падежных форм, К. Насыри – шесть, М. Умидбаев и А. Максуди – семь, А. Мухаммадрахим – девять. Превосходную степень прилагательных отмечают Г. Фейзханов, К. Насыри и М. Умидбаев.
Структурные различия имели место и при описании системы времен глагола. Так, Г. Фейзханов выделяет семь временных форм, К. Насыри – шесть, М. Умидбаев – четырнадцать, А. Мухаммадрахим – пять, А. Максуди – восемь. Наряду с вышеупомянутыми четырьмя формами наклонений, имеющими место в арабской грамматике, форму желательного наклонения приводят К. Насыри и А. Мухаммадрахим. Г. Фейзханов дополняет действительный и страдательный залоги понудительным и взаимно-совместным, А. Мухаммадрахим – понудительным, А. Максуди – возвратным. Пять залоговых форм описывают К. Насыри и М. Умидбаев.
Вышеизложенное позволяет сделать заключение о том, что в середине XIX – начале XX вв. шел процесс формирования грамматической теории татарского языка, о чем свидетельствуют различия в описании тех или иных его грамматических явлений. Тем не менее, в учебных пособиях того периода грамматический строй татарского языка был изложен достаточно подробно, особенно если учесть то обстоятельство, что они составлялись для учащихся школ. В основе этого процесса преобладало, имевшее прочно утвердившиеся традиции, арабское грамматическое учение.
