Е. Ю. Прокофьева редакционная коллегия
| Вид материала | Документы |
- Е. Ю. Прокофьева редакционная коллегия, 868.19kb.
- Е. Ю. Прокофьева редакционная коллегия, 7181.6kb.
- Редакционная коллегия: Т. Б. Мильруд (гл ред.), С. Д. Дробышевская (составитель) Скажи, 613.91kb.
- С. С. Алексанин Редакционная коллегия, 495.39kb.
- Редакционная коллегия серии сборников документов Великая Отечественная война 1941 -1945, 9829.4kb.
- M 5(1), 9663.74kb.
- Вселенная Учитель, 3306.02kb.
- Редакционная коллегия серии сборников документов великая отечественная война 1941-1945, 7950.74kb.
- Н. Н. Карнаухов Редакционная коллегия, 2238.49kb.
- Северный кавказ: профилактика конфликтов редакционная коллегия, 2870.45kb.
Библиографический список
- Гете Й.В. и Шиллер Ф. Переписка : в 2 т. – М. : Искусство, 1988. – Т. 2.
- Либинзон, З.Е. Фридрих Шиллер / З.Е. Либинзон. – М. : Просвещение, 1990.
- Лозинская, Л.Я. Фридрих Шиллер / Л.Я. Лозинская. – М. : Молодая гвардия, 1960.
- Шиллер, Ф. Собр. соч. : в 7 т. – М., ГИХЛ, 1957. – Т. 7.
- Шиллер, Ф. Статьи и материалы. – М. : Наука, 1966.
- Шиллер, Ф. Избранное. – М. : Правда, 1989.
- Abusch Alexander. Schiller. Größe und Tragik des deutschen Genius. Aufbau-Verlag. – Berlin, 1955.
- Damm Siegrid. Das Leben des Friedrich Schiller. Eine Wanderung. Insel Verlag. – Frankfurt-am-Main und Leipzig, 2004.
- Lanstein Peter. Schillers Leben. – Frankfurt-am-Main, 1984.
- Müller Joachim. Maria Stuart. Anmerkungen. Schillers Werke in 5 Bdn. Bd. 5. Aufbau-Verlag. – Berlin und Weimar, 1981.
| ЛИНГВИСТИКА и МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ |
УДК 81’374
ТИПЫ СЕМАНТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ТЕЗАУРУСЕ
АНГЛИЙСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Ю.В. Ведерникова
В статье рассматриваются задачи, решаемые тезаурусом английской терминологии когнитивной лингвистики. Производится анализ семантических отношений между английскими терминами когнитивной лингвистики, приводятся примеры различных типов отношений.
Словарное дело в каждой стране – неотъемлемая часть культуры. При этом очень трудно найти словарь, который содержал бы всю необходимую терминологию и одновременно был бы достаточно компактен и удобен для использования [4, с. 4].
Наиболее удачной формой представления такого раздела, как когнитивная лингвистика является построение тезауруса, поскольку терминологическая система когнитивной лингвистики характеризуется не столько новыми терминами, сколько уточненными и унифицированными терминами, уже имеющимися в лингвистике или заимствованными из других наук, в связи с чем при их трактовке возникает множество споров и разногласий по поводу того или иного понятия [5, с. 13].
Корректно составленный тезаурус терминологии когнитивной лингвистики может решить много задач. Вот некоторые из них.
Во-первых, посредством создания тезауруса обеспечивается систематизация и стандартизация терминосистемы определенной науки (в данном случае – когнитивной лингвистики).
Во-вторых, тезаурус помогает устранить многие неточности в понимании того или иного термина, которые возникают в связи с различными причинами, такими как неодинаковое понимание терминов представителями разных научных школ и направлений; разные способы перевода термина с исходного языка на переводной (при этом одному и тому же наполнению может соответствовать несколько названий термина или, наоборот, при выявлении случаев омонимии одно название термина должно быть разделено на несколько совершенно разных понятий).
В-третьих, при составлении тезауруса могут быть обнаружены терминологические «лакуны», которые тоже, как правило, имеют научную значимость и свидетельствуют о том, что «нет термина, соответствующего функции, но нельзя утверждать, что его не может быть. Это пустые места в «менделеевской таблице» лингвистических терминов» [6, с. 49].
В-четвертых, создание тезауруса с четкой структурой может иметь высокую практическую значимость. Посредством хорошо прослеживаемых структурных связей можно извлечь различную информацию, объединяя термины в группы по различным признакам. Таким образом, достигается также интерактивность или гипертекстовость тезауруса, так как суть гипертекста состоит в том, что, «оперируя вербальными представлениями, он позволяет выдавать пользователю информацию в наиболее эффективной форме с учетом не только сущности информации, но и индивидуальных психофизических особенностей пользователя» [8, с. 181]. Текст распадается на фрагменты, являющиеся самостоятельными композиционными единицами, которые оснащены системой поиска и доступа к информации и «основывается на одном из главных принципов когнитивизма – принципе выделенности, позволяющем актуализировать не только первоначальный замысел автора, но и сиюминутные, спонтанные интересы и ассоциации читателя» [8, с. 182]. Принципиально важным является и то, что гипертекст как модель порождения и восприятия текста может не иметь заданного, предопределенного первоначальным замыслом порядка следования композиционных элементов, являющегося проекцией авторских интенций. Читатель гипертекста, чей интерес в отсутствие авторского диктата становится основанием для композиционного выстраивания данных элементов, по сути, становится соавтором. Именно его воля и свободный выбор создают порядок следования единиц текста и, следовательно, устанавливают контекстные связи (при желании каждый раз новые), регулирующие формирование смысла.
Каждая область знания оперирует определенной системой понятий, то есть терминополем. Научно определить какое-либо понятие можно, лишь точно установив, какое место оно занимает среди других понятий. При этом надо помнить, что термины, которые используются для обозначения этих понятий, образуют терминосистемы, отражающие понятийный аппарат той или иной области знания. Важно также помнить, что системные отношения термина – это именно то, что лежит в основе метаязыка, или языка «второго порядка», то есть является составляющим металингвистики.
Важно отметить, что даже отбор наиболее правильных и желательных для построения терминов признаков не может быть произведен для какого-либо понятия без учета его связей с другими понятиями. Определяя понятие, необходимо учитывать все его непосредственные, в том числе и чисто классификационные связи, и на основе этого формировать определение термина и его означаемое, соответствующие схеме развития понятий. Следовательно, при конструировании терминов необходимо установить, какое место занимает каждое понятие среди всех других понятий данной системы или данного классификационного ряда и, в зависимости от этого, осуществлять выбор концептов, которые должны быть положены в основу построения термина. Правильный выбор концептов позволяет термину выполнять системно-различительную функцию в определенной терминологической системе.
Методика построения тезауруса и разработки его структуры включает несколько этапов:
- постановка задач, которые должен решить тезаурус;
- выбор и ограничение материала исследования, то есть отбор тех письменных источников, которые соответствуют тематике направления (в данном случае, когнитивной лингвистике);
- отбор словарных единиц; причем, так как планируется создание не всеобъемлющего, а базового тезауруса, то отбираются наиболее частотные термины, встречающиеся у представителей различных направлений внутри когнитивной лингвистики;
- разработка структуры словарной статьи, то есть отбор тех признаков, критериев и типов связей, которые могут обнаружиться при изучении терминосистемы когнитивной лингвистики;
- установление типов связей между терминами в терминосистемы, что достигается посредством многоступенчатого компонентного анализа терминологии и построении иерархического дерева терминов.
Хотелось бы подробнее остановиться на различных типах связей терминов когнитивной лингвистики, которые были выявлены на начальном этапе анализа ее терминополя и компонентного анализа некоторых терминов.
Одной из первых связей, установленных в процессе первичного анализа, является связь терминов «cognitive science», «cognitology» или «cogitology» (когнитивная наука, когнитология, когитология) и «cognitive linguistics» (когнитивная лингвистика). Когнитология является родовым понятием по отношению к когнитивной лингвистике, и это прослеживается, во-первых, хронологически, а во-вторых, логически. Началом когнитологии как науки можно считать 11 сентября 1956 г., когда в г. Кембридж штата Массачусетс открылся семинар по теории информации, где были зачитаны работа А. Ньюэлла и Г. Саймона «Теоретическая логика», в которой исследовались процессы принятия административных решений. Данное научное направление, слившись с другими науками, послужило почвой для появления такой теоретической дисциплины, как когнитивная лингвистика. Возникновение когнитивной лингвистики относят к 1989 году, когда в Дуйсбурге (ФРГ) на научной конференции было объявлено о создании ассоциации когнитивной лингвистики, и она стала отдельным лингвистическим направлением.
О том, что термин «когнитивная наука» является родовым по отношению к термину «когнитивная лингвистика», свидетельствует также наличие другой дисциплины, которая также является гибридом когнитологии с наукой о человеке – когнитивной психологии («cognitive psychology»). «Таким образом, когнитивная лингвистика – одно из направлений междисциплинарной когнитивной науки» [7, с. 10].
Следующий и очень распространенный тип связи внутри терминосистемы когнитивной лингвистики – это синонимия. Примерами могут служить вышеназванные термины «cognitive science» (когнитивная наука), «cognitology» (когнитология) и «cogitology» (когитология), которые являются полными синонимами. Термины «cognitive linguistics» (когнитивная лингвистика) и «cognitivistics» (когнитивистика) также состоят в отношениях полной синонимии. Не столь однозначно прослеживается синонимическая связь между терминами «cognitive linguistics» (когнитивная лингвистика), «cognitive grammar» (когнитивная грамматика) и «cognitive semantics» (когнитивная семантика), однако она присутствует. Дело в том, что исторически американские лингвисты называли то, что сейчас понимается под когнитивной лингвистикой когнитивной грамматикой, а русские лингвисты – когнитивной семантикой, в связи с тем, что они занимались изучением различных аспектов, работая при этом в рамках одного научного направления.
Другим примером полной синонимии могут служить такие термины, как «cognitive metaphor» (когнитивная метафора) и «conceptual metaphor» (концептуальная метафора). Появление этих синонимов связано с тем, что понятие концептуальной метафоры было введено Дж. Лакоффом, который сформулировал теорию в книге под названием «Метафоры, которыми мы живем». Однако позже, поскольку такой тип метафоры был впервые разработан в области когнитивной лингвистики, название дисциплины было перенесено на название термина, и в результате в научных текстах появился термин «когнитивная метафора».
Следующий тип отношений можно назвать «класс – член класса». Примером может являться термин «concept» (концепт) как класс и такие члены класса как «representation» (представление), «scheme» (схема), «notion» (понятие), «frame» (фрейм), «script» (сценарий, скрипт) и «Geschtalt» (гештальт). Данный тип отношений является неоднозначным, поскольку далеко не все лингвисты считают, что представление, понятие и другие термины относятся к видам концепта.
Если внимательно взглянуть на вышеупомянутые термины «representation» (представление), «scheme» (схема), «notion» (понятие), «frame» (фрейм), «script» (сценарий, скрипт) и «Geschtalt» (гештальт), можно отметить, что, помимо вхождения в систему связей «класс – член класса», они находятся в отношении корреляции друг с другом, так как все они характеризуют тот или иной «тип знания, отражения действительности, которое они закрепляют» [7, с. 117]. Хорошим примером корреляции могут также являться термины «computer metaphor» (компьютерная метафора) и «artificial intelligence» (искусственный интеллект). Между ними нет прямой связи типа синонимической, однако взаимосвязь этих терминов несомненна, так как компьютерная метафора – «метафора, сравнивающая мозг и разум человека с компьютером» [3, с. 84] появилась «в процессах интегрирования истории и философии науки с моделированием искусственного интеллекта и когнитивной психологией» [3, с. 84].
Следующим типом отношений являются отношения объекта и процесса, например, «concept» (концепт) – это объект, а «conceptualization» (концептуализация) – «процесс структуризации знаний и возникновения разных структур представления знаний из неких минимальных концептуальных единиц» [3, с. 93]. Еще один пример: «category» (категория) – «одна из познавательных форм мышления человека, позволяющая обобщать его опыт и осуществлять его классификацию» [3, с. 45] и «categorization» (категоризация) – «когнитивное расчленение реальности, сущность которой заключается в делении всего онтологического пространства на различные категориальные области» [5, с. 15].
Еще один тип отношений, который присутствует в терминополе когнитивной лингвистики – это альтернатива. В качестве примера можно привести такую пару терминов как «figure» (фигура) и «ground» (фон, основа), которые «используются в когнитивной лингвистике и обозначают когнитивную и психическую структуру (гештальт), которая характеризует человеческое восприятие и интерпретацию действительности и не сводится к совокупности ее частей» [3, с. 185]. Некоторые ошибочно полагают, что данные термины находятся в антонимическом отношении, однако это неверно. Антонимия предполагает четкую оппозицию (например, черное – белое), а альтернативу можно представить сочетанием союзов «или…или», то есть это понятия, которые не могут сочетаться, но и не прямо противопоставлены друг другу.
Многозначность, как тип в связи в терминосистеме когнитивной лингвистики представлена термином «cognitivism» (когнитивизм). С одной стороны, его можно включить в группу синонимов «cognitive science» (когнитивная наука), «cognitology» (когнитология) и «cogitology» (когитология), с другой стороны, этим же термином обозначают:
- программу исследований человеческого «мыслительного механизма»;
- изучение процессов переработки информации, приходящей к человеку по разным каналам;
- построение ментальных моделей мира;
- устройство систем, обеспечивающих разного рода когнитивные акты;
- понимание и формирование человеком и компьютерной программой мыслей, изложенных на естественном языке;
- создание «искусственного интеллекта»;
- психические процессы, обслуживающие мыслительные акты [5, с. 7].
Данные значения не противостоят друг другу, однако отстоят достаточно далеко, чтобы можно было с уверенностью заявить о многозначности термина «когнитивизм».
Наконец, последний тип отношений, рассматриваемый в данной статье, – это омонимия. Если взглянуть на трактовку термина «concept» (концепт) в интерпретации разных авторов, то можно предположить, что это не размытость термина, а действительно разные термины, заключенные в одной оболочке. Если обратиться к определениям концепта Р. М. Фрумкиной («вербализованное понятие, отрефлектированное в категориях культуры» [9, с. 60]), А. Вежбицкой («объект из мира «Идеальное», имеющий имя и отражающий культурно-обусловленное представление человека о мире «Действительность» [1, с. 204]) и В.В. Красных («максимально абстрагированная идея «культурного предмета», не имеющего визуального прототипического образа, хотя и возможны визуально-образные ассоциации, с ним связанные» [2, с. 272]), то можно заметить, что Р.М. Фрумкина и А. Вежбицкая считают, что концепт вербализован, то есть, выражен словесно. В.В. Красных, в свою очередь, полагает, что даже в сознании концепт не имеет «визуального прототипического образа» [2, с. 272], а только лишь некоторые визуально-образные ассоциации, хотя и такое бывает не всегда. Возможно, такое расхождение является не ошибкой одного из лингвистов, а случаем омонимии в терминосистеме когнитивной лингвистики.
Однако данная тема не может быть ограничена только вышеотмеченными терминами и типами связей и требует дальнейшей разработки.
Библиографический список
- Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая. – М. : Русские словари, 1996. – 231 с.
- Красных, В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? / В.В. Красных. – М. : Гнозис, 2003. – 375 с.
- Кубрякова, Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина. – М. : ЦИИ МГУ, 1996. – 248 с.
- Марчук, Ю.Н. Основы терминографии : метод. пособие / Ю.Н. Марчук. – М. : ЦИИ МГУ, 1992. – 76 с.
- Маслова, В.А. Когнитивная лингвистика : учеб. пособие / В.А. Маслова. – Минск : ТетраСистемс, 2004. – 256 с.
- Никитина, С.Е. Тезаурус по теоретической и прикладной лингвистике / С.Е. Никитина. – М. : Наука, 1978. – 376 с.
- Попова, З.Д. Когнитивная лингвистика / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – М. : АСТ : Восток-Запад, 2007. – 314 с.
- Ремнева, М.Л. Об опыте гипертекстового изложения учебных курсов / М.Л. Ремнева, О.В. Дедова // Вестник Московского университета. Филология. – 2001. – Вып. 6 – С. 181–196.
- Фрумкина, Р.М. «Теории среднего уровня» в современной лингвистике / Р.М. Фрумкина // ВЯ. – 1996. – № 2. – С. 55–67.
УДК 81’33.373-374
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРЕЙМОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ РУССКО-АНГЛИЙСКОМ И АНГЛО-РУССКОМ МАШИННОМ И РУЧНОМ ПЕРЕВОДЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
Е.Ю. Горбунов
В настоящей статье рассматривается технология перехода от тезауруса к тексту с использованием фреймовых приемов машинного и ручного перевода с английского языка на русский и с русского языка на английский.
Приемы тезаурусного моделирования «мягких» лингвистических систем являются не только инструментом структурирования понятийного аппарата некой предметной области (ПО) путем выделения понятийно-логических связей между объектами, но и технологическим средством решения прикладных задач, связанных с анализом и формальной (в том числе автоматической) переработкой текста [Косарев, 1989; Богданов, 1993; Марчук, 1999; Коваль, 2005]. Дело в том, что каждое понятие, включаемое в тезаурус, имеет строго закрепленное место в матрице терминополя, которое определяется путем анализа группы признаков. На языковом уровне каждый узел тезауруса должен быть заполнен понятием, закрепленным за соответствующим означающим, которым является термин или терминологическое словосочетание (ТСС). Эти термины или ТСС могут быть найдены, с одной стороны, в нормативных лексикографических источниках, а также в авторских грамматиках.
В отличие от системы языка и моделирующего ее логико-семантическую структуру тезауруса, представляющих собой статичное состояние лингвистических (терминологических) знаков, структура текста носит динамический характер. Первым этапом синтагматической реализации языковой системы служит система речи. Здесь терминологические единицы претерпевают первый шаг актуализации в соответствии с задачами коммуникации человек – человек или человек – лингвистический автомат (ЛА). В системе речи раскрывается имплицитно содержащаяся в тезаурусе интенсиональность терминологических понятий, что выражается в фиксировании комплекса возможных речевых реализаций системных значений и форм.
Одним из эффективных технологических средств моделирования процесса построения текста и актуализации в нем языковых единиц является использование готовых текстовых шаблонов, или фреймов, отражающих структуру речи. Эти шаблоны представляют собой линейно организованные структуры данных, которые охватывают информацию о некой стереотипной ситуации или классе ситуаций [Филлмор, 1988: 52–59].
Общая схема фрейма, восходящая к работам М. Минского [Минский, 1979: 6–9], выглядит следующим образом: имеется сеть, состоящая из ячеек и связей между ними. Часть ячеек фрейма четко определены и заполнены такими понятиями (точнее, определяющими их терминами), которые всегда справедливы по отношению к предполагаемой ситуации. На более низких уровнях расположены пустые ячейки-терминалы, которые должны быть заполнены конкретными примерами или данными, извлекаемыми человеком или ЛА из соответствующей ситуации. Смысл применения фреймовых шаблонов заключается в том, что они ориентированы на извлечение из текста основной, типической и потенциально возможной информации, которая ассоциирована с той или иной ситуацией [Аполлонская, 1985: 180–197]. Таким образом, использование готовых текстовых шаблонов (фреймов) является одним из эффективных технологических средств моделирования процесса построения текста и актуализации в нем языковых единиц в рамках трехзвенной концепции речевой деятельности «система языка – система речи – текст».
В рамках настоящей статьи наибольший интерес представляют те шаблонные ситуации, которые позволяют организовать нормативный русско-английский и, наоборот, англо-русский машинный и ручной перевод терминов для обозначения частей речи и грамматических категорий имени существительного в тексте. В процессе фреймового перевода мы будем обращать внимание на возможные информационные потери, которые могут возникнуть при машинном англо-русском переводе текста, ориентируясь на примитивы, закрепленные за лексической единицей (ЛЕ) в конкретном речевом употреблении.
Проиллюстрируем тезаурусно-фреймовую технологию обработки текста по интересующей нас грамматической тематике с применением фреймовых матриц [Ященко, 1990: 24–31; Зайцева, 2003: 15–32; Chingareva-Slavine, 2003: 231; Ивкина, 2004: 20–21; Коваль, 2005: 105], на примере:
- машинного перевода русского предложения Преподаватель разъяснил мне понятие интенсионала на английский язык;
- машинного и ручного перевода английского предложения A teacher has explained me the intensional meaning с неопределенным артиклем в начальной позиции на русский язык;
- машинного и ручного перевода английского предложения The teacher has explained me the intensional meaning с определенным артиклем в начальной позиции на русский язык.
Фрагмент перехода от языковой модели понятийно-функционального терминополя частей речи (схема Р. Траска) к речевой модели машинного русско-английского перевода контрольного предложения с помощью фреймовых матриц, представлен на рис. 1.
Верхние ячейки моделируемых нами фреймовых моделей заполнены терминологией для обозначения частей речи и грамматических категорий имени существительного. Слоты заполняются русскими и английскими ЛЕ с информацией относительно конкретного падежа, числа и рода-пола имен существительных с соответствующими актуализованными в тексте примитивами.
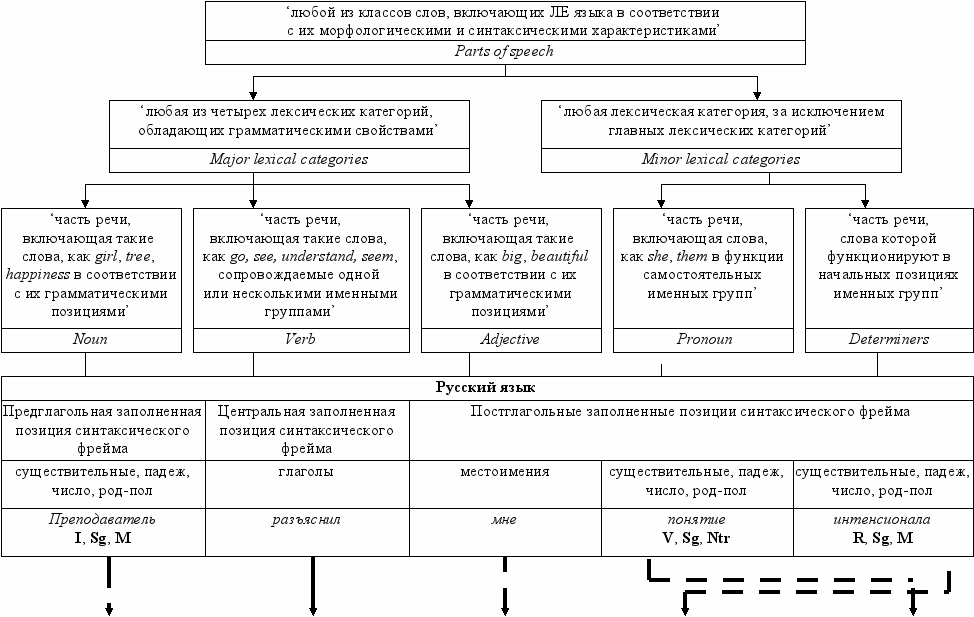

Структура фреймовых моделей русско-английского и англо-русского машинного и ручного перевода контрольных предложений строится здесь по схеме Л. Теньера [Теньер, 1988], в соответствии с которой выделяются заранее заполненные глаголами в прошедшем времени (модели русского языка) и настоящем совершенном времени (модели английского языка) центральные слоты-предикаты и зависимые предглагольные и постглагольные слоты-актанты на основании глагольной валентности.
Так, в русском языке фреймовая структура исходного предложения Преподаватель разъяснил мне понятие интенсионала, предполагает наличие пяти слотов, один из которых предглагольный, остальные постглагольные. Первый слот фрейма заполнен существительным в именительном падеже, единственном числе и в мужском роде. Центральный слот заполнен, как уже говорилось выше, глаголом в прошедшем времени. Третий слот заполняется личным местоимением. В четвертый слот попадает существительное в винительном падеже, единственном числе с показателем среднего рода. Пятый конечный слот фрейма заполнен существительным в родительном падеже, в единственном числе с показателем мужского рода.
При машинном переводе русского предложения на английский язык первый слот русского фрейма переводится в слоте английского фрейма комбинацией артикля ‘неопределенность’* с именем существительным, которые составляют единое целое. Это служит показателем того, что при русско-английском переводе важно учитывать различение примитивов ‘определенность’* и ‘неопределенность’*, из которых формируется объем интенсионала артикля. В первом слоте английского фрейма также указывается информация о замене именительного падежа русского существительного общим падежом ‘начальная позиция в предложении’*, а также замене мужского рода на общий род-пол с соответствующими примитивами ‘мужской пол’* и ‘женский пол’*.
Второй слот русского предложения переводится в слоте английского фрейма заранее заполненным глаголом в настоящем совершенном времени. Третий слот фрейма в английском языке, также как и в слоте русского фрейма, заполняется при переводе личным местоимением. Четвертый слот фрейма русского предложения переводится в структуре английского фрейма конечным пятым слотом, который заполнен существительным с информацией относительно замены на общий падеж ‘постглагольная позиция в функции прямого дополнения’* и средний род-пол ‘неодушевленность’*. Что же касается пятого конечного слота фрейма русского предложения, то он переводится в структуре английского фрейма четвертым слотом, который заполнен комбинацией артикля ‘определенность’* с именем прилагательным.
Перейдем теперь к особенностям фреймового машинного и ручного перевода на русский язык английских контрольных предложений, в первом случае, когда в начальной позиции перед существительным стоит неопределенный артикль и, наоборот, когда он заменяется артиклем определенным. В связи с возможными информационными потерями при машинном переводе ЛЕ с языка на язык, нас будет интересовать, в первую очередь, перевод первых слотов фреймовых моделей английских предложений на русский язык.
Так, при машинном переводе первого слота фрейма английского предложения с неопределенным артиклем, в первом слоте русской фреймовой модели происходит потеря артикля ‘неопределенность’*, а перевод первого слота английского фрейма с определенным артиклем показывает, что в первом слоте русского фрейма теряется артикль ‘определенность’*. Возникшие в процессе англо-русского машинного перевода информационные потери, восполняются ручным переводом первых слотов фреймовых моделей контрольных английских предложений. Так, неопределенный артикль переводится в первом слоте русского фрейма местоимением ‘неопределенность’*, а определенный артикль – местоимением ‘указание’*. Кроме того, в первых слотах фреймовых моделей русских предложений происходит также замена общего падежа английского существительного на именительный падеж ‘начальная позиция в предложении’*, а также среднего рода-пола на мужской род. Второй и третий слоты фреймовых моделей английских предложений переводятся в слотах русских моделей соответственно глаголом в прошедшем времени и личным местоимением. Четвертые слоты английских фреймовых моделей переводятся на русский язык пятыми конечными слотами русских фреймов. В слотах русских фреймовых моделей происходит замена комбинации определенного артикля с именем прилагательным на имя существительное в родительном падеже с примитивами ‘отторжимая принадлежность’ и ‘употребление в постпозиции к определяемому слову’, а также замена среднего рода-пола на мужской род. И, наконец, пятые слоты фреймов английских предложений переводятся на русский язык четвертыми слотами с заменой общего падежа английского существительного на винительный падеж ‘предметность’*.
В результате приходим к выводу, что при фреймовом англо-русском машинном переводе контрольных предложений с артиклями в начальной позиции, в целях минимизации информационных потерь, необходимо заранее вводить в модуль ЛА информацию о возможной замене английских артиклей на неопределенные и указательные местоимения при их ручном (редакторском) переводе на русский язык.
Таким образом, рассмотренные фреймовые модели русско-английского и англо-русского машинного и ручного перевода терминов, обозначающих части речи и грамматические категории имени существительного получают перспективу прикладного инженерно-лингвистического использования как готовые шаблоны-сценарии в процессе человеко-машинного диалога в структурных компонентах обучающего лингвистического автомата (ОЛА).
Библиографический список
- Аполлонская, Т.А. Функциональная грамматика. Фрейм – автоматическая переработка текста / Т.А. Аполлонская, Р.Г. Пиотровский // Проблемы функциональной грамматики : сб. ст. / АН СССР, Отд-ние лит. и яз. [и др.]. – М., 1985. – С. 180–197.
- Богданов, В.В. Текст и текстовое общение : учеб. пособие / В.В. Богданов. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 1993. – 68 с.
- Зайцева, Н.Ю. Семиотика романских терминологических систем в их сопоставлении с английскими и русскими : автореф. дис. … д-ра филол. наук / Н.Ю. Зайцева ; [Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена]. – СПб., 2003. – 36 с.
- Ивкина, А.В. Особенности образования и перевода терминов в английском, французском и русском языках (на материале предметной области «Телекоммуникация» и подобласти «Телефония») : автореф. дис. … канд. филол. наук / А.В. Ивкина ; [Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена]. – СПб., 2004. – 24 с.
- Коваль, С.А. Лингвистические проблемы компьютерной морфологии / С.А. Коваль. – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005. – 151 с.
- Косарев, Ю.А. Естественная форма диалога с ЭВМ / Ю.А. Косарев. – Л. : Машиностроение, 1989. – 143 с.
- Марчук, Ю.Н. Основы компьютерной лингвистики : учеб. пособие / Ю.Н. Марчук. – М. : Изд-во Моск. пед. ун-та, 1999. – 221 с.
- Минский, М. Фреймы для представления знаний : пер. с англ. / М. Минский. – М. : Энергия, 1979. – 152 с.
- Теньер, Л. Основы структурного синтаксиса : пер. с фр. / Л. Теньер ; отв. ред. В. Г. Гак. – М. : Прогресс, 1988. – 653 c.
- Филлмор, Ч. Фреймы и семантика понимания : пер. с англ. / Ч. Филлмор // Новое в зарубежной лингвистике. – М., 1988. – Вып. 23 : Когнитивные аспекты языка. – С. 52–59.
- Ященко, Т.В. Матричная методика автоматического отождествления и перевода на русский язык сложных английских научно-технических терминов / Т.В. Ященко // Науч.-техн. информ. Сер. 2. – 1990. – № 11. – С. 24–31.
- Chingareva-Slavine, E. Sémiotique, linguistique et modélisation / E. Chingareva-Slavine. – Paris : Hérmès sciences, 2003. – 261 p.
