Серия: «Уровневый подход в экономических
| Вид материала | Книга |
- Список отечественных реферируемых журналов, 49.66kb.
- Уровневый подход к определению благосостояния населения леонидова А. И. Красноярский, 90.32kb.
- Программа дисциплины дпп. 08 Экономическая теория шифр дисциплины и ее название в соответствии, 932.86kb.
- Синергетический подход при исследовании экономических систем и. Р. Биктеева Аспирантка, 135.19kb.
- Программа курса основы нового управления (психологический аспект), 401.34kb.
- Д. Г. Управленческие решения в экономических системах: Учебник, 33.66kb.
- Неделя I: Лекция. Научные подходы к управлению, 148.14kb.
- Вопросы к экзамену по «Истории», 33.18kb.
- Доннаса осуществляет подготовку по следующим направлениям (специальностям), 314.8kb.
- Удк 556. 18: 300. 15 Эколого-экономическая оценка эффективности, 94.54kb.
Теперь далее. До сих пор речь шла об отношениях между людьми. Позволим себе спросить: а могут ли в принципе существовать отношения между человеком и вещью? На первый взгляд, да. Вот очень характерный пример: человеку приходится ночевать в каком-нибудь старинном замке, одному в комнате для гостей, с большим камином и почтенной мебелью. Электричества нет – только свечи, за окном страшная гроза, в пустом тёмном помещении таинственно и жутко. Воздействует ли комната (система определенных вещей со своей сложившейся атмосферой) на человека? Безусловно, да. Следовательно, возникает коммуникация комнаты с постояльцем, иными словами, комната вступает с гостем в какие-то отношения? Попробуйте отрицать это!
На самом деле лишь человек может одушевлять вещи. Вещь сама по себе не способна вступать в какие-либо отношения с живыми существами; ей это по определению не дано. Как говорят админы о компьютерах, железка – она и есть железка, бесчувственный кусок металла. И не больше. Так же и комната не может вступать в отношения с человеком; другое дело, что человек открывает линию коммуникаций с комнатой, то есть, так сказать, в одностороннем порядке, по своей инициативе сам пробует выстраивать какие-то отношения с ней.
Что происходит дальше? Смотрим. Допустим, у нас есть А и Б – два живых существа (человек и человек, либо человек и кошка, либо кошка и собака, либо лев и лань и т.п.). В этом случае от А к Б идет некий коммуникационный поток2, и от Б к А тоже идет встречный коммуникационный поток; в результате образуется коммуникационная линия. Мы говорим о взаимодействии А и Б, либо, если угодно, назовём это отношениями. Понятно, что отношения могут качественно различаться, к примеру, быть равноправными или неравноправными, но суть здесь не в этом. Для нас важно взаимодействие между живым как таковое:
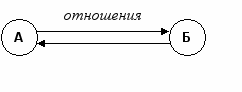
Теперь представим, что А – живое, а Б – нет, то есть некий неодушевлённый предмет, вещь. Как изменится схема взаимодействия? Мы исходим из того, что А может вступать в какие-либо отношения с Б, а вот Б с А – не может. Тем не менее, создается видимость отношений Б с А. За счет своего рода отражения коммуникационного потока, источником которого выступает А:
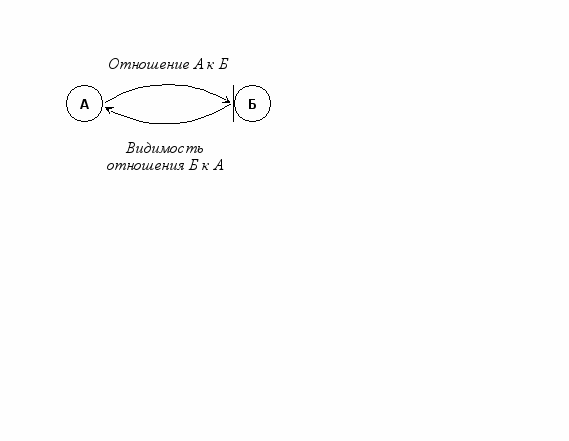
Здесь коммуникационный поток исходит из А, достигает Б, отражается от него, как от экрана, и возвращается к А. А выступает в роли, как бы покорректнее сказать, летучей мыши, посылающей сигнал и воспринимающей его отражение от объекта. Именно возврат сигнала создает впечатление общения (взаимодействия, коммуникации) Б с А, хотя, по определению, неодушевлённый объект Б не способен к каким-либо формам коммуникаций1.
Поэтому не комната вступает во взаимодействие с гостем. Сам гость открывает коммуникацию и как следствие получает свой же коммуникационный поток обратно, впрочем, усиленный или искажённый, – а вот последнее определяет тон предмета; понятно, что искажение тем больше, чем больше разница между тонами А и Б.
Пример: человек А в тоне 1,5 инициирует коммуникационный поток в отношении некоего предмета или группы предметов Б, изготовленных другими людьми, причём тон Б определим как 2,5 – насчёт последнего см. разъяснения в разделе «Тон продукта». Поток идет от А к Б, усиливается с 1,5 до 2,5 и возвращается к источнику сигнала, неся с собой информацию о более высоких тонах. В принципе ничего мистического или необычного здесь нет. Наука прекрасно знает такую вещь как интерференция (способность волн усиливать или гасить друг друга). Новое здесь заключается лишь в распространении давно известных законов на уровневую шкалу.
Напомним, что есть тон продукта (предмета, вещи, изготовленного человеческими руками и/или головой)? Это есть тон идеи – конструкторской, производительской, потребительской, инженерной либо, например, идеи в сфере управления, науки, культуры, искусства и т.п. Следовательно, в предметах (вещах) уже заложен организационный, технический и технологический, мыслительный, а также эстетический и иной уровень их создателей, с учетом опыта человечества в тех или иных сферах. Именно эти невидимые создатели вещей передают им свой тон и, таким образом, незримо присутствуют в своих творениях.
Посредством предмета Б человек А общается с теми, кто сделал возможным существование Б в этом мире. И, собственно говоря, он воспринимает тон не самого предмета, а тон того невидимого, что спрятано в этом предмете, тон тех, кто за ним стоит. Поэтому коммуникационный поток А отражается от фронта – фронт образуют целые дивизии, даже армии поколений людей, своей деятельностью подведшие к появлению данного [частного] предмета на свет. Они и представляют собой тот потенциал, за счет которого становится возможным усиление волны.
Таким образом, коммуникационный поток, отражённый и усиленный, при возвращении от Б к А меняет исходящее начало на входящее, и такое как бы «отношение» вещи и человека, с точки зрения последнего, представляется входящим.
В результате человек при взаимодействии с предметами более высоких тонов вынужден надевать на себя нечто вроде социального тона1 – внешнего, формального, который в какой-то степени предписывает ему лояльное поведение на [невидимой] публике, по крайней мере, в обычной (не экстремальной) ситуации. Так дикарь из какой-нибудь глухомани будет особо уважительно и осторожно относиться к компьютеру или микроволновке, что может быть не свойственно его отношению к вещам вообще – тем, которые окружают его дома.
А что будет, если мы имеем обратную ситуацию – когда тон человека 2,5, а тон предмета (группы предметов) 1,5? Здесь надо полагать, что мы сами по себе являемся продуктом общества, то есть в нас уже заложен определённый потенциал, созданный поколениями, жившими до нас. Наши вкусы, знания, система воспитания и мировоззрения, наш стиль отношения к жизни, наше этническое (коллективное) бессознательное, наш уровень потребления и общения с продуктами человеческой деятельности – всё это сидит в нас под видом тона 2,5 и в значительной степени обуславливает наше отношение к тому объекту, который здесь, в тексте, обозначен как Б (предмет, вещь, или группа предметов, вещей в сочетании, совокупности). И вот, наш потенциал ни в коей мере не может быть реализован при взаимодействии с Б, нам тесно, мы подсознательно чувствуем, что предлагаемый в данном случае уровень – не наш. Отсюда возникает целая гамма ощущений: от равнодушия до чувства снисходительности к Б, от некоей невысказанной неудовлетворённости до – в ряде ситуаций – раздражения. А может быть, и дискомфорта. Во всяком случае, если заставить современного западного человека пожить некоторое время в африканской хижине (тон её, правда, будет даже не 1,5, а 1,0 или ниже), то он это чувство дискомфорта, несомненно, испытает. И, таким образом, на деле проверит, что значит несовпадение тонов.
Аналогичный пример дают нам средневековые замки. Тон их – примерно 1,5 ± 0,5, в зависимости от времени постройки, конструкции, изначальных удобств и т.п.2 Если такой замок осовременить, сменить мебель на соответствующую нынешним временам, сделать кардинальный ремонт, приспособить помещения под себя, то в них ещё можно жить. Но и тогда многое не будет укладываться в наше представление об адекватном тоне вещей. Так, слишком велико будет жилое пространство, заполненность людьми оставляет желать лучшего, огромные масштабы уборки и поддержания комнат в приличном состоянии требуют целый штат обслуги, – а это уже попахивает чисто феодальными отношениями, с учётом складывающейся на деле иерархии человеческих взаимосвязей, и т.д. То есть в конечном итоге всё это способствует некоторому снижению собственного тона, что у достаточно сильных личностей (умеющих сопротивляться развитию вспять), безусловно, вызывает дискомфорт. Поэтому современные владельцы замков так часто отказываются от них, избегая или выставляя на продажу; а в некоторых случаях решают проблему по-иному – «демократизируют» своё владение, превращая замок в музей или гостиницу, пуская посетителей и тем самым совершенно меняя атмосферу, повышая тон самого продукта.
Если же оставить замок в его исходном состоянии – таким, каким он и должен был быть по замыслам его создателей, так сказать, с нуля, – то обитать в нём сегодня в принципе нельзя, при условии, что владелец, как и мы, присутствует в XXI веке.
Как результат, у носителей более высоких тонов (у человека А) появляется стремление «улучшить» продукт, с которым ему приходится иметь дело (Б): осовременить африканскую хижину, замок, добавить удобств и т.п. Или, если речь идёт о каком-нибудь мелком, частном предмете, просто не уделять ему должного внимания либо использовать исходя из чисто эстетических (познавательных) побуждений, – например, оставить на память дедушкину саблю, задвинуть в уголок комода национальный сувенир из слаборазвитой страны Х, исполненный в духе народного примитивизма, затащить на чердак давно вышедшие из моды наряды, которые жалко выбросить, и т.п.1 В этом случае мы чувствуем гораздо меньшую зависимость от вещей и даже по-своему пытаемся регулировать их тон, приблизив к своему. Отсюда: отношения с вещью становятся для нас не входящими, а исходящими. То есть коммуникационный поток, который мы адресуем неодушевлённому объекту Б, отражается и возвращается к нам обратно либо с сохранением заданного тона, либо даже с меньшим тоном, то есть не усиленный, а, наоборот, ослабленный (несколько погашенный). Исходящее начало так и осталось исходящим, не поменяв, так сказать, своего знака.
Вещь воздействует на человека или человек воздействует на вещь? – этот вопрос отнюдь не риторический и относится не только к сфере философии. Современному маркетингу его не худо бы иметь в виду.
Далее. Выше мы говорили почти исключительно о продуктах человеческой деятельности, то есть созданных руками и/или головой. Мы уже понимаем, что они несут в себе тон своих создателей. Но есть сфера, к которой человек никак не приложил себя (в общем никак или, по крайней мере, никак с определённого уровня наблюдений) – это дикая природа. Или мир в своём самом естественном проявлении. Логично спросить, распространяется ли на него правило тонов, можно ли вообще ставить вопрос о том, что тон имеют горы, леса, озёра и т.п.?
Отставим в сторону экологический аспект, который сам по себе, безусловно, важен. Если так, то рискнём предположить, что «чистая» природа, не созданная человеком, по идее не очень-то подчиняется тонам и в значительной мере от них свободна1. Тон – иначе уровень – не объективная категория, он субъективен. Следовательно, мы можем только видеть связку состояние человека – природа, точнее, природная среда, которая его окружает, иначе состояние природной среды. Насколько неодушевлённая материя способствует жизни (лучшей жизни, выживанию, продвижению от низшего к высшему), насколько она удовлетворяет жизненным потребностям (не только физическим, но и душевным, духовным) человека? Насколько мы можем сказать, что суть неживое – для суть живого?
Человек внутренне, сам для себя, оценивает тон «диких» неодушевлённых вещей, тем более в их совокупности – речь идёт о природе, среде обитания, окружающем пространстве, наполненном естественными физическими предметами, – по степени их лояльности к факту своего существования. Способствуют ли они жизни, деятельности, творчеству, созиданию, мышлению и другим неотъемлемым свойствам нас как живых, самодостаточных организмов и индивидуумов? Если да, то мы вправе рассматривать их «тон» как наивысший или, по крайней мере, относительно высокий. Если нечто косное начинает нам в чём-то угрожать, то мы воспринимаем это как откат от оптимального (для нас) состояния, и, следовательно, «тон» той, другой (неодушевлённой) стороны ползёт вниз.
Пример – с морем. Море есть природный объект, не созданный человеком и не имеющий, таким образом, самостоятельного тона (иными словами, к морю не могут быть применены критерии оценки тона продукта). Вот мы видим милый, славный морской пейзаж с белым песочком и ласковым солнышком; мы готовы купаться, загорать, радоваться тёплой водичке, как дети, и, понятное дело, это идёт нам на пользу, а следовательно, тон моря для нас субъективно высок. Иное дело – грозное, хмурое море, шторм, качка, морская болезнь – этот набор несёт в себе угрозу для нашего выживания, и в силу этого тон моря мы воспринимаем как низкий, чертовски низкий для нас. Повторяю, речь здесь идёт сугубо о субъективном отражении. Так, бывалый капитан не обратит на шторм особого внимания, то есть для него лично тон моря в момент волнения отнюдь не будет столь низок; с другой стороны, полный штиль при ласковом солнышке может показаться кошмаром потерпевшим кораблекрушение, которые спаслись на плоту и только и ждут попутного ветра.
То же самое можно сказать и о тоне гор, тоне бескрайних степей или австралийского буша. То же можно сказать вообще о панораме за окном уединённой гостиницы, где-нибудь подальше от городской суеты. Прелестный вид вызывает у нас желание жить здесь (хотя бы какое-то время), то есть мы готовы поставить данности природы наивысшую отметку на шкале тонов. Но всё то же самое оценивается нами гораздо ниже, если за спиной нет ни гостиничного номера, ни гостиницы, ни вообще людского жилья на многие мили вокруг, а также дорог, аэропортов, бензозаправок, метеостанций и прочих атрибутов того, что позволяет нам поддерживать свой собственный тон на достаточно высоком уровне2.
Отдельно нужно сказать, что субъективность восприятия также зависит от фактора ночи и фактора одиночества. Фактор ночи несёт в себе потенциальную угрозу для выживания, поскольку ночь полна тайн, а тайны сами по себе снижают уровень нашей безопасности. Если мы чего-то не знаем (не видим, не замечаем), хотя по идее должны бы, то мы начинаем бояться или, по крайней мере, опасаться, становясь более беззащитными и уязвимыми. Тем более в незнакомой или малознакомой обстановке. Это ослабляет нашу сопротивляемость, и тон наш волей-неволей снижается вне зависимости от желания и силы воли.
Фактор одиночества сродни фактору ночи. Человек если не стадное, то, во всяком случае, социальное существо, он по определению не действует в одиночку или – так поставим вопрос – эффективность его одиночных действий заведомо ниже, чем эффективность действий сообща. Поэтому оставшийся один должен осознавать, что тон его будет иметь тенденцию к снижению – со всеми вытекающими последствиями (раздражение, сожаление, страх, отчаяние, усталость, безнадёжность – в общем, всё по шкале тонов).
Зная это, вернёмся ещё раз к примеру с гостем в замке и попробуем закончить моделирование ситуации. Пусть тон гостя – в дневное время и в компании с кем-то – будет 2,5…2,8. А тон замка и, в частности, гостевой комнаты – 1,5…2,0. При таком раскладе сил замок никак не сможет влиять на приезжего; наоборот, сам человек свежим взглядом будет замечать некоторые замковые несуразности, которые вносят диссонанс в гармонию прошлого и настоящего. Мы полагаем, что отношения человек – замок являются в данном случае скорее исходящими. Но если усреднённый тон человека 2,5…2,8, то это не значит, что его тональность строго неизменна и не зависит от времени суток и субъективных условий (самочувствие, настроение etc). Конечно, динамика изменения тона находится всё время в движении, ибо это живой человек, и оговоренный выше тон его – не более чем обычное, преобладающее состояние.
Вечером, после «спокойнойночи» хозяевам, гость остаётся один, и к тому же всем своим нутром ощущает угасание открытости, лёгкости и свободы передвижения в этом новом, неизведанном для него пространстве. То есть в действие вступают факторы ночи и одиночества. К тому же добавим сюда грозу – фактор невыживания1 и вполне вероятные страшилки, которыми по традиции потчуют приезжих обитатели замка. (Пример. Гость дворецкому: «Скажите, а комната, куда вы меня ведёте, – с ней не связано никаких историй?» – Дворецкий гостю: «Связано, сэр. Рассказывают, что лет сорок назад гость, который ночевал в ней, на следующее утро остался цел и невредим»).
Тон постояльца понижается, – собственно, он не обязательно должен понижаться, но мы намеренно рассматриваем экстремальный сценарий. Учащается пульс, начинает неприятно ныть в груди, и гость с опаской озирается по сторонам, вглядываясь в мрачноватые тени на стенах. Итак, пришёл тон 1,0 (страха, некоторых нервных переживаний). А тон комнаты, как мы помним, 1,5…2,0. И коммуникационный поток, исходящий от бедолаги, отражаясь от объекта коммуникаций, возвращается к субъекту, но уже не ослабленный, а, напротив, усиленный. Исходящие отношения человек – замок превращаются во входящие. Вещь начинает давить на человека, и процесс этот поддаётся с его стороны контролю всё меньше и меньше.
Таким образом, делаем вывод: ощущение отрицательного взаимодействия с комнатой замка есть наши же отраженные эмоции, помноженные на мысли и действия создателей замка. На деле мы сами строим отношения с собой, хотя и с поправкой на вклад ушедших поколений1.
Впрочем, мы отвлеклись. Вернёмся к треугольнику продвижения, вооружённые приведенной информацией, и постараемся понять, что из сказанного можно выжать.
Итак, мы исходим из постулата: человек способен вступать в отношения с вещью (в том числе товарами, услугами – продуктами человеческой деятельности). Человек способен вступать в отношения также с целыми группами вещей (включая множество товаров, услуг одного или разных уровней). Человек способен вступать в отношения и с товарной средой как таковой.
Во всяком случае, всё это представляется именно как отношения человек – вещь, и, осознавая, что на деле правильнее говорить об отношениях человек – человек, будем, тем не менее, для наглядности анализа исходить из такой, постулированной нами, конструкции.
Отношения человек – продукт (товар или услуга) могут быть исходящими, входящими либо нейтральными. Последнее означает, что тон человека и тон продукта полностью совпадают, потребитель находится как бы в своей среде, и она настолько естественна, что нет ощущения, будто с вещами возникают какие-либо отношения. Человек и вещи (продукты) образуют единое неразрывное целое, и А влияет на Б в той же степени, в какой и Б на А. Так, повар чувствует себя как рыба в воде на родной кухне, становясь частью её – со всей её неизменной утварью. А столяр словно живёт в своей мастерской, совершенно не допуская мысли о том, что у него с рубанком складываются «какие-то там ещё связи».
Между тем, именно так и должно быть. Ведь замечается не норма, а отклонения от неё. Как известно, работу правительства замечают только тогда, когда правительство работает плохо.
То, что с вещами образуются некие отношения, нам приходит в голову по мере несовпадения тонов. Да, мы, без сомнения, чувствуем ситуации, когда вещи (продукты) начинают на нас давить. Так же мы осознаём, когда вещи (продукты) ниже нас, точнее, их уровень однозначно не стыкуется с нашим. Это свидетельствует о том, что человеку в принципе дано различать тон вещей, и определяется он довольно безошибочно. Не всегда отдавая себе отчёт в том, что такое тон продукта, человек, тем не менее, наделён аппаратом для его восприятия.
Чем больше вещей (продуктов) вокруг нас, тем точнее мы производим сопоставление уровней – уровня данных вещей (продуктов) и нашего собственного уровня. Чем больше товаров и услуг предлагается нам к потреблению, тем лучше мы определяемся с тем, соответствует ли предложение нашим истинным, подспудным интересам и запросам – по сути, с точки зрения наполнения, или качества.
Мы потенциально способны ощущать свой товар или свою услугу (свою группу товаров или свою группу услуг). Мы практически всегда узнаём нужное нам – так же, как видим своего в толпе чужих людей.
Далее. Отношения человек – продукт имеют избирательный характер. Что это значит? До сих пор в тексте, когда мы упоминали о том, что человек вступает в отношения с вещью, возможно, некоторые читатели по умолчанию полагали, что такие отношения возникают в обязательном порядке, как нечто неизбежное и естественное. Появилась вещь в относительной близости от человека – и соответственно тут же строятся выше оговоренные отношения с ней. Есть человек – есть отношения, и никак иначе. Однако на самом деле это далеко не так. Довольно часто бывает, что человек не вступает с окружающими его вещами ни в какое [осознаваемое им] взаимодействие, и соответственно о каких-либо отношениях не может быть и речи. Примером служит ситуация, когда гость в замке напился допьяна, и находится ниже уровня страха, да и вообще понимания обстановки.
Попросту говоря, гостю всё равно, и он, добравшись до комнаты, валится мешком на кровать. И пусть тон комнаты 1,5…2,0, но тон человека в этом случае может быть менее 0. Конечно, по пути можно удариться о комод, набить шишку при столкновении с косяком двери (то есть вступить таки во взаимодействие с предметами), и всё же это не есть достаточное основание, чтобы ощутить, как комната напрягает. У пьяного часто ограниченная чувствительность к боли.
То же самое можно сказать и о примере с толпой людей: можно видеть чужих, можно видеть среди них своего, но можно ведь и ничего не видеть. И для этого не обязательно быть выпившим. Если человек отрешён, если он углубился в себя, остался один на один со своими переживаниями, то и внешнее для него отходит на второй план, как бы [временно] не присутствует в его личном мире. Отсюда вывод: для создания коммуникационного потока, его отражения от Б и возврата к А необходимо условие
