Владимир леви
| Вид материала | Документы |
СодержаниеГенераторы и детекторы Норма сочувствия НЕЧТО О ВЗГЛЯДЕ (В дополнение к сказанному) Дальнейшие размышления о бе30тчетн0м общении. |
- Владимир Львович Леви Приручение страха Это книга, 2043.71kb.
- Книга рабби Леви Ицхака из Бердичева «Кдушат Леви», 993.64kb.
- Владимир Леви, 3446.59kb.
- Леви Владимир Львович, 3110.92kb.
- Владимир Львович леви, 2598.18kb.
- Владимир Львович леви, 2646.53kb.
- Владимир Леви «Новый нестандартный ребёнок», 277.06kb.
- Владимир Львович Леви как воспитывать родителей или новый нестандартный ребенок, 3493.22kb.
- Текст взят с психологического сайта, 9752.59kb.
- Новый год в финской лапландии курорт Леви 28. 12. 11-04. 01., 163.71kb.
ГЕНЕРАТОРЫ И ДЕТЕКТОРЫ
Эмоциональное эхо знакомо всем не меньше, чем двигательное. Оно неотделимо от двигательного, но не исчерпывается им, это более высокий уровень интеграции.
Вероятно, самое яркое, бросающееся в глаза — заражение смехом. Вы еще не понимаете, чему смеется этот человек, но уже хохочете вместе с ним. Удержаться невозможно, смех — это эмоциональные судороги (и сейчас бывают эпидемии насильственного смеха, вернее, микроэпидемии — у детей и подростков). Ну а как легко передается от одного другому раздражение, напряженность, суетливость, нервозность — знает всякий.
В эмоциональном эхо-заражении удивительна быстрота, оперативность.
Это, конечно, древний, когда-то спасительный механизм. Если в стае кто-то испугался, вскрикнул, значит имеет для этого основания. А если даже нет оснований, только вероятность, все равно: среагировать моментально, мало ли что... Это мы видим у обезьян.
Каналы оперативной эмоциональной трансляции — движения, мимика, голос, дыхание. Может быть, и еще что-то. Мы воспринимаем не только отдельные движения, но и мышечный тонус друг друга, общую расположенность к удовольствию, неудовольствию, агрессивности.
Чужой эмоциональный тонус мы воспринимаем через свой собственный, через импульс к подражанию. Обаятельный, симпатичный человек своими движениями, мимикой, голосом (а более всего непроизвольной микромимикой) приглашает вас к взаимному удовольствию: «Смотрите, как мне хорошо, как я доволен, свободен, непринужден с вами, вот и вы можете так же со мной». И ваше подсознание радостно рвется ему навстречу (порой так непроизвольно, что даже сознание: он подлец — не может этому воспрепятствовать, вы поддаетесь чарам).
Эмоциональное эхо-восприимчивость достигает пика очень рано, где-то в детстве. В старости эта способность, видимо, падает, старики больше заражают сами. Но, как во всем человеческом, здесь огромная индивидуальная пестрота.
Есть люди-детекторы, чей эмоциональный аппарат действительно подобен эху или зеркалу: кто ни приблизится, увидит свое отражение. Эти люди находятся в состоянии постоянной эмоциональной зараженности, они все время больны другими людьми. (У некоторых людей, видевших телесные наказания, на теле вспухали рубцы.) Есть и эмоциональные генераторы, мало способные заражаться, но зато интенсивно заражающие других. Сочетание обоих качеств в одном лице и составляет, быть может, артистический дар. Эти свойства, кажется, никак не связаны с самостоятельностью мышления и интеллекта.
Заразительны крайности. При психопатологии способность к эмоциональному резонансу обычно уменьшается, зато заражающая сила эмоций растет. Огромная генераторная способность маньяка—это какой-то вулкан радостного возбуждения. Глубоко депрессивный словно скован холодом могильного склепа. Возбужденный эпилептик, взрывчатый психопат — это землетрясение, ураган. Напряженный шизофреник моментально накидывает на вас невидимые стальные цепочки. Истерик и сильно заражает и легко заражается, недаром истеричность ближе всего к артистизму. А психиатр, обладая высокой детекторной способностью, должен быть и сильным эмоциональным генератором и выработать у себя какое-то сильное «антиэхо».
Но само эмоциональное эхо только одна из множества переменных в игре эмоционального взаимодействия. Вовсе не обязательно эмоция другого человека вызывает у вас ту же эмоцию. Когда как... Ему смешно, а вам грустно. Вы взбешены, а он только слегка напряжен. Да и не бывает двух тождественных состояний. Лучше осторожнее и обобщеннее говорить о некоем эквивалент-состоянии, возникающем у одного человека при восприятии эмоций другого.
Частая ошибка: человека подбадривают, похлопывают по спине: «Не раскисай, старик», стараются развеселить, а ему еще хуже. Подбадриванию поддается только тот, в ком зародыш бодрости достаточно жизнеспособен. Может быть, нужно мягкое, сдержанное сочувствие или усиленный эмоциональный резонанс: пролить вместе с ним слезы, возвратить ему его состояние в десятикратном размере — и вы увидите, как подобное уничтожается подобным. А может быть, просто проигнорировать.
Действие музыки построено на прямом эмоциональном эхе. Послушайте, как категоричен Шекспир, для которого отношение к музыке — тест на моральную полноценность:
Кто музыки не носит сам в себе, Кто холоден к гармонии прелестной, Тот может быть изменником, лжецом, Грабителем. Души его движенья Темны как ночь, и как Эреб черна Его приязнь. Такому человеку Не доверяй...
Нет — не знаю, к счастью или к сожалению, это далеко не всегда так. Есть меломаны-человеконенавистники, и есть отзывчивые, добрые и тонкие люди, абсолютно глухие к музыке.
НОРМА СОЧУВСТВИЯ
Где-то здесь, на уровне эмоциональных мозговых эхо, соприкасаются нейробиология и этическая педагогика. Надо внимательно, с ледяной головой изучить физиологию сочувствия. Понять, как становятся возможными равнодушие, жестокость, садизм — не только извне, от общества, от воспитания, но и изнутри, от мозга. Ибо люди, что бы ни говорили, в своих изначальных расположениях не одинаковы.
(Да разве только люди? У 10—15 процентов самок отсутствует родительский инстинкт, и вместо любви к детенышам — равнодушие, а у хищных — и каннибальство.
Инстинкт убийства мышей распределяется между кошками неравномерно. У некоторых котят инстинкт этот жестко наследствен, у большинства зависит в примерно равной мере и от наследственности и от обучения, у третьих отсутствует. Это уже знакомая нам оптимальная формула популяционного спектра любого качества: гибкая середина с бахромой крайностей.
Вид старается быть готовым ко всему, ситуация выбирает из генофонда. Исчезнут с земли крысы, мыши — род кошачий не пропадет, выживет за счет тех, кому можно и хлебом обойтись, есть такие полутравоядные коты, толстые и мордастые. Станут мыши единственным и исключительным блюдом — расцветут мышеубийцы.)
Какие-то зачатки садизма есть у многих — эта страшная способность, эта возможность испытывать удовольствие от мук другого существа, наряду с полной способностью сочувствия и даже в какой-то двойственной связи с ней.
У сильно вооруженных хищников вид сохраняет себя от чрезмерной взаимной жестокости специальными приспособлениями, похожими на сочувствие: волк подставляет побежденному сопернику самое уязвимое место, и тот, вместо того чтобы кусать, мочится. Побежденный кот падает на спину и истошно орет, вызывая рефлекторную остановку карающей десницы... Разошедшегося человека так легко не остановить.
Дети часто предаются мучительству. Терзают муху... Пауку-косиножке оторвали ножки... И пустили по дорожке... Издеваются над толстым, нескладным, б*ьют слабого, робкого, травят чужого, чудного...
Смирим на секунду воспитательский порыв, подойдем поближе, посмотрим внимательно.
Мучат по-разному, из разных побуждений, по разным механизмам.
Этот еще просто не научился чувствовать, не представляет, что другому существу может быть больно. У него еще не срабатывает эмоциональное эхо, а может быть, недоразвито: он наивно, бессознательно полагает, что чувствует только он один, живой центр мира, а все остальное как бы не живое. Вот он и забавляется и исследует; так младенец тычет своим пальчиком в глаз матери. Увы, такое стихийное эмоциональное невежество остается уделом многих, только на более высоких психических уровнях. Не понимают, что бьют движением, словом, молчанием. Жестокость по неведению.
А вот этот понимает! Этот чувствует! У этого — острое удовлетворение муками жертвы, корчами, криками, конвульсиями, наслаждение властью маказующего... Тихо!.. Внимательно посмотрите: маленький палач вершит возмездие, он мстит мухе за то, что его унизили, не пустили, побили; сегодня муха — это парень, который отнял мяч во дворе, завтра — это отец, спьяну давший оплеуху, а послезавтра мухой будет очкарик из соседнего подъезда.
Но и это еще не самое страшное. Это, в сущности, обыкновенно.
Самое страшное — вон у того, который мучает просто так. Который испытывает удовлетворение не моральное, а физическое. Вот, вот... Этот испытывает сладострастие. Это палач по призванию, настоящий садист. У него извращено эмоциональное эхо: сигналы чужого ада подаются ему на рай. Что делать?
...Маленькие дурачки пошли вместе с этим гаденышем на чердак и повесили на проволоке кота, громадного, пушистого, и он дергался, бился, потом сразу затих; им было и жалко и интересно, а главное, стыдно друг перед другом и перед гаденышем показать какую-нибудь дрожь. А потом они разбежались, и всем, кроме гаденыша, стало муторно и захотелось побыстрее забыть... И вот один дурачок и вправду забыл и готов идти с гаденышем опять; другой забыть не может, но хорохорится и, назло самому себе, совершает новые жестокости, чтобы совсем задушить это жалящее эхо, из которого и происходит совесть.
А третий, едва добежав домой, дает себе клятву: никогда больше, и спешит обратно, чтобы скорей снять кота. Но роскошный кот уже мертв, и он хоронит его и рыдает, а потом подбирает и выхаживает самых дохлых заморышей и кормит их, всех кормит и защищает, и никогда не охотится.
...Да, но ведь есть и те, кого уже изначально никакими силами к мучительству не склонить. Есть! Их мало, слишком мало. Кто они: ненормальные или сверхнормальные? Почему они готовы отдать все, тут же пожертвовать собою, чтобы оградить от мучений другое существо, слабое и беспомощное, даже не человека — щенка, цыпленка! Почему это для них такое острое, глубокое, животное наслаждение — кормить, удовлетворять, защищать? Кто их к этому приохотил?
Этого — добрый человек. А этого — никто, сам. Это антисадист. Он не. может мстить даже за смертельную обиду, хотя и не трус и не рохля и умеет драться. У него просто нет в этом никакой избыточности. Он приведет противника в состояние беспомощности и остановится, не воспользуется, не добьет. Напротив, подымет, и чаще всего на свою голову. Великодушие? Нет, если хотите, эгоизм. Побежденный для него уже не враг, ему уже стыдно за победу, ему больно за унижение, которому он подверг другое существо. Ибо у него все время сильно работает эмоциональное эхо, и чужой ад — всегда и его ад.
...Да, непредсказуема траектория чувств, и непостижимо пока таинство эмоционального резонанса. Полярности питают друг друга: самые жестокие бывают и всех нежней, фашисты часто сентиментальны. Некоторым, чтобы постичь добро, приходится пройти через мутный кошмар. Если допустить, что в некой абстрактной норме у человека всегда рождается какое-то эхо эмоций другого, какое-то сочувствие, то сколько всяких внешних и внутренних переменных определяют его .судьбу: прозвучать ли ему во весь голос или заглохнуть тут же, за порогом сознания.
Сколько бы мы ни рассуждали на этот счет, ничто не в состоянии помочь человеку, лишенному способности эмоционального предвидения эмоций Других людей. Это совершается только на месте, здесь и сейчас, в игре психического взаимодействия. Высший уровень этого процесса и составляет интуицию психотерапевта — вчувствование, или эмпатию. Это, пожалуй, искусство не мешать подсознанию. И хотя даже у гениальных интуиционистов неизбежны ошибки, думается, именно в этом человека никогда не заменит никакая машина.
НЕЧТО О ВЗГЛЯДЕ (В дополнение к сказанному)
Эскалатор. Удивительная ситуация, трудно привыкнуть. В толпе, на улице можно отключиться от лиц, смотреть в небо или под ноги, а здесь — никуда, плывут неостановимо. Сколько встреч и — это чудовищно! — никакого общения. Нет, неправда, вот кто-то оглянулся, оглянулись и вы. О, догнать бы, заглянуть бы в лица-мысли, лица-судьбы тех, что скрылись в тесноте на ступенчатом хребте.
Долго, пристально, бесконечно смотреть друг на друга люди могут лишь в одном случае. Это очень редко. Обычно же глаза встретившись, по какому-то негласному уговору торопятся разойтись: задержаться немного, еще чуточку — и врозь, по делам, по магазинам, на потолок. И вообще избегают люди смотреть друг другу в глаза. Почему?
Да просто некогда. Ни к чему. Нецелесообразно. А взору нужна подвижность. Фиксация — тяжелая нагрузка, насилие над вниманием — вызывает оцепенение, гипноз.
Но почему так тягостен, так неудобен чей-то чужой, неотрывный взгляд, почему он чувствуется даже как бы спиной, почему вызывает недоумение, неприязнь, раздражение? Вам неуютно, хочется спрятаться, вас пронизывают, ощупывают...
Хотя у некоторых животных взаимное созерцание тоже входит в ритуал любви, в основном оно не означает ничего хорошего. «Я тебя сейчас съем». — «А это посмотрим, кто кого». — «Посмотрим». — «Посмотрим». Драматична психологическая борьба, застывают друг против друга два петуха или два кота, — ситуация, напоминающая эпизод из из-зестного фантастического романа, где два гипнотизе-та, добрый и злой, вздувая на лбу жилы и обливаясь ютом, сцепляются взглядами в мертвой схватке: кто ;ого перегипнотизирует. Точно так ведут себя, выяс-тяя свои мужские отношения, самцы гориллы. Кто-то из соперников не выдерживает и опускает голову, признавая себя подчиненным. Все интеллигентно, без физического насилия. С гориллой можно прекрасно поладить, если не смотреть ему в глаза, он этого органически не выносит.

Говорят, что звери вообще боятся человеческого взгляда, что самого злобного пса можно усмирить, если поймать его взгляд и с абсолютной уверенностью двигаться прямо на него... В некоторых случаях мне самому удавалось таким образом успокаивать разошедшихся злыдней, но трудно сказать, что же в этом случае на них действует — сам ли взгляд или просто необычное поведение.
Еще неизвестно, насколько собака различает выражение человеческого лица. Собака редко фиксирует взгляд, очевидно, для нее это нецелесообразно, она ведь преследователь движущегося. Если собака на что-то долго смотрит, то впадает в оцепенение — род гипноза, зафиксированный у некоторых пород в стойке. А вот кошки животные-поджидатели, те могут смотреть долго, кота не пересмотришь. Кошки и друг на друга долго глядят, застыв, и на добычу — завороженно.
Мы опять, на ином уровне, подошли к физиономике, к тому, о чем шла речь и в главах о психических типах, и о гипнозе.
Чем выше по эволюционной лестнице, чем ближе к человеку, тем больше сигнальное значение физиономии, тем тоньше различается выражение глаз. Уже в конце первого месяца жизни маленький гамадрильчик различает выражение физиономии своей мамаши, а если воспитывается людьми — то людей. Скорчите ему гримасу — испугается. В пять месяцев он уже знает, что смотреть на морду вожака нельзя, можно только на портрет или по телевизору. А что делает человеческий малыш, испугавшись или застеснявшись? Отводит глаза, прячет лицо.
Младенец человека, как и обезьяныш, реагирует на физиономию уже с конца первого месяца жизни, пытается общаться и с куклами, если их физиономии достаточно напоминают человеческие. Нормальный малыш четырех месяцев ответит улыбкой на улыбку или доброе выражение и заплачет, если посмотреть на него строго. Это, конечно, чисто инстинктивная реакция. По моим наблюдениям, младенцу нравятся движения рта (он пытается им подражать) и не нравятся движения бровей и век. Если вы стояли у клетки макаки или шимпанзе и эти особы пытались вас напугать, вы поймете, в чем дело.
Судя по всему, мимика, особенно глазная, играла в первобытном общении выдающуюся роль. В нашем общении она оттеснена речью, смещена на безотчетный уровень, но все же громадное богатство сохраняется. Мимическое обучение и тренировка идут всю жизнь, и уже трудно разобрать, что здесь врожденно и инстинктивно и что — результат усвоения, социальной передачи. Будет ли итальянец, родившийся и выросший в Норвегии, оживленно жестикулировать? Представители взаимоудаленных культур при встрече первое время испытывают трудности в понимании мимики. У некоторых индейских племен в обычае полное подавление мимики, маскообразность. У японцев — загадочные ритуальные улыбки. Китайцы, глядя на европейских туристов, удивлялись, почему те все время сердятся: так они толковали поднятие бровей, европейский жест удивления. А белые миссионеры приходили в ужас от «черного смеха», которым некоторые племена Африки выражают свой гнев.
Нет, никакими словами, конечно, невозможно передать содержание игры взглядов. Инстинктивно ли это?
Когда мы разговариваем с кем-то в присутствии совершенно постороннего лица, то в моменты особенно эмоциональные, например при смехе, бросаем взгляды в сторону этого присутствующего, словно приглашая его разделить наши чувства или проверяя, разделяет ли он их. А тот, поймав такой взгляд, обычно делает взглядом же ответный знак участия, какую-то неопределенную мину: мол, вижу и в общем одобряю, хоть и не знаю что... Или, наоборот, старательно замыкается, суровеет... Все это делается почти безотчетно, а если и осознается, то уже вслед. Это все обычно, но совершенно загадочно.
Вот вы случайно встретились с глазами сидящего напротив, задержались чуть дольше обычного — и уже пошло на принцип, уже гляделки: а вот возьму и не отведу, а вот посмотрим, кто кого... Посмотрим... Да, настоящий маленький психологический поединок, до крайности глупый, но исполненный тайного смысла. При победе — пустяковенькое, но торжество. Не зря опытные тренеры учат боксеров: смотри сопернику прямо в глаза уже при рукопожатии, в бою не отводи глаз...
Смотреть друг на друга — это уже значит общаться и устанавливать отношения.
Взгляд дает богатейшую пищу для непроизвольных прогнозов, содержит массу скрыто подразумеваемого. В момент встречи глаз возникает напряженная игра взаимных ожиданий, начинается лихорадочный отсчет времени, на чашу весов начинают быстро падать эмоции — свои и партнера... Что-то произойдет, чем-то это кончится...
ДАЛЬНЕЙШИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О БЕ30ТЧЕТН0М ОБЩЕНИИ.
МАРАЗМ ПРИНЦИПОВ И ЗАКОН НАГЛОСТИ
— Не люблю людей уверенных, — признался мне однажды человек математического ума, сильно чудаковатый, о котором решительно никогда невозможно сказать, уверен он или нет.
— Почему?
— Интегративно-транзитивная функция. (Не ручаюсь за точность передачи этого математического ругательства). — Парадоксальный минимакс. По достижении предела импонирование минимизируется, трансформируясь в максимум антипатии.
— Ты хочешь сказать, что самоуверенный нахал давит на твою психику?
— Не совсем. Я принимаю локальную уверенность, но отрицаю глобальную: у меня возникает маразм принципов.
— Теперь понимаю: ты просто самец с неустойчивым положением в иерархии стада.
Последовала беседа о животной социологии, об этих иерархиях и рангах, о чинопочитании, которое у всех (и у сверчков, и у коз, и у обезьян, и, может быть, даже у амеб). Об Альфе, который клюет всех, ест первый и владеет всеми самками; о Бете, который клюет всех, кроме Альфы, и вплоть до Омеги, которого клюют все.
О великом законе наглости, гласящем: среди наглейших побеждает сильнейший, а среди сильнейших — наглейший. А также о том, что самый нахальный Альфа теряется, попадая в чужое стадо или на чужую территорию, и самый последний Омега становится Альфой в своем гнезде. О том, что коровы из одного стада, едва их разделят в хлеву на две группы, начинают вести себя как представители двух враждующих политических партий: «Мы-ы и они». И о женских гормонах, которые почему-то понижают ранг курицы в куриной группе.
Самое любопытное здесь, конечно, каким образом узнается ранг. У сверчков или ос вроде понятно: по числу щетинок или яйцевых трубочек, по песне. А у коров? У мышей? За что один хомяк уважает другого? Ведь далеко не всегда Альфой оказывается самый крупный и физически сильный.
По наглости?..
Об этом знаменитом опыте много писали, и я в том числе. Расхаживает по своей территории Альфа-макака, и подчиненные перед ним лебезят и снимают с него вошек, не смея взглянуть в глаза. Но вот через изящные вживленные электродики с помощью радиосигнала подается тормозной импульс в миндалевидное ядро мозга, и в Альфе что-то меняется... Секунда... другая... И вот уже всем все ясно, и бунт — дело правое. Альфа искусан, исцарапан, он уже ниже Омеги. Воцаряется Бета. Снова импульс — и Бета" низвергнут, на троне Гамма, и так до последнего.
Но вот импульсы прекратились, Альфа опомнился, яростно вскакивает, и все становится на свои места.
Мы не макаки, но на каких-то уровнях природная авторитарность работает и у нас. Особенно заметно это в стихийных взаимоотношениях детей и подростков.
Иерархия от Альфы до Омеги в детских группах устанавливается очень быстро, обходясь минимальным числом поединков. Вопрос, кто кого сильней, среди мальчишек всегда актуален, и самый сильный — это прежде всего самый смелый и непреклонный. Смещение вожаков происходит редко.
Но вот что важно: наряду со стихийной иерархией по принципу доминирования в детских группах существует и другая — по принципу симпатии. Положение каждого может быть охарактеризовано количеством выборов со стороны других (дружить или не дружить, сидеть вместе или нет, то, что последователи Морено называют социометрическим статусом). И здесь свои Альфы — «звезды» и Омеги — «отверженные». Альфы по симпатии могут быть Омегами по силе, и наоборот. (Соотношение того и другого еще не совсем ясна.)
Чем выше социальный уровень группы, тем более принцип симпатии вытесняет принцип силы, и уже в старших классах школ он обычно преобладает. Какие-то зачатки иерархии по принципу симпатии, судя по всему, есть и у собак и у кошек. Определенно, некоторые из них, не отличающиеся с виду никакими достоинствами, ни силой, ни агрессивностью, оказываются более притягательными для своих сородичей — не корыстно и не сексуально, а просто так. С ними хотят быть, дружить. Может быть, они излучают какое-то доброжелательство?
Уже в общении животных одного вида делаются ставки на разные принципы, ведутся разные игры.
Маленький молодой генерал Бонапарт, приводивший в трепет громадных старых генералов, очевидно, оптимально использовал закон наглости. И опытный наглец и хороший дрессировщик легко поймут, в чем дело, и, конечно, гипнотизер тоже. Как много значат эти непроизвольные сигналы самочувствия и психического состояния, которые мы воспринимаем друг от друга! В нас прячется некая эмоциональная вычислительная машина, наши эмоции ведут подсчеты эмоций других людей, да и животных, по какой-то своей, таинственной системе баллов. Эмоция доверяет эмоции, и на этом безотчетном доверии держится закон наглости.
Властные жесты и интонации, уверенность, активность, агрессивные проявления — это ведь только видимость. Может быть, ткнуть его пальцем, и свалится. Однако непроизвольное эмоциональное прогнозирование работает по элементарной природной логике: что видишь, то есть; как есть, так и будет. Ведет себя уверенно, значит так себя и чувствует, а если так чувствует, значит имеет основания, значит много раз побеждал или обладает каким-то секретным оружием. Природа любит перестраховку и не знает стыда. £1сли натиск так яростен, значит у него много сил. 1сли он такой сильный, то лучше не рисковать, не ввязываться.
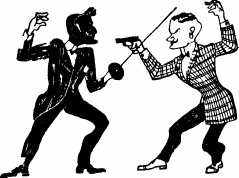
Вся эта логика свернута в простой, безотчетный ;кт животной трусости. В этой игре (с огромным дефицитом информации!) все решают какие-то доли секунды, за которые происходит грубый замер относительных эмоциональных величин... Моментально оценивается степень агрессивности — трусости, уверенности, неуверенности — и у противника и у себя. У агрессивного в ответ на свирепость противника агрессивность подскакивает, у трусливого — падает. Осознавать не успевают. Но вот появляется молодец, против которого тот молодец — овца, и овца, против которой та овца — молодец. Настоящий молодец — тот, для которого отступление исключено, но таких почти нет: отбор давил на них беспощадно, такие быстро убивали друг друга.
На этом зиждется психология поединка. Тактика деморализации, всевозможные приемы запугивания имеют целью создать у противника непроизвольный эмоциональный прогноз поражения, который, если прием вполне удается, становится и содержанием сознания и прямо руководит поведением. Или хотя бы частично, из подсознания.
Но разве речь идет только о драке?
Это может делаться мягко, незаметно, интеллигентно, особенно женщиной: железная ручка в бархатной перчатке. В жизненной заурядице это то, что называют умением себя поставить. Как немного и как много нужно, чтобы исключить непроизвольный прогноз: «Ну, с этим можно не особенно церемониться...» Сколь многим блестящим людям не хватает именно этого умения, какой-то одной нотки, чтобы заставить с собою считаться, и это оборачивается иной раз жизненной трагедией. Непроизвольная борьба подсознаний, тайная война чувств идет всегда, даже в высочайшей дружбе и нежнейшей любви.
— Так вот, — говорю я упомянутому чудаку, — несчастный, у тебя срабатывает банальный эффект супрессии.
— А что это?
— Помещают в одну клетку двух шимпанзе. Один — способный малый, но по линии наглости ничем не выдается, заурядность среднего ранга. Другой — тупой, но нахальный, этакий шимпанзейский генерал Бонапарт. И вот оказывается, присутствие Альфы Бонапарта начисто отшибает интеллект у интеллигентного шимпанзе: он впадает в форменное кретинство, условные рефлексы тормозятся. Вот так. Вот тебе и маразм принципов.
Он опять стал ругаться и что-то спрашивать. Я разобрал только:
— И какова степень необратимости?
— К счастью, кажется, минимальна. Стоит убрать генерала, как интеллект восстанавливается, но после нескольких ошибок возникает стойкий невроз, а иногда и инфаркты. Приходится менять клетку, а самое лучшее — поместить интеллектуала вместе с Омегой.
— Вот это здорово, — обрадовался он. — Это я и сам замечал...
Мне вспомнился пациент Н. Этого человека одолевали патологические сомнения. Он размышлял и рассуждал по любому поводу, не мог ни на что решиться: работать или поступать в аспирантуру, развестись или продолжать семейную жизнь, которая по одним мотивам его устраивала, по другим нет. Делать ли по утрам гимнастику? Бриться или отпускать бороду? Дошло до полного паралича действий, и Н. ни за что бы не решился обратиться к психиатру, но так получилось. Психотерапия была безуспешной, потому что он глубоко сомневался, стоит ли в принципе верить врачам.
И вот, когда уже казалось, что просвета не будет, в палате рядом с ним появляется пациент М. Все познается в сравнении: состояние М. было в десять раз хуже. Он уже сомневался в собственном существовании.
Это вышло гениально, что они оказались рядом, хотя причиной тому был недосмотр: обычно таких пациентов стараются разделять. Чудо не замедлило: пациент Н. стал выздоравливать. Он превратился в рьяного психотерапевта, собственные его проблемы померкли. «Пусть будет, что будет, надо вот переубедить этого чудака». В его интонациях и движениях появилась уверенность. «Я понял, к чему шел. Я увяз. У меня была ложная тактика. Надо уметь сметь».
С женой Н. развелся. М. лучше не стало, но кто знает, что бы было, если бы нашелся рядом кто-нибудь потяжелее.
Лучший способ психически вылечиться — начать самому кого-нибудь лечить. Это помогает в самых, казалось бы, безнадежных случаях. Почему поправился пациент Н.? Не потому ли, что у него сработал тот древний механизм, по которому слабость одного вызывает у другого ощущение силы? Не оказался ли для него пациент М. тем Омегой, рядом с которым он ощутил себя Альфой, овцой, против которой он молодец? А потом стратегию молодца он непроизвольно перенес и на другие сферы своей жизни,
Очень может быть. Но не только. Над этим — чисто человеческий механизм смены ролей, непроизвольный взгляд на себя другими глазами. Старый и прекрасный педагогический прием: чтобы отстающий подтянулся, надо назначить его ответственным над другим отстающим. А того — над другим, по кругу.
Руководящая работа как психотерапевтический фактор. Об этих вот механизмах и не подозревают сверхопекающие родители и сверхзаботливые друзья.
