Владимир леви
| Вид материала | Документы |
СодержаниеПочему ревнует петух Мы в большом городе |
- Владимир Львович Леви Приручение страха Это книга, 2043.71kb.
- Книга рабби Леви Ицхака из Бердичева «Кдушат Леви», 993.64kb.
- Владимир Леви, 3446.59kb.
- Леви Владимир Львович, 3110.92kb.
- Владимир Львович леви, 2598.18kb.
- Владимир Львович леви, 2646.53kb.
- Владимир Леви «Новый нестандартный ребёнок», 277.06kb.
- Владимир Львович Леви как воспитывать родителей или новый нестандартный ребенок, 3493.22kb.
- Текст взят с психологического сайта, 9752.59kb.
- Новый год в финской лапландии курорт Леви 28. 12. 11-04. 01., 163.71kb.
ПОЧЕМУ РЕВНУЕТ ПЕТУХ
Еще и еще раз стоит повторить, насколько трудно в каждом человеческом случае решить, в какой мере поведение воспитуемо и в какой зависит от внутренних расположений: так все слито и переплетено. Но если судить по поведению маленьких детей и животных, надо все же признать, что у нас есть некий исходный набор «предсоциальных», непроизвольных стратегий общения. Собственнический инстинкт, зависть, ревность — это темные пятна человеческой психологии...
Ревность, пожалуй, наиболее биологична. Звери, птицы, насекомые — все умеют ревновать. Стратегии половой конкуренции, антагонизм, соперничество (это, впрочем, не единственная стратегия во взаимоотношениях особей одного пола, есть и кооперативные). Ревнуют и самцы и самки, но больше самцы: ревнует тот, кто активен. Типичный случай: самец отгоняет от самки всех, кого может, то есть самцов низшего ранга, и вынужденно уступает высшим. Мужской ранг и определяется тем, кто кого может отогнать.
Ревность животного слепа и безумна. Самец рыбы, охраняя предмет своей страсти, нападает и на бревно. Самые ревнивые петухи атакуют людей. Но уже у животных мы видим и начало утончения и преобразования ревности. Ревнуют не только половой объект, но и объект вообще высокоценимый, появляется ревность дружбы и неполовой любви. Как ревнует собака хозяина! Эта ревность по своим механизмам, видимо, уже близка к мучительной непроизвольной ревности ребенка.
Я хорошо помню соперничество за маму, которое разыгралось между мною, четырехлетним, и маленькой собачонкой Норкой. Она считала меня соперником низшего ранга, несправедливо наделенным какими-то чрезвычайными правами, и ненавидела до глубины души. Я же, сознавая свои права, боялся ими пользоваться, чувствуя, что с соперницей шутки плохи. И в самом деле, однажды якобы за то, что я нарушил порядок — двигал под столом табуретом, — она мне прокусила ботинок.
Л у взрослых? Не является ли человек наряду со всеми своими превосходными степенями и самым ревнивым в мире животным? (Троюродные братья-павианы вошли в притчу.)
Несомненно, это сидит где-то очень глубоко. Некоторые данные клиники говорят даже за то, что у нас есть чуть ли не специальный центр ревности. (Где-то в подкорковых узлах мозга, где с удивительным постоянством обнаруживаются поражения при некоторых заболеваниях, сопровождающихся ревнивым бредом.) Кажется, есть основания и в народном наблюдении: кто боится щекотки — ревнив. О биологичности человеческой ревности говорит и то, что именно в этом так легко теряются критичность и чувство реальности, и очень четкая связь с приемом алкоголя, и преобладание мужчин среди патологических ревнивцев.
Но, с другой стороны, при широком взгляде на человечество феномен ревности обнаруживает такую изменчивость, такую зависимость от социально-культурных влияний, что всякие поспешные биологические выводы останавливаются. Наши предки ревновали не так, как мы. Есть племена, совсем не знающие ревности. Мужской перевес в ревности легко объяснить социальной организацией взаимоотношений полов, тем, что женщина веками рассматривалась как собственность, а за мужчиной оставлялась относительная свобода.
Это огромный неисследованный массив. Вероятно, нет человека, который бы совсем не знал этого чувства. У Достоевского в «Братьях Карамазовых» есть прекрасные строчки о психологии ревности — о том, что ревнивцы скорее других прощают, но никогда не успокаиваются, что люди с самыми «высокими сердцами» падают наиболее низко в грязь подозрительности и выслеживания. И о том, что Отелло, как заметил Пушкин, вовсе не ревнив — он доверчив, и трагедия в том, что погиб его идеал. Конечно, у человека и ревность «социализована», и она, как вся наша психическая жизнь, привязана к «я для других».
И вот что, вероятно, самое главное: ревность взрослого, зрелая ревность, всегда обнаруживает связь с чувством неполноценности — физической, интеллектуальной, социальной или какой-либо другой. Определенно можно сказать: человек не станет ревновать к человеку, которого он по всем статьям считает ниже себя. Соперник низшего ранга, если только человек действительно считает его таковым, не соперник. Люди с устойчиво высокой самооценкой ревнивцами не бывают.
Да, этого сколько угодно: петухи и павианы среди людей; ревнуют слепо, глупо, зверино, ко всем без разбора, и в тем большей мере, чем больше позволяют неверности самим себе. И все же ревность человека ушла далеко от сексуальной оборонительной стратегии животного.
Человеческая ревность есть страх сравнения. Ее непроизвольная стратегия: не допустить, чтобы другой был оценен выше, дал больше удовлетворения. Исключить предпочтение, не уступить именно высшему рангу! В этом любовная ревность, по существу, не отличается от других видов конкурентных стратегий, например соперничества честолюбий.
Основные движущие механизмы и здесь стремятся уйти в подсознание. Ревность, осознанная абсолютно ясно, до корней, обычно теряет свою силу. Человек редко признается себе в том, что боится превосходства, что чувствует себя потенциально ниже, слабее соперника. Зато какой бальзам для его души — обнаружить у. того унижающие недостатки!
В этой ревнивой стратегии, конечно же, коренится животно-эгоистическое начало, это принуждение, диктат над свободным выбором любимого существа.
Ревность враждебна объективности, она есть, по существу, импульс к насилию и лжи: не допуская сравнения, она стремится сохранить у другого выгодную для себя картину соотношения, вернее, не допустить никакой: я есмь единственное, неповторимое божество, и все тут.
...Это прекрасно разработано у Чернышевского в «Что делать?»: высшая альтруистическая любсзь отвергает ревность. Вернее, не отвергает (зто не то слово, в нем лицемерие), а просто не знает, перестает зкать. По триаде диалектики она снова приходит к уступке высшему рангу — тому, кого предпочли, — но теперь уже добровольной. Такая уступка не только уравнивает ранги сторон, но ставит уступающего морально выше. Это изысканная победа над победившим. Стратегия соперничества уступает стратегии благородства. Быть человеком — это значит по крайней мере перестать быть петухом.
МЫ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
Наверное, как всякий москвич, я и люблю Москву и проклинаю ее. Я рвусь из нее, задыхаясь, и с каким-то непонятным восторгом стремлюсь обратно. Проклинаю и люблю — за многоликость и единство, за сверхъестественную уютность огромности. За достоинство и суетность. За внезапную ночную опустелость после кромешной дневной сутолоки. За нервный сумрак и пропитанный гарью шальной воздух. За уголки с горьким запахом воспоминаний.
Но это, прошу прощения, лирика, а есть еще и профессиональный подход. Кроме всего прочего, Москва — это огромный муравейник людских встреч. Настоящая суровость большого города, все сгущено и остро. Масса поводов подумать о психологии.
Представьте себе, товарищ москвич: в один прекрасный день, в часы «пик», когда все идут с работы, все встречные пешеходы на улице Кирова, все, как один, начинают с вами здороваться. Полагаю, что уже через пять минут вы добровольно сдадите себя в руки «Скорой психиатрической помощи».
А в деревне, в настоящей нормальной деревне здороваются и знакомые и незнакомые. Обычай поначалу приятно шокирует новоприбывших горожан. Целесообразность его, однако, вполне прозрачна: приход незнакомца •— крупное событие местного значения, которое будет широко обсуждаться и, может быть, даже войдет в историю в виде устных преданий бабушек и дедушек. Контакты в деревне редки, но зато основательны или хотя бы потенциально таковы, и все на виду. Кто не здоровается, пусть пеняет на себя: тем самым он сразу объявляет себя чужаком. Тут здороваться — дальний расчет, придуманный кем-то мудрым.
Нас много, мы спешим, мы видим друг друга на какие-то мгновения, чтобы больше никогда не увидеть, потому что повторность встречи среди восьми миллионов ничтожна. Мы не можем позволить себе здороваться, даже если бы захотели. Мы не улыбаемся друг другу, ибо нас слишком много изо дня в день, мы не можем ничего изменить — мы в большом городе.
Но мы все же общаемся. Да, общаемся.
В транспорте, в очереди, в общественных местах люди сидят и стоят рядом друг с другом совсем близко... Молчат... Взаимоприсутствие уже общение, хотя бы оно всеми силами сводилось к взаимоотсутствию-. Нормальному человеку приходится преодолевать внутреннее неудобство оттого, что пространственная эта близость не должна и не может получить никакого продолжения. И ему остается только замкнуться. Даже если человек не занят разглядыванием соседей, а погружен в свои мысли, книгу ил.ч газету, он подсознательно фиксирует присутствие других людей и держится соответственно.
Лишь редкие разговорчивые натуры да подвыпившие нарушают эту атмосферу. Но вокруг них обычно довольно быстро образуется вакуум. (В одесских трамваях, правда, совсем не то: там идет живое обсуждение спортивных и политических новостей.)
Зато когда контакт ситуационно оправдан, например кто-то спрашивает, как проехать, вы испытываете род облегчения. Впрочем, кто как...
Я не знаю, есть ли специфический «московский характер», хотя люди из других мест уверяют, что да. Мне кажется, теперь в Москве слишком много разных людей, чтобы можно было составить один портрет. Одни считают москвичей нелюбезными, другие удивительно отзывчивыми... Это когда как.
По-моему, москвич экстравагантно сдержан, раздражителен, но доброжелателен, ко всему привычен, но готов всему удивляться. А главное — он спешит и требует во всем оперативности и оптимальности. Вот по этому признаку, кажется, и отличают его всюду. Москвич спешит вне зависимости от того, нужно ли ему спешить на саком деле. Он не выносит задержек.
Но это тривиально. Меня интересует другое. Почему в разные дни мы такие разные?
...Вдруг все оттаивает, в воздухе что-то пронзительно-бодрое, духота отступает, откуда-то идут живительные лучи. Всюду улыбки, смех, шутки. Казалось, с чего бы?.. Не праздник, а если праздник, то природный, а не официальный. И обычные неприятности, даже крупные, в чем-то растворяются, все уступают друг другу, мир полон хороших людей...
В эти дни обновления и подъема кажется, что иначе никогда не было и не будет, что мир всегда такой — умный и предупредительный, бодрый и добрый.
В дни спокойной, деловой будничности ничто не может поколебать привычных ритмов работы, еды, сиг, встреч, развлечений. Автоматические дни проскакивают незаметной чередой.
Но вот мрак, мразь, слякоть на улицах и на лицах. Угрюмое отчуждение. Глаза опущены вниз, на заляпанные ботинки. Нет, иначе никогда не было. Так было всегда. Беспросветно. И так будет...
Есть дни, когда резко прыгает вверх статистика автомобильных катастроф, когда там и здесь вспыхивают ссоры, кругом ругаются, не дают пройти, все не так: автомат не работает, дети капризничают, дерутся, все надоели, уволюсь, напьюсь, разведусь... Есть ночи мигреней и беспокойств, когда все лекарства перестают действовать, у «неотложки» работы невпроворот, то и дело вызывают дежурного врача — знаю такие ночи.
Есть вечера скоропостижных смертей.
Ветры? Погода? Солнечные пятна? Накал политических событий?
Возможно. Все взаимосвязано... Но кто знает, может быть, выходит утром кто-то один, вставший не с той ноги, и заражает весь город... Мне испортил настроение Иван Иванович, а я Степану Петровичу, и не заметили как.
Не это ли происходит, например, в транспортной тесноте?
Вас со всех сторон стиснули, вам не больно, но еще немного, и вы зарычите, потому что это черт знает что, потому что у вас рефлекторно напряглись мышцы. Потому что вы не выспались, утром поели кое-как, поругались с женой (мужем), опять не сядешь, вам скоро выходить, надо проталкиваться, предстоит разговор с начальством, кто-то дышит чесноком, перегаром, душно, а ни вас, ни его, этого чесночного, не учили ни хорошим манерам, ни терпимости, ни аутотренингу — и вот из-за всего этого перенапряглись ваши мышцы.
— Ну что привалились, стенка я вам, что ли?
— А вы чего сами давите? Чего напираете?
— Проходите вперед, много места, чего стали, столпились как бараны... Передавайте за проезд...
Сколько желчи за пять минут... Вагон, зараженный склокой... Раздражительный товарищ, расслабьтесь! Используйте транспорт для аутогенной тренировки! Товарищ водитель, у вас теперь микрофон: не объявляйте же остановки таким сердитым голосом, лучше проведите сеанс психотерапии, вы на пять минут бог... Или вы тоже поругались с женой?
Заметьте, однако, что если автобус или поезд идет достаточно долго, напряжение спадает, даже в страшнейшей тесноте. Происходит утряска, оказывается, что не так уж и тесно, находятся и резервы места и доброжелательности. Ничего, ну прижался спиной, ну боком. Если бы у нас были приборы с лампочками, регистрирующие тонус мышц, мы увидели бы, как вначале лампочки накаляются максимально, особенно в местах соприкосновений, а потом все умеренней, все меньше...
Проблема многослойна. Вот поистине животрепещущий стык биологического и социального. Конечно, будет по-другому, если не будет этой тесноты и духоты, этого невроза часов «пик», когда непредвиденные заторы отнимают у спешащих драгоценные секунды. А лучше всего, если бы вообще отпала необходимость в спешке. Но все было бы иначе и в том случае, если бы мы по-другому воспитывались, в более доброжелательном и терпимом духе, с большей дозой юмора. Если бы навыки аутотренинга становились достоянием каждого как можно раньше, с отрочества. И если бы ни у кого вообще, изначально, не было этой агрессивной готовности, как у тех счастливых легких натур, которые в любой ситуации без малейших усилий сохраняют веселое расположение духа. А мы, в массе своей, эмоционально беззащитны. Достаточно ведь одного раздраженного крикуна, чтобы сразу стало плохо всем окружающим.
Нужно думать, что с этим делать. Я говорю уже, конечно, не об одних москвичах.
Избыток непосредственной агрессивности — раздражительность, несомненно, есть у довольно многих людей, у слишком многих. В общей биологической подоплеке — наследие естественного отбора, эмоциональная избыточность, индивидуальная неравномерность. Где-то болезнь или патологическая расположенность. При более внимательном исследовании почти всегда — социальная неустроенность, такая организация взаимоотношений, при которой агрессивность сама себя поддерживает. В конкретных случаях — всегда уникальное пересечение того и другого...
И вот кассирша или официантка, для которой каждый посетитель — личный враг. Она полностью убеждена, что все они только затем и приходят сюда, чтобы доводить ее до белого каления, и видит подтверждение этого в каждом движении. А они недоумевают, чем это ее так прогневили, и каждый думает, что это именно к нему, лично к нему она так нерасположена, уж неизвестно почему, из-за носа, что ли. И конечно, тоже раздражается и еще больше подогревает ее...
Вот и все: настроение испорчено, и все идет не так, как хотелось, и еще нескольких людей посетитель сам обругал, и среди них — ребенка, который в этот день решил, что так и устроен мир.
Прекрасный человек, самоотверженней работник, тянет безропотно любой воз, не щадит себя. Но вот напряжение достигает какого-то предела, и в нем вдруг включается что-то странное и дикое, он уже неузнаваем: «наехало».
Сейчас бесполезно с ним говорить, вразумлять: все встретится в штыки. Все перед ним виноваты, и как-то особенно. От него исходит такая высоковольтная злоба, что общение просто небезопасно. Не подходите близко.
Но завтра, когда напряжение схлынет, надо все-таки подойти и обучить его аутотренингу, который позволит гасить вспышки в зародыше хоть отчасти. Разъяснить, что нельзя себе этого позволять — не только внешне, но, главное, изнутри. Что нельзя давать включаться этому механизму, каким бы пиковым ни было положение. Что это вредно и для него и для окружающих, вреднее, чем нарушать диету, курить или пить. Что выигрыш в любом деле, доставшийся такою ценой, неполноценен. Что кто бы и как бы его ни «доводил», на нем всегда остается по крайней мере половина вины.
Я вчера написал эти строчки, а сегодня сорвался сам. Понапрасну устроил крик, несмотря на аутотренинг — вернее, потому, что забыл включить его вовремя. Довели, переутомился и прочее, но прощения все равно нет, вина — окончательная, на выходе — только моя, и ничья больше. Записываю это в книгу своих черных мгновений.
Каждый такой случай, даже минутный, — непростительное упущение, которое нужно немедленно исправлять. Какой бы ни была подоплека — это и есть капли, из которых складывается океан ада.
В отдельных местах капли конденсируются, сгущаются, образуют роднички, ручейки и омуты, озера и полноводные реки хамства.
Хам библейский, родоначальник всех хамов, рождаясь на свет, не плакал, как все младенцы, а хохотал — очевидно, в предвестии немеркнувшего успеха потомков в борьбе за существование. Эволюция хамства — предмет особый, здесь мы за него не беремся. Явление многолико, с богатейшей феноменологией; есть хамы изысканные, аристократические, есть, как уже сказано, и застенчивый хам. Заметим лишь, что одной из современных разновидностей, происходящих от этой линии, является инфарктоген-ная личность. Она вызывает инфаркты — разумеется, не у себя, а у других. В большинстве своем это очень здоровые натуры, с повышенным жизненным тонусом, который, не переходя в интеллектуальную избыточность, хорошо питает центры уверенности и агрессивности.
Нет, этот человек вовсе не охвачен желанием непременно вас обхамить, именно вас: он даже, может быть, и не понимает, что делает, хотя хамит самозабвенно и неудержимо. Просто он ощущает какие-то повышенные возможности в этом отношении. Это у него, если хотите, талант, он следует велению природы. Хамство для него — нормальный, естественный способ общения. И жизненной целью такого субъекта становится непрерывное расширение круга лиц, с которыми можно хамить.
Может быть, это' какой-то атавизм, и в стае он был бы Альфой. Тут смешивается, наверное, все: и авторитарность, и эпитимность, и «стервоидные» гормоны, всего понемногу, — но, только разговаривая с таким человеком, вы испытываете непроизвольное напряжение скелетной мускулатуры и глубинные не-
приятные ощущения от спазматического сокращения сосудистых стенок. У вас возникают какие-то судороги эмоционального эха. Опасно! Над такими людьми надо бы зажигать красные лампочки. Тем, кто не владеет навыком аутогенной тренировки, настоятельно рекомендуется уклоняться от общения с подобными личностями. Но ведь это утопия — уклоняться. А если он (она) ваш родственник? Или сослуживец?
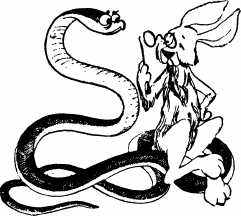
Инфарктогенная личность, по идее, не должна общаться с людьми. Но ведь если полностью лишить его возможности хамить, он, пожалуй, заболеет. Впадет в депрессию. Может быть, выручил бы какой-нибудь препарат антихамин, но ведь насильно-то глотать не заставишь, он сам кого хочешь заставит.
Что делать?
Очевидно, надлежит все-таки подумать об атмосфере, которая исключила бы проявление подобного дара.
Ведь хамство, рождающее инфаркты, — это лишь крайний, заостренный случай обычной прозы общения. Эмбриональный зачаток хамства, увы, присутствует в нем довольно часто, и это не что иное, как недостаток психологичности.
Что это такое? Умение поставить себя на место другого. Вжиться, вчувствоваться и только после этого, с учетом этого, определить тактику поведения.
Не хватает психологичности потому, что обычно сознание наше сужено колеей близлежащих собственных интересов.
Не хватает психотерапевтичности — умения найти оптимальный тон и слова, насытить общение максимумом положительных эмоций, снять напряжение...
Возьмем для примера отношение к продавцам. Мы, врачи, с ними в некотором роде коллеги, нас тоже относят к сфере обслуживания. (Мы все, между прочим, друг друга обслуживаем, все составляем гигантский житейский союз потребителей. Удовлетворяем непрерывно растущие потребности.)
А лик потребителя страшен. Это не о ком-то, это о вас и обо мне тоже.
Вот продавец хлеба. Он делает серьезное дело, дает людям хлеб. Пусть продает в обмен на денежные знаки, все равно: хлеб. Он дается, а не продается: теплая, земная, серьезная пища. Продавцы хлеба в большинстве, по-моему, это чувствуют, хоть и не осознают. А вы, гражданин потребитель, осознаете?
— Какие батоны мягкие?.. Девушка!.. Я вас спрашиваю!
— За восемнадцать мягкие?.. Девушка!.. Почему не отвечаете?
— Мягкие, мягкие...
А вы подумали, гражданин потребитель, о том, что вот этот самый вопрос: «Мягкие?», «Мягкие?» — задают ей на дню раз тысячу, если не больше, и всем надо ответить быстро и совершенно одно и то же, вежливо. Что от этого вот, без шуток, и можно сойти с ума? Человек ведь не автомат, у него происходит охранительное торможение. Тысячу раз в день одно слово, одно — и больше ничего: «Мягкие?» — «Мягкие». А если не очень мягкие, что случится? Катастрофа с пищеварением? Черствый-то хлеб полезнее для желудка. Я бы давал хлеб только тому, кто скажет мягкое слово или мягко посмотрит, а иначе бы не давал: сами берите, самообслужи-вайтесь. Тыкайте вилками.
Мало кто подозревает, что это оскорбительно — смотреть на человека через его функцию, и не более, даже в момент, когда эта функция должна выполняться. Неужели не видно, что человек больше дела? Подайте, свешайте, заверните, получите, получше, покрупнее, покраснее, свежие, сегодняшние, вон из того ящика, нет мелочи, нет, вон же я вас просил, а вы не даете, не отпускайте без очереди, нельзя ли побыстрей, еле шевелится, куда-то опять ушла, всегда недовешивают... У продавца голова болеть не может, плохого настроения быть не может, уставать не имеет права, задумываться тем более. А гражданин потребитель еще желает улыбки и воздушного поцелуя в порядке непрерывно растущих потребностей.
Продавцу трудно. В работе, с одной стороны, много механического однообразия, с другой — огромная психологическая нагрузка, непрерывная спешка, град дурацких вопросов, каскад эфемерных симпатий и антипатий. А надо соблюсти тон и уследить, чтобы все было правильно.
(Автомат и то капризничает: то дает воду, а то не дает. Сунешь руку с монетой, а он тебя — током, чтоб чувствовал.)
А нам — подайте, заверните, да побыстрей, с улыбкой...
Завтра она выходная и сама пойдет в магазин и станет таким же вот потребителем. Уж тут она отыграется. Мы отработали свое, теперь нам вынь и положь. Обслужите. Сделайте мне красиво. Не из того ящика, а вон из того, чего подкладываешь-то. Цепная реакция, порочный круг взаимного хамства.
Я не собираюсь оправдывать грубость и бескультурье, но это нужно понять: большинство из тех, чье поведение за прилавком могло бы быть более любезным, ведут себя так вовсе не из-за дурной натуры. Нет, в обычном общении это симпатичные люди. Их нелюбезность просто-напросто стихийная психологическая защита от неуважительного, «функционального» отношения потребителя. Достаточно одно-га-двух случаев, оскорбительного тона, наглого обращения, чтобы подобная реакция зафиксировалась и начала непроизвольно переноситься на всех. Продавщицы не Лафатеры. Это броня, маска — способ поддержания собственного достоинства. Конечно, не лучший, конечно, гораздо действеннее и достойнее была бы невозмутимая благожелательность, снисходительный юмор; но от природы это дано единицам, а учат этому плохо, можно сказать, совсем не учат.
Вялые таблички: «Продавец и покупатель, будьте взаимно вежливы» — нас не выручат. «Продавец и покупатель, любите друг друга» — тоже не пойдет, чересчур сентиментально. А впрочем, может, для хохмы и ничего. Нужно что-то остроумное и доходчивое, а главное, чтобы все время менялось, не успевало примелькаться, не приедалось. Чаще менять слова, тогда они тонизируют. Менять творчески, неожиданно, потому что слова не только ветшают, как платье — штопать, штопать и на выброс, — они пустеют и пошлеют, к ним все время приливает опасная лицемерная дрянь. Их надо для дезинфекции просто время от времени сжигать (лучше не торжественно, а потихоньку): тогда содержание останется чистым.
Постойте, но ведь все это должен кто-то придумывать... Сидеть на этом деле... Остроумные и вдохновенные люди нужны... И чувствующие — всех. Нужен целый штат общественных психотерапевтов...
Семейный психологический патронаж. Психологические консультации в педагогике и на производстве. Да, общественная психотерапия. Практически ведь уже сейчас хороший общественник — тот же психотерапевт, ориентирующийся на опыт и интуицию. Психотерапия — та же культура и этика, доведенные до уровня науки, и каждый, кто совершенен на своем месте, оказывается по-своему психотерапевтом. Но нужны более широкие и продуманные усилия.
Почему бы, например, через репродукторы, которые теперь везде, не передавать умные и доходчивые психотерапевтические программы, не внушать отвращение к пьянству, не поднимать словом и музыкой рабочий тонус, чувство юмора, благожелательность? Неужели вам больше нечего сказать этим людям, кроме как: «...Не обгоняйте впереди себя идущих пассажиров... Своевременно и правильно оплачивайте свой проезд — не подвергайте себя штрафу...»
Появилась огромная потенциальная психотерапевтическая сила: средства массовой информации. Впервые открывается реальная возможность сделать людей уравновешеннее и доверчивее, ответственнее и сильнее, шире и терпимее, умнее и доброжелательнее. Что мы делаем?
Наша жизнь во многом еще устроена невротически, антипсихотерапевтично. Некрасиво, небрежно, неуважительно и неискренне. И виноват не кто-нибудь и не что-нибудь, а каждый, каждый из нас, все вместе. Некогда, выполняем план. Строим светлое будущее. Это прекрасно, но почему бы не строить заодно и светлое настоящее? Подручными средствами, которые при нас, в нас?
Будущее тоже составится из ускользающих, невозвратимых мгновений, и ничего не будет никогда завершенного, кроме смерти. (Может быть, и для книги, как для любви, лучший конец — середина.) Почему те мгновения, которые будут, имеют больше прав, чем теперешние? Почему такая несправедливость, такое нерасчетливое самообкрадывание?.. Для некоторых разглагольствования о будущем — удобный способ бегства от ответственности за настоящее. Может быть, для будущего это как раз и важнее всего — чтобы вы вот здесь и сейчас научились творить мгновения, не откладывая.
