Объект и предмет
| Вид материала | Документы |
- Объект и предмет социологии. Методы социологии, 1392.07kb.
- Объект и предмет, 790.62kb.
- Конспект лекций Содержание Политология междисциплинарная наука, ее законы и категории., 1824.74kb.
- Билет Вопрос Обоснование теории паблик рилейшнз (пиарологии) как самостоятельной дисциплины, 1439.86kb.
- Система, структура, субстанция, 480.18kb.
- 1. предмет и метод истории государства и права зарубежных стран, 3017.36kb.
- 1. Предмет и метод истории государства и права зарубежных стран. Его место и значение, 1514.74kb.
- Тема определение недвижимости > Объект, предмет, задачи и логика курса, 1180.66kb.
- Характеристика психологии как науки: ее объект, 445.98kb.
- 1 Предмет и задачи нейропси, 1144.29kb.
Объект и предмет
Системно-структурный семинар
1965 г.
Арх. № 3653
Сверка, вычитка и редактирование – А.Готоваленко
Редакторская маркировка и сокращения :
(…) – не удалось расшифровать аудиозапись (плохое качество, шум и т.п.),
Сокращения в сносках:
ред. – примечания сделанные при редактировании.
Содержание
"Объект" и "предмет" в методологии системно-структурного исследования. Заключение. Г.П. Щедровицкий 1 2
Объект и предмет. 01.03.65, Г.П.Щедровицкий 28
"Объект" и "предмет" в методологии системно-структурного исследования.
Щедровицкий. Я должен дать заключение по выступлениям, в которых обсуждался мой доклад. Мы обсуждали один вопрос, связанный с различением "объект - предмет" в специальных исследованиях и в методологии. Я зайду с несколько другой стороны в обсуждении тех вопросов, которые были подняты в прошлый раз. То, что я буду говорить сейчас, не будет продолжением того, о чём я говорил две недели тому назад, хотя я буду делать ссылки на свой предыдущий доклад.
В связи с обсуждением моего доклада встали вопросы, как специально относящиеся к проблемам методологии системно-структурного исследования, так и более общие вопросы: методы анализа исходных понятий и принципы содержательно-генетического анализа мышления. Я буду обсуждать эти две группы вопросов, различая их, и противопоставляя их друг другу.
Прежде всего, по теме самого доклада. Он родился из узкой задачи и, естественно, узкой темы: дать классификацию основных направлений структурно-системного исследования, именно – не методологии системно-структурного исследования, а самих направлений системно-структурного исследования в специальных науках. Но при решении этой узкой темы возник ряд более общих вопросов, которые я и стремился осветить в обсуждаемом докладе.
Откуда родилось название самого доклада? Почему он назван не "направления системно-структурного исследования", а именно: "объект и предмет в системно-структурном исследовании"? С моей точки зрения, это и есть та общая проблема, которая является ключевой при решении той узкой темы ("классификация направлений структурно-системного исследования"). Каким образом возникает проблема отношения "объекта" и "предмета" в методологии системно-структурного исследования? Здесь уже приходится говорить о методологии системно-структурного исследования. Для того чтобы задать направления системно-структурного исследования, мне приходится построить особое методологическое исследование. А для того чтобы построить это последнее, я должен произвести различение "объекта" и "предмета". Это стало основным предметом как в самом докладе, так и в дискуссии по поводу него.
Каким же образом возникает эта проблема? В самом докладе я не обсуждал этого вопроса, так как мне казалось, что эти моменты достаточно выяснены в работе нашего семинара. Но как показала дальнейшая дискуссия, которая длилась довольно долго, именно в этом предположении заключалась, по-видимому, моя ошибка, так как большинство возражений и замечаний шли без учёта того контекста, в котором возникает сама проблема. Поэтому сейчас мне приходится вернутся к этому пункту.
Первое положение. Как мы уж выяснили в исследованиях на конкретном материале, всякая научная теория содержит ряд различных изображений объектов. Когда мы только начинаем исследовать эту совокупность изображений одного объекта, то мы можем рассматривать их просто как разные частные знания об одном объекте. Если я изображу, скажем, объект кружочком, а эти знания буду рассматривать, как у нас это принято, в виде проекций, снимаемых с объекта и изображаемых в виде чёрточек, то первый подход представляет все эти знания просто как разные знания об одном объекте, лежащие наряду друг с другом. В специальном исследовании мы, как правило, работаем с одним из них. Если мы работаем с первым, то он, как правило берётся безотносительно ко второму, третьему и т.д., которые созданы для того, чтобы решить другие практические или теоретические задачи. При методологическом подходе мы можем взять их все вместе и говорить, что у нас имеется ряд разных частных знаний об одном объекте. Но в обоих случаях между этими знаниями не устанавливается никакой связи, и в самой теории, если она состоит из таких образований, не учитываются и не фиксируются связи между этими знаниями. Но такой подход, когда все знания рассматриваются как разные частные знания об одном объекте, лежащие наряду друг с другом, является лишь самым первым подходом. На самом деле в любой научной теории мы имеем знания, связанные между собой. Мало того, они находятся между собой в различных функциональных отношениях. Этот момент я хотел бы прежде всего подчеркнуть.
Второй тезис. В любой современной сложной научной теории мы имеем не просто массу разных знаний, которые можно рассматривать просто как частные знания об одном объекте, но, кроме того, между ними существует своя иерархия, и каждое из этих знаний несёт строго определённую функциональную нагрузку. Когда связь между частями, или элементами, сложной научной теории установлена, тогда сама эта научная теория превращается в некоторый организм или в некоторую машину.
Пункт третий. Теперь я могу поставить вопрос: каким образом можно разобрать все эти функциональные элементы, каким образом я могу определить состав моей научной теории, и каким образом я могу определить различные функции этих элементов. Существует два разных подхода к решению этой проблемы, они общеизвестны. Один – это, скажем, синхронно-структурный подход, когда имеют дело с научной теорией как с некоторым ставшим целым и пытаются какими-то методами раздробить его на различные части и определить их функции. Я не обсуждаю сейчас вопрос, каким методом решается эта задача. Другой подход, когда мы пытаемся эту же самую задачу решить генетическими или псевдо-историческими методами. К числу таких псевдо-исторических методов анализа сложного целого принадлежит, по-видимому, и общеизвестный метод восхождения от абстрактного к конкретному, применённый Марксом в «Капитале».
Хотя я сказал, что существует два различных метода анализа сложного целого, я должен теперь поправиться в том плане, что хотя существование двух таких методов и общепризнанно, но лично я никогда и нигде не видел образца применения первого метода и не знаю какие результаты здесь могут быть получены. Считается, что такой метод синхронно-структурного разложения существует, считается даже, что он работает в языкознании, где его применяет так называемое структурное направление. Можно, по-видимому, признать, что такой метод существует. Но я до сих пор не выяснил, даёт ли он какой-либо действительный результат. Ведь может существовать только видимость анализа, за которой не стоит действительно продуктивного анализа. По крайней мере, для меня это очень сложный вопрос. Гораздо лучше я представляю себе второй метод. Этот вопрос у нас здесь не раз обсуждался, и делались специальные доклады. Кроме того, имеется известная традиция по анализу метода восхождения от абстрактного к конкретному, скажем, работа Зиновьева. Поэтому я больше не буду обсуждать этот вопрос и все входящие сюда моменты, а возьму только маленький кусочек, необходимый мне для дальнейшего движения по заданной теме.
Я выскажу некоторые соображения, которые позволили бы выделить определённые функции для различных составляющих такой сложной теории. Для этого я поставлю вопрос: а как получаются эти новые знания об одном объекте? Я буду учитывать два соображения:
- мы знаем, и этот вопрос также не раз обсуждался, процедуру так называемого конфигурирования;
- я буду говорить о движении к объективности, о движении научного знания к объективности.
Эти два момента тесно связаны друг с другом, хотя их надо различать.
 Начну со второго – движения к объективности. Это старая проблема. Уже древние греки установили тот факт, что те или иные частные мнения об объективности оказываются лишь "видимостью", т.е. дают такое представление об объекте, которое заведомо может рассматриваться как "искажённое" (я пользуюсь их терминологией), или неточное, неадекватное знание. То есть они уже знали, что существует неадекватное знание. Я напомню те два случая, которые обсуждают греки. Первый случай относится к так называемому уровню чувственного представления. Для больного желтухой сахар кажется горьким, хотя на самом деле сахар либо сладкий, когда мы апеллируем к ощущениям большинства людей, либо и не горький, и не сладкий, а какой-то другой. Другой пример, тоже обсуждаемый Демокритом: если палку погрузить одной частью в воду, то палка кажется переломленной, хотя на самом деле она остаётся прямой. Я привожу эти примеры сейчас скорее в порядке шутки, поскольку греки установили целый ряд на самом деле научных проблем, где выяснялось, что ни одно из имеющихся знаний не даёт действительного представления об объекте, и в связи с этим они пользовались понятиями "кажимости" и "сущности".
Начну со второго – движения к объективности. Это старая проблема. Уже древние греки установили тот факт, что те или иные частные мнения об объективности оказываются лишь "видимостью", т.е. дают такое представление об объекте, которое заведомо может рассматриваться как "искажённое" (я пользуюсь их терминологией), или неточное, неадекватное знание. То есть они уже знали, что существует неадекватное знание. Я напомню те два случая, которые обсуждают греки. Первый случай относится к так называемому уровню чувственного представления. Для больного желтухой сахар кажется горьким, хотя на самом деле сахар либо сладкий, когда мы апеллируем к ощущениям большинства людей, либо и не горький, и не сладкий, а какой-то другой. Другой пример, тоже обсуждаемый Демокритом: если палку погрузить одной частью в воду, то палка кажется переломленной, хотя на самом деле она остаётся прямой. Я привожу эти примеры сейчас скорее в порядке шутки, поскольку греки установили целый ряд на самом деле научных проблем, где выяснялось, что ни одно из имеющихся знаний не даёт действительного представления об объекте, и в связи с этим они пользовались понятиями "кажимости" и "сущности".Теперь я перескакиваю через 2500 лет и беру, скажем, работу Эрнста Кассирера «Понятие о субстанции и понятие о функции» (в русском переводе эта книжка получила весьма характерное название «Познание и действительность»). Мне здесь не важно название, мне важен старый кантианский тезис, что действительность, т.е. нечто действительно реальное, или нечто, трактуемое как реальное, возникает не в результате непосредственного столкновения субъекта с объектом, а лишь в самом конечном пункте познавательного движения. В этом смысле процесс познания может рассматриваться как движение от "кажимости" к "действительно сущему". Здесь, наверное, надо заметить, что сама идея восхождения от абстрактного к конкретному является одним из моментов этой общей кантианской идеи.
Кстати, в этом плане возникают очень смешные вопросы у людей, изучающих марксизм по популярным источникам. Они говорят: как же так, ведь движение идёт от конкретного к абстрактному? Или они говорят, что движение идёт от чувственного созерцания к абстрактному мышлению. При этом, как правило, выпадает формула Маркса о движении от абстрактного к конкретному изображению объекта, т.е. к самой действительности. Здесь же можно привести Ленинское выражение, что истина всегда конкретна. Мне хочется подчеркнуть этот принцип, так как, исходя из него, я попробую в дальнейшем определить некоторые функции знаний, входящих в научную теорию.
Итак, мне важно сформулировать принцип, который я полностью принимаю, о том, что знание, претендующее на истинность, получается при всё большем отходе от непосредственной данности объекта, при всё большем опосредовании. Чем больше система опосредований, тем глубже мы познаём сам объект, и поэтому наиболее опосредованная система знаний претендует на большую истинность.
Второй момент касается механизма этого движения. Здесь мы приходим к идее конфигурирования, или конфигуратора, на которой я не буду останавливаться, поскольку она изложена в целом ряде статей (прежде всего я отсылаю к тезисам Лефевра на Киевской конференции, затем я имею в виду нашу совместную с Садовским статью в «Новых исследованиях по педагогическим наукам», и наиболее подробно эта идея была разобрана в работе «К методологии педагогического исследования игры», которая имеется в ротапринтном варианте в Ленинской библиотеке).
Очень коротко об идее. Если мы имеем несколько различных знаний об одном объекте, мы можем каждый из них по отдельности относить к объектам. Потом, в какой-то момент, поскольку все они относятся к одному объекту, у нас возникает вопрос, как они связаны друг с другом. Это предполагает создание знания об объекте, объединяющего все старые знания. Это есть задача, специфическая для построения научной теории. В перечисленных мною работах было показано, что никакое формальное объединение, т.е. объединение в плоскости формы, как правило, невозможно. Для того чтобы произвести такое объединение, надо прежде всего, двигаясь от этих знаний, построить некоторую структурную модель объекта, по отношению к которой эти знания были бы какими-то разными проекциями. А затем, исходя уже из этой модели объекта, построить новую синтетическую картину или синтетическое знание, которое будет объединять прошлые знания, но не просто, а преобразовывая их, перестраивая в соответствии с этой моделью объекта.
Если мы наложим эти два принципа на движение по развертыванию самой теории сложного организма, то мы прежде всего должны будем зафиксировать, что в этом движении осуществляется как бы расслоение всех знаний на те, которые могут в этот момент претендовать на объективность, и на те, которые не могут уже претендовать на эту объективность. Скажем, пока были теории 1,2,3, то каждая из них по отдельности могла претендовать на объективность и могла рассматриваться как точное и адекватное изображение объекта. Но с того момента, как мы ставим вопрос об их синтезе и начинаем рассматривать их как некоторый исходный материал для построения нового представления об объекте, мы как бы проводим временную черту. И когда мы создаём новую модель объекта и соответствующее, построенное на его основе синтетическое знание, то мы тем самым, ходом своей работы, членим историю науки, т.е. выработанные раньше знания, как бы на две группы: на новое знание, построенное нами в таком движении, которое теперь может претендовать на объективность, и прошлое знание, которое теперь является частным, не адекватным объекту.
Мне важно подчеркнуть сейчас, что пока единственным критерием для различения этих двух групп знаний является сама история процесса познания. Она членит знания на прошлое, уже не адекватное, и новое адекватное знание. Адекватное – потому что новое. Никаких других критериев пока в логике моего рассуждения нет и быть не может.
Но, как можно видеть, в этой группе нового знания, которое претендует на объективность, есть и то, что мы обычно называем конфигуратором, и другое, которое является собственно знанием, полученным на основании прошлых знаний. Поэтому тот вопрос, который я ставил раньше: какое знание может претендовать на объективность? – может быть теперь повторён для этих двух знаний: для знания-конфигуратора и для знания собственно теоретического. Заметим, что для нас основным признаком знания является отношение замещения, т.е. употребление той или иной графемы в отнесении к некоторой действительности и использование её как замещающей действительность. С этой точки зрения, конфигуратор и собственно теоретическое знание относятся к действительности по-разному. Когда построено собственно теоретическое знание, то конфигураторное знание часто становится ненужным и отбрасывается. В других же случаях оно продолжает развёртываться само по себе, как это получилось в физике с молекулярно-кинетическими представлениями. В обоих случаях, после того как получены оба вида этих знаний, между ними может быть проведена жирная красная черта, и каждое из них употребляется по-разному.
Четвертый пункт. Мне важно противопоставить друг другу два подхода. Первый подход основан на движении к объективности. Мы можем оценить одно знание как более объективное (иногда говорят – более истинное) по отношению к другим знаниям, менее объективным и менее истинным, на основании их исторической последовательности в развитии знания. Сам по себе этот принцип не выдерживает критики, потому что давным-давно установлено, что последующие теории могут оказаться более объективными лишь в какой-то своей части, и вместе с тем они теряют некоторые стороны, верно схваченные ранее. Но мне важно сейчас, что лишь исторически они могут быть так противопоставлены друг другу.
А я ставлю вопрос, который для меня будет в дальнейшем основным: можем ли мы произвести такое различение разных знаний – как претендующих на объективность и не претендующих на объективность – не с точки зрения исторической последовательности, а с точки зрения способов употребления этих знаний в системе научной теории. Я хочу обратить ваше внимание на то, что принцип движения к объективности понадобился мне только затем, чтобы ввести генетическую, или псевдо-историческую, точку зрения и задать само отношение движения, которое я потом выразил в принципе конфигурирования. Теперь я, фактически, ставлю вопрос о том, что оценка знаний и приписывание им некоторого “коэффициента” объективности, исходя из исторической последовательности знаний, является со многих точек зрения просто неадекватной, а для нас, по-видимому, невыгодной и неприемлемой, исходя из каких-то других, более общих принципов.
Короче говоря, использованный мной принцип движения к объективности я, употребив, теперь выбрасываю, он мне больше не нужен. Мне важно теперь поставить вопрос совершенно иначе. Такой принцип оценки – по отношению "раньше-позже" – есть, я даже использовал его, как вы видели, в своей работе. Но нам нужна совершенно другая оценка знаний – с точки зрения способов употребления их в научной теории. Вопрос в том, можем ли мы теперь оценить одни знания как изображающие объект, а другие – как не соответствующие этой функции, задав некоторый способ употребления этих знаний внутри научной теории. Другая формулировка этого вопроса: существуют ли в теле научной теории некоторые знания, которые создаются специально для того, чтобы замещать объект как таковой, и отличающиеся от знаний об объекте?
Знания могут претендовать на объективность, но у них из этого всё равно ничего не получится. Больше того, такие знания будут выродками, не "сознающими" своего места и роли в системе научной теории, ибо если они просто разные знания, в форме той или иной теории (в физике, химии, биологии и т.д.), то им совершенно не нужно претендовать на объективность, им надо просто "работать". А "работать" и претендовать на объективность – это, как давно уже выяснено, вещи разные. Больше того, эти вещи часто не совместимы. Я спрашиваю: можно ли среди знаний научной теории найти такие, которые претендуют на объективность, т.е. которые выступают в функции изображения объекта как такового? Совершенно справедливо можно спросить: разве не любые знания претендуют на объективность? Отвечая на этот вопрос, я говорю, что те знания, которые обозначены мной как 1,2,3 (или знание "1-3"), получившиеся после конфигурирования, предназначены для того, чтобы "работать", т.е. обслуживать определённую практику. Но, спрашивается, существуют ли в теле самой теории особые знания, которые не могут работать как научные знания, не могут работать на практику, при всём своём желании не могут, но как раз именно они и претендуют на "объективность", и именно благодаря им происходит развитие знания о мире.
Всё то, что я сказал, не означает, что я просто выбросил принцип объективности. Я им всё время пользуюсь. Это, между прочим, основной рабочий принцип моего рассуждения. Когда я спрашиваю: как обстоит дело на самом деле? – то представитель конкретной науки мне резонно отвечает, что бывает и так, и иначе. Я говорю, что это хорошая точка зрения, но как философ я не могу её принять, поскольку я обязан всё время ставить определённые вопросы. Скажем, достигнут некоторый уровень развития в науке, и имеется одно представление в науке, и другое представление, оба они – “бывают”. “По долгу службы” я в этом положении должен поставить вопрос: что, и то, и другое является "кажимостью", вчерашним днём? Я должен узнать, как же обстоит дело на самом деде, т.е. каков же объект как таковой, ибо если объект – и такой, и такой, то это значит, что он и не тот, и не другой, а третий. Фактически, я всё время ставлю этот вопрос, но я еще должен прийти к его постановке.
Поэтому здесь, введя принцип конфигурирования и движения к объективности, я показываю существование различных по их функциям знаний. Я могу показать, что в теле науки возникает два разных образования. Если же я рассматриваю шаги науки, то я имею даже три образования: прошлые, исходные знания; затем конфигуратор, который даёт возможность объединить их; и наконец, новое знание, получившееся на базе этого конфигуратора. Таким образом, я показал функциональное различие этих двух образований.
Теперь я ставлю вопрос. Всё то, что я получил, наработано в результате применения псевдо-генетического метода. И если я буду им пользоваться, то я могу применить этот принцип движения в относительных истинах, но он обязательно будет в этой работе неадекватным. Ведь давно установлено, что он может приводить к потере массы объективных содержаний, и потом приходится тратить много сотен лет для их восстановления. В данном механизме работы я не могу оценить само отношение смены, как претендующее на объективность. И в этом смысле – это знание, работающее в определённых функциях, как и все другие знания, только функции у него другие. Ю.Г. Полляк предлагал вынести их в мета-теорию, и тогда исчезает вся проблема. А я теперь ставлю вопрос: можно ли указать критерии претензий на объективность в других терминах, анализируя не сам процесс исторического движения, а способы работы с этими знаниями, т.е. найти этот критерий в некоторых деятельностях.
Что нам уже ясно. Ясно, что эти знания получаются по-разному. Когда мы говорим, что некоторое знание есть конфигуратор, то это значит, что оно выступает как модель объекта по отношению к этим знаниям. С конфигуратора должны сниматься проекции. Но потом я "снимаю" эту модель объекта в некотором собственно теоретическом знании. Я знаю, что по отношению к предшествующему знанию – и конфигуратор, и полученное на его основе собственно теоретическое знание – оба претендуют на объективность. Но если я беру их в паре, то почему именно модели объекта я должен приписывать высшую объективность? Ходом своего рассуждения я уже указал их функциональное различие. Но достаточно ли такого различения функций для доказательства правомерности претензий этой модели на объективность. Можем ли мы считать, что каждый раз получающиеся в такой функции образования надо рассматривать как модель объекта как такового.
Могут сказать, что если я назвал некоторое образование моделью объекта, то я ещё не указал его действительных функций. И вообще, можно спросить: на каком основании конфигуратор назвали моделью объекта? Дело в том, что я назвал конфигуратор моделью объекта из незаконных соображений. Я ввёл этот термин, исходя из способа получения этого образования, и я спрашиваю: можно ли указать различие этих двух образований – конфигуратора и полученного на его основе собственно теоретического знания – по употреблению в дальнейшей научно-исследовательской деятельности.
Замечу, что понятия "гипотеза", "подтверждение", "теория" никак не соотносятся с тем, что я сейчас рассказываю. Я двигаюсь сейчас в другой плоскости и в других понятиях. И Кант, и воевавшие против него были не правы в равной степени. Сейчас уже все понимают, что вся философия специальных наук является кантианской. Кантианцами являются не только те, кто принимает тезисы Канта, но и те, кто с ними борется, так как последние всё равно определены кантианской постановкой вопроса. Спрашивают: знание приближается к объекту или не приближается? Но дело в том, что знание не может ни приближаться к объекту, ни удаляться от него. К объекту должны быть применены характеристики и категории совсем другого рода. Я акцентирую сейчас внимание на то, что определить эту "объективность" можно только изнутри, исходя из употребления знания в науке.
Небольшое замечание по поводу истории развития науки. Важнейший момент в развитии науки и заключается в том, что Лефевр называет "сумятицей", – постановка проблем в другой оперативной системе. Если говорят, что некоторая проблема стоит уже 200 лет и её никак не могут решить, то эта проблема неправильно поставлена, она попала не в ту оперативную систему, не в тот способ рассуждения. Если вы хотите разрешить такую проблему, то переставьте её на другие рельсы.
Перейдём к рассмотрению того вопроса, который я неоднократно ставил в сегодняшнем докладе: каким образом работают с конфигуратором, когда он уже получен? Этот вопрос был поставлен, фактически, два года назад. Раскрою эту проблему. Пусть у нас будут знания 1,2,3, у нас возникла задача синтезировать их, и мы построили некоторый конфигуратор. На основе конфигуратора мы получили знание 1-3. Но это только один шаг в развитии научной теории. Кроме того, мы получаем некоторые знания 4 и 5. Допустим, что эти знания получаются из эмпирического анализа самого объекта.
Первый вопрос,
 который здесь возникает: можно ли знания 4 и 5 поставить в один ряд со знанием 1-3, полученным на основе конфигуратора? Вполне возможно, что это разные слои знания, но для упрощения я поставлю эти знания рядом, поскольку у меня не вызывает сомнений тот факт, что эти знания в свою очередь приходится объединять. Как происходит это объединение – путём ли включения знаний 4 и 5 в знание 1-3, или путём объединения их, – меня это сейчас не интересует. Я знаю только одно: каким бы хорошим не был конфигуратор, и каким бы хорошим не было бы знание 1-3, в науке возникает такой момент, когда эти знания в свою очередь должны быть конфигурированы. И я спрашиваю: в работе конфигурирования знаний 1-3 и 4,5 какую роль играет прежний конфигуратор? Каким образом он используется?
который здесь возникает: можно ли знания 4 и 5 поставить в один ряд со знанием 1-3, полученным на основе конфигуратора? Вполне возможно, что это разные слои знания, но для упрощения я поставлю эти знания рядом, поскольку у меня не вызывает сомнений тот факт, что эти знания в свою очередь приходится объединять. Как происходит это объединение – путём ли включения знаний 4 и 5 в знание 1-3, или путём объединения их, – меня это сейчас не интересует. Я знаю только одно: каким бы хорошим не был конфигуратор, и каким бы хорошим не было бы знание 1-3, в науке возникает такой момент, когда эти знания в свою очередь должны быть конфигурированы. И я спрашиваю: в работе конфигурирования знаний 1-3 и 4,5 какую роль играет прежний конфигуратор? Каким образом он используется?У меня есть гипотеза, что в каком-то месте истории развития науки я могу поставить точку начала, предположив, что за ней не было конфигуратора, и считаю, что это не предопределит неверного результата всей работы. Хотя существует другая опасность, что данная схема неполна не с точки зрения обрубания её с какой-то стороны (где обрубленная часть, по сути дела, остаётся такой же), но она неполна в том смысле, что здесь не хватает важных, качественно иных моментов. Эта последняя опасность не только вполне возможна, но мне кажется, что так и есть в самом деле. Но чтобы поставить саму проблему, не предопределяя её решения, мне достаточно принятых различений.
В качестве ремарки я хотел бы отметить один момент. Мне кажется, что непосредственное отношение к этой проблеме имеют те критические замечания, которые были сделаны Сазоновым, когда он показал на материале химии некоторые логические употребления конфигуральных моделей. Возможно, что это подход к заданию новых блоков, необходимых здесь. Но может быть, я здесь ошибаюсь.
Предположим, что линия развития этого организма, куда включаются и все те моменты, которые я не учёл, каким-то образом определена. Мы имеем механизм, упрощенно изображаемый нашей схемой2.
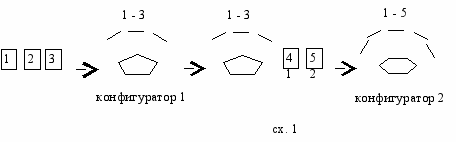
И мы можем таким образом проанализировать функции различных блоков при построении нового знания.
Здесь возникает вопрос, который фактически уже был поставлен Полляком, и который мы начали обсуждать: как провести здесь различие между собственно научной теорией и методологией? Я не говорю – "методом", а говорю – "методологией". При этом я не говорю, что методология не является наукой. Если мы возьмём все науки в целом, то внутри этого целого может быть найдена такая наука – методология. Но я не рассматриваю сейчас все науки, я беру некоторую одну и хочу здесь выделить собственно научную теорию и методологию.
Точка зрения естественников и философов по поводу связи науки и методологии, как это ни странно, совпадает. Представители конкретных наук не хотят, чтобы методология была наукой, потому что тогда их собственная работа окажется весьма ущербной и расчленённой на неестественном для их самолюбия уровне. Философы же выступают против методологии как науки, так как в противном случае им придётся заниматься научной работой, а не фразеологией. Но такое совпадение интересов, по-видимому, очень тормозит развитие науки.
Второй момент. Обычно считают, что существует переход от 1,2,3 к 1-3, минуя конфигуратор. Это не только широко распространённое мнение, но и практика подавляющего большинства учёных. Мне представляется, что наличие такого убеждения и такой практики работы проводит чёткую грань между так называемыми крупными учёными и мелкими учёными, не оставляющими никакого следа в науке, кроме сбора некоторого эмпирического материала. Те, кто пытается миновать конфигуратор, выдают псевдо-продукт. Такие учёные не фиксируются в истории науки, хотя в практике научного исследования они составляют подавляющее большинство. Мой гражданский тезис заключается в том, что если эти люди поняли бы, что так работать нельзя, то наша наука сделала бы большой прыжок вперёд.
Конфигуратор не должен быть истинным, он должен обеспечить синтез знаний 1,2,3. А критерий синтеза обусловлен только логическими правилами. Скажем, если имеется два равноправных знания, где в одном утверждается, что скорость объектов равна, а в другом – что скорость объектов не равна, и вы синтезируете их, не прибегая к псевдо-диалектическим ухищрениям, то тогда ваша попытка конфигурирования удалась. Лично я не знаю никаких других критериев для оценки этой вещи. Если же у вас есть два конфигуратора, то вы снова должны ставить проблему синтеза и конфигурировать их.
Я считаю, что наиболее прогрессивной является теория, которая после конфигурирования тотчас же снова порождает новые антитезисы и заставляет нас двигаться дальше. Более продуктивной является не та теория, которая не приводит к противоречиям, а та, которая приводит к ним. И если обратиться к истории науки, в частности к галилеевской механике, то можно увидеть, что она была не тем, что соответствует действительности (и в этом смысле не вызывает противоречий, как по отношению к эмпирическим фактам, так и внутри себя), но она была теорией, которая вся состояла из противоречий. И в этом была её сила.
Возможны такие случаи, когда две теории развиваются параллельно, на базе двух конфигураторов, и между ними нет связи. При этом работа не отличается от той, которая была описана мной выше. Мне кажется, что обсуждаемый сейчас вопрос является узловым для всего нашего движения.
Особо можно рассмотреть вопрос о получении знания 4-5. Возможно, что эти знания получаются в эмпирической процедуре, и при этом не участвует конфигуратор. Но может быть, при получении этого нового знания необходимо учесть конфигуратор. Возможен вариант, когда знания 4,5 уже существуют до того, как было проведено конфигурирование знаний 1,2,3, но исследователь мог не знать этих знаний 4,5 и не учитывать их в конфигураторе. И тогда это ничем не отличается от случая, когда знания 4,5 возникают после создания конфигуратора и вновь стоит задача синтезировать на базе конфигуратора.
Пример этому можно найти в молекулярно-кинетической теории физики. Факт наличия температуры был давно и хорошо известен. Но целый ряд моделей, включая модель Бойля–Мариотта, базировались на других отношениях, не учитывающих температуру, и лишь в дальнейшем параметр температуры был введён в формулу.
На первом обще-московском семинаре по дидактике обнаружился интересный факт. Если у нас есть некоторый эмпирический материал, и мы начинаем его обрабатывать, скажем, в матрицах, то система допущений, которую мы при этом принимаем – иногда осознанно, иногда неосознанно, – представляет один из важнейших компонентов нашего представления об объекте. Создаётся иллюзия, что мы получаем представление об объекте на основе эмпирической обработки материала, хотя на самом деле не менее важной, а более важной составляющей представления об объекте являются эти допущения. Мне кажется, что такие допущения не входят в конфигуратор. Возможно, что эти допущения, будучи потом осознаны как допущения, особым образом объективируются в некоторых знаниях об объекте. И тогда они могут быть включены в систему конфигуратора.
Для знающих математику и обоснование математики я бы хотел поставить один важный вопрос – вопрос о системе аксиом, как особой формы конфигураторного представления. Для меня эта проблема стоит следующим образом. Показано, что математика тоже может существовать только как двухплоскостное образование, причём здесь существует некоторый заместитель объекта, например: фигуры у Евклида или буквы, слова и фразы у Маркова. И то, и другое – это задание объектов, о которых идёт рассуждение в метаязыке. Но далее оказывается, что на определённых этапах этот объект элиминируется, причём, по-видимому, те функции, которые в нём заложены, каким-то образом снимаются в системе аксиом. За счёт этого математические теории принимают такой вид, который на протяжении уже многих сотен лет обманывает исследователей, задавая им превратное представление о научной теории. Как происходят этот "обман" и как происходит снятие объекта в аксиомах? – это и есть интересующий меня вопрос.
.... (…)
Щедровицкий. Мне представляется, что функционирование и построение нового знания есть вещи разные по предмету. В одной системе изображения мы можем говорить о функционировании знания, и нас там не интересует процедура построения нового знания. При этом знания выступают в качестве средств или в качестве регулятива, и на основании этого мы получаем новое знание. Тогда мы говорим, что получилось нечто новое, а прежнее знание функционировало. При этом мы не строим систему операций и процедур, которые осуществляет исследователь. Но то же самое мы можем включить в другой предмет и развернуть его в концепцию анализа самой деятельности по построению знания. В последнее время меня интересует второе, и мне кажется, что перенос сюда центра тяжести наших исследований будет продуктивен.
Итак, я поставил пятый вопрос: на основании каких критериев можно произвести размежевание областей специальной теории и собственно методологии. Чтобы сделать этот вопрос более понятным, я проведу некоторое рассуждение и вспомню о тех предпосылках, которые мной приняты. Мы постоянно говорим, что методология, если её не рассматривать как искусство, должна иметь свой особый предмет, отличный от предметов всех других наук. Мы говорим, что предмет методологии есть деятельность. И в этом смысле методология оказывается такой же наукой, со своим предметом, со своим продуктом, как и все другие науки. И мы придерживаемся принципа, что логика является эмпирической наукой, у неё есть свой эмпирический материал, и в этом смысле она является бесконечной наукой.
Тогда выше поставленный вопрос можно сформулировать иначе: в каких точках исследовательской работы мы должны менять предмет исследования и переходить к анализу исследовательской деятельности как таковой. Некоторые подходы к ответу на этот вопрос уже были даны. Анализируя парадоксы разного рода, мы фиксировали те моменты, где необходим переход к исследованиям другого рода – к анализу самой деятельности. Здесь я могу затронуть вопрос, который был поставлен Рождественским: каким образом возникает конфигуратор из знаний 1,2,3? Он сам же и ответил на этот вопрос, что это происходит благодаря таланту исследователя. Я согласен, что здесь без творческого гения не обойдёшься.
Задним числом мы можем вывести логическим путём конфигуратор из знаний 1,2,3. Мы должны так получить конфигуратор, или модель объекта, чтобы знания 1,2,3 выступали действительно как разные знания об одном объекте и были бы получены уже на основании имеющихся процедур исследования объекта. Иначе: мы вроде бы должны применить к нашему конфигуратору процедуры того анализа, какой мы применяем к объектам, и тогда должны получиться наши знания. Для того чтобы сделать это, надо трудится. Уже давно выяснено, что ответ на вопрос о том, возможно или невозможно это сделать, доказуем лишь в некоторых формальных системах и требует очень много времени. Марков говорит, что ему для доказательства некоторых, очень ограниченных положений потребовалось 15 лет.
Чтобы пояснить саму мысль, я приведу простой пример. Когда мы ввели в качестве конфигуратора схему знания, то мы очень легко объяснили различие подходов лингвистики и логики к одному и тому же объекту. При этом мы получили простое объяснение, почему лингвисты на могут понять, что такое знак. Мы объяснили, почему нельзя говорить, что значение знака совпадает с понятием. Мы даём ответ на все эти вопросы, по которым спорят лингвисты и логики. При этом мы не просто говорим, что «мы так думаем», но мы объясняем, как должно быть. Мы объясняем, почему мы так думаем, почему так думают они, и почему они так должны думать.
Рождественский. Я думаю, что происхождение конфигуратора можно объяснить по-другому. И логик, и лингвист не остаются только в сфере своего чистого предмета, но они каждый раз используют соседние предметы. И конфигуратор может возникнуть только за счёт таких перехлёстов.
Щедровицкий. Я полностью принимаю идею перекрещивания и согласен, что на ней построены идеи конфигуратора. Но суть дела в том, что когда мы построили конфигуратор, только тогда мы получаем возможность объяснить разные тексты как перекрывающиеся. Поначалу есть два текста, которые надо синтезировать, и нет ещё конфигуратора. Оказывается, для того чтобы перейти от знаний 1,2,3, надо апеллировать к определённым логическим правилам анализа. Мне легко сейчас по-разному расчленять изображения некоторого объекта и говорить, что одни берут материал знака, другие берут материал знака вместе с функцией обозначения, третьи вырывают отсюда только использование знаков и т.д. Но, переходя к истории науки, я теперь должен показать и объяснить, почему бралась та или иная проекция. В своих сообщениях о принципе параллелизма я не просто констатирую, что так получилось, я объясняю, почему бралась та или иная проекция. Я фиксирую те практические требования, которые детерминируют выбор проекции.
Мой вопрос, повторяю, заключается в том, что хотя мы и указали в некоторых пунктах, почему становится необходимым переход к анализу другого предмета, т.е. к анализу деятельности, но мы тем не менее самого этого перехода никогда конкретно не разбирали. Это обусловлено реальной трудностью.
Вторым нашим тезисом (после первого тезиса о том, что методология имеет свой собственный предмет) является то, что хотя методологические проблемы возникают в ходе описанного мной движения, но решить их, исходя только из этого движения и этого ограниченного материала, которые представляют нам специальные науки, нельзя. Анализируя эти пункты, надо выделить новую область действительности и построить свой особый предмет, особую деятельность, которая будет давать знания по собственно имманентной ей логике. То есть некоторые логические знания будут и должны появляться не потому, что в практике научной работы – в физике, в химии и т.д. – возникают пункты, требующие методологических знаний. Так было. Так во многом продолжается и сейчас. Но трагедия заключается в том, что, исходя только из таких точек и трудностей, построить – что методологию, что теорию метода – вообще невозможно. Мы должны оставить эти пункты, но – конечно, проанализировав их – построить такой предмет, как теория деятельности, и получать знания, развёртывая этот предмет как особую науку.
Грубо говоря, наплевать на все сегодняшние запросы конкретных наук. Часто представители философии естествознания спрашивают нас, какая польза от занятий старыми проблемами, ведь сейчас более актуально заниматься проблемой времени и пространства в квантовой физике и т.д. Но путь исследования должен быть иным: нужно задать особый предмет и строить собственно логико-методологические знания. И лишь после того как эти знания будут получены, они должны употребляться для решения проблем, встающих в практике научной работы.
Я утверждаю, что разница между темпами развития конкретных содержаний науки и способами мышления науки такова, что мы, уйдя в конкретных знаниях далеко от Галилея, остаёмся во многих науках на уровне Галилея, а в некоторых науках даже на более низком уровне. Поэтому решить массу проблем, встающих в современной науке, – это значит проанализировать способ мышления Аристотеля и Галилея. Поэтому эти знания, как правило, могут быть получены на анализе древнегреческой науки. Больше того, работа с собственно логическими текстами древних показывает, что с точки зрения осознания они знали гораздо больше, чем знаем мы сейчас. В ходе развития науки такие вещи были утеряны. То же самое, с моей точки зрения, происходит с Гегелем. По-видимому, он решил многие проблемы, над которыми бьются сейчас в науке.
Но у этого дела есть и другая сторона: прогресс в современной науке заключается в построении новых способов мышления, и только так будет решена масса проблем, которые сегодня возникают. Но такое строительство новых способов мышления возможно только при анализе старых способов, ибо, наверное, сами способы мышления имеют имманентную логику развития, и они каждый раз связаны с предшествующими способами. Я понимаю, что эта гипотеза не является обоснованной, и я не могу на ей настаивать.
Таким образом, мысль моя заключается в том, что, зафиксировав какие-то точки, где требуется обращение к методологическому анализу, мы должны, проанализировав эти пункты, выйти к формированию предмета методологии, т.е. к тому, что мы называем деятельностью, начать изучение её, по законам развёртывания всякой другой науки, и получить целый ряд знаний о деятельности, и, в частности, мыслительной деятельности, которые будут использоваться при решении собственно методологических вопросов. При этом материалом должно служить не столько современное мышление, сколько более выясненное по содержанию мышление более ранних этапов развития науки. Но у нас остаётся совершенно невыясненной разница между получением знаний о мышлении и употреблением таких знаний как собственно метода. Здесь проходит принципиальное различие между методологическими знаниями, т.е. теорией метода, и их употреблениями как самого метода, т.е. как методологических знаний.
Здесь я снова хочу возвратиться к возражениям Вадима Розина. Мне представляется, что когда ты говорил о двух типах подхода, у тебя, наряду с приемлемыми для меня тезисами, содержалось это противопоставление некоторых знаний о деятельности и их собственно методического употребления при строительстве новых специальных знаний. Различение таких знаний имеет только одно основание – различие методологии и методики. При этом методика есть не просто употребление методологического знания, но и переформулирование его в особую форму – форму предписания. Мой вопрос о различии между собственно теоретическим и методологическим знанием может быть расшифрован следующим образом: должны ли мы провести различение между методологией и методом?
И я могу уже ответить на этот вопрос. Наверное, дело не в том, куда мы отнесём конфигуратор, его можно оставить в рамках теории, а можно перенести в метод. Вопрос в том, в какой функции мы его представим. Если он выступит в методической, скажем, функции, то он должен остаться в рамках теории. Но если о конфигураторе мы говорим, как о полученном в результате изменения предмета исследования, то тогда мы должны отнести его в методологию. Но ответ на этот вопрос заключён в решении второго, основного для меня вопроса, а именно: смена положения конфигуратора при переходе от методологии к методу.
.... (…)
Щедровицкий. Вопрос о получении некоторого знания и о применении его как средства в некоторой деятельности для нас вообще является основным при анализе деятельности как особого предмета. Но я рассматриваю сейчас не эту общую постановку вопроса, а его некоторую конкретную модификацию. Я хочу узнать, что происходит с методологическими знаниями. И здесь нам нужно искать эмпирический материал.
Покончив с этими вопросами, мы, фактически, подошли к тому кругу проблем, которые обусловили постановку самого доклада.
Пункт шестой. Еще два года назад я утверждал, что в специальной научной теории не существует никакого изображения объекта. Формулировался резкий тезис, что научной теории нужны знания, которые работают, а вопрос о том, что такое объект и каково его изображение, принадлежит только логике и методологии. Формулировался парадоксальный принцип, что логика, в отличие от конкретных наук, единственная ставит вопрос об объекте. В этом пункте проходила грань между нашей точкой зрения и точкой зрения Ильенкова и Коровикова, формулировавших принцип, что логика является наукой о познании, а не о мире. Мы говорили, что логика есть наука о познании и тем самым о мире как таковом.
Эти утверждения, как первый подход, и сейчас мне кажутся правильными. Но сейчас я понимаю те допущения, на основании которых делались подобные утверждения. В основе такого представления лежала идея, что есть специальная наука, есть методология, они имеют разные предметы, разные объекты, разные процедуры и разные продукты. Если их расположить как наряду лежащие, то этот тезис является верным. Это допущение верно, если мы не рассматриваем постоянного взаимодействия специальной науки и методологии. Но если мы учтём это взаимодействие, то окажется, что некоторые методологические знания переводятся в методические и остаются в рамках специальной теории. Тогда в рамках этой специальной теории получается изображение объекта, которое привнесено сюда на основании изменения предмета, но когда оно попадает в рамки специальной теории, оно меняет свои функции и перестаёт быть методологическим знанием.
Я не настаиваю на том, что методология есть. Но куски её существуют, и с ними происходит всё то, о чём я рассказывал. Дело в том, что методологию каждый раз создавали представители конкретных наук: Лейбниц, Ньютон, Декарт. За счёт этого те фрагменты методологии, которые они строили, попадали в специальные науки. Если мы учтём это постоянное взаимодействие, то тезис о том, что изображение объекта существует только в методологии, а в специальных науках его нет и быть не может, оказывается наивным и ложным.
Здесь я формулирую проблему номер три. Я буду развивать её дальше, полемизируя с теми положениями, которые выдвинул в своём выступлении Розин. По-видимому, можно показать процесс превращения методологии в методику даже на материале формирования вавилонской математики. Дело в том, что когда у тебя имеется схема алгоритма, который надо употреблять, и когда появляется рисунок трапеции как основание связи алгоритма с объектом, то это изображение трапеции является методологическим моментом. Я не буду настаивать, что это изображение было получено в рамках методологии, но это было получено в рамках особого движения, и это легко доказать. Для получения рисунка трапеции, отличного от треугольника, квадрата и других, надо рассмотреть алгоритм в отношении к объектам, т.е. задать некоторую область применения. Но когда мы ставим вопрос не просто об этих схемах, а также и об области их применения, то мы меняем фактически предмет исследования: мы рассматриваем сами знания и некоторые объекты, к которым они применимы, причём задаём особую характеристику этих объектов в другом знании. И в этом плане твои ссылки на «Аналитики» были неверными: ты выделял «Аналитики», рассматривал фиксированные в них правила. Но «Аналитики» нельзя рассматривать отдельно от «Метафизики», где задавалась эта схема.
Я снова перехожу к математике. Дальше каким-то образом возникают объекты, включённые в саму теорию. Сначала, как ты это показываешь, это были не объекты. Появление функции объектов у данных образований делает не нужной саму методологию, или анализ отношения алгоритмов к их объектам. За счёт появления методологической или методической части система научных знаний, или система теорий, втягивает в себя новую функциональную единицу, втягивает в себя объекты. За счёт такого дополнения себя до некоторой целостности знание может оторваться от эмпирической действительности и стать формальной научной теорией или математикой. Ключ к пониманию всего дела заключается в этой методической добавке и смене предмета.
Этот тезис является антитезой почти всем современным направлениям, анализирующим строение научной теории. В этих теориях всегда даётся форма и обсуждается, за счёт чего она формализуется, в то время как решение заключено в другом: во втягивании объектов в тело теории, которые вначале были вне этой теории и возникли как продукт особой методической точки зрения. Именно методической точки зрения. То есть вначале возникает некоторое знание, оно возникает как эмпирическое знание, полученное непосредственно на объекте. Затем возникает некоторая ситуация (которую ещё нужно детально проанализировать), которая делает необходимым подключение некоторой методической части, переход к новому предмету и анализ деятельности по употреблению этого знания. А что значит – деятельность по употреблению некоторого знания? То есть – деятельность наложения этого знания на объект. Потом эта деятельность, её анализ, делает своим продуктом некоторую характеристику тех объектов (представленную в новом знаковом образовании), к которым это знание может быть применено. Но это последнее знание выступает как добавка к старым знаниям. Это есть рефлексивная проверка старых знаний. А затем эти знания должны быть в особой роли применены в самой теории. С этой точки зрения нужно еще раз посмотреть старые материалы.
Я вынужден отвергнуть тезис, что изображение объекта присутствует только в методологии, оно есть в любой специальной теории, поскольку оно туда привносится. Но тогда перед нами встаёт исключительно важная проблема: у нас появляется три типа знаков, фиксирующих объект. Во-первых, изображение объектов в специальной теории, во-вторых, изображение объекта в методологии, в-третьих, изображение в предмете методологии изображения объектов, присутствующих в специальных науках. Я ставлю вопрос об отношении их: одно ли это то же, или это разное, или это одно и то же по-разному? Этот вопрос был предметом почти всех возражений, которые были сделаны при обсуждении моего первого доклада. То есть все выступления не различали этих трех моментов. Критерии этих трёх разных изображений объектов очень просты.
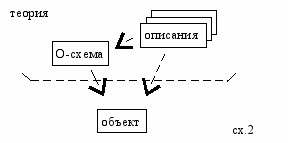
Пользуясь нашими понятиями объекта и предмета, я введу следующие рисунки. Я рисую специальную теорию, в которой имеются описания и некоторый объект. Описание отнесено к объекту. Причём описание находится в самой теории, а объект лежит вне её. Но потом, когда мы включаем такое звено как изображение объекта, появляется то, что я пока назову "О-схемой" (я пока не расшифровываю этого названия).
Это схема предмета специальной теории. Я могу это утверждать на том основании, что я ввёл сюда изображение объекта и некоторое онтологическое понимание. Это не схема объекта, а некоторая онтологическая схема. Это особое графическое изображение содержания описания. Теперь всё это можно рассмотреть как изображение некоторого объекта. (Я рисую сейчас это таким образом, что я не в силах обсуждать вопрос о функциях разных знаковых средств в деятельности, скажем, при построении новых знаний, с точки зрения функционирования и т.д.) Предположим, что это есть некоторая научная теория, в которой свёрнут исследовательский процесс.
Теперь я хочу изобразить всё это в методологии. Для этого я рисую изображение объекта, рядом лежит блок процедур, и рядом появляется изображение знаний. В знания я включаю всевозможные знания, такие как описание, онтология и т.д.
Н
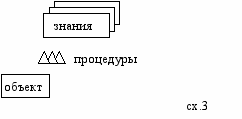
есколько слов о самом методе работы. Размышляя над сделанными мне замечаниями, особенно замечанием Костеловского, я обнаружил одну очень тонкую вещь: в этом значке оказывается существует не две функции – скажем, знак чего-то и представление самого себя, – а существует гораздо больше функций. По-видимому, это тесно связано с работами Лефевра по рефлексии, т.е. это можно будет понять, рассмотрев разные ранги рефлексии, но в особой игре, не тогда, когда играет два противника.
Но обратимся к ходу моего движения. Если бы я находился в рамках специальной теории, то я бы имел первый рисунок. И тогда, как правильно говорит Владимир Александрович, я должен был бы задать это описание. Так, например, я бы сказал, что площадь треугольника равняется половине произведения основания на высоту, а рядом я нарисовал бы треугольник. Меня сейчас не интересует, что само описание в специальной теории членится на ряд слоев. Если бы я находился в рамках специальной теории, то это бы находилось передо мной, а объект лежал бы где-то за. Но я нахожусь на совершенно иной позиции. Говоря о специальной теории и не выходя за её рамки, я рисую особые изображения (мое первое изображение). При этом я рисую описание, как одну плоскость, О-схему. И ещё ввожу некоторый объект. То есть если бы я этого не ввёл, то моя точка зрения не представляла бы эти описания и О-схему как некоторые знания об объекте. Я ввёл объект, но изобразил его незаконно. У меня он изображён, поскольку такова действительность, но в теории он не изображается. Он присутствует в специальной теории, но он не изображён в ней. Но я должен изобразить его, поскольку он присутствует.
Таким образом, я уже изобразил специальную точку зрения, причём я изобразил её не так, как она есть на самом деле. Я представил точку зрения специального исследователя, она существует для меня постольку, поскольку я её так представил. Я её так представил, но это есть его точка зрения. Но неизвестно, какова она на самом деле. В этой связи мы по-новому должны рассмотреть различение формального и материального модуса, которое проведено у Карнапа. Я не могу ответить на вопрос: то же это самое или нет? Но если это – то же самое, то я не могу понять, почему это исчезло из их употребления. В этой связи необходимо рассмотреть первое возникновение различения объекта-языка и мета-языка. Я, по-видимому, двигаюсь в материальном модусе, когда говорю, что это его точка зрения. А когда я говорю, что это моё изображение его точки зрения, то я двигаюсь в формальном модусе. Теперь я это объектное представление перевожу… Здесь надо различить две точки зрения, заданные различным направлением стрелок.
Т
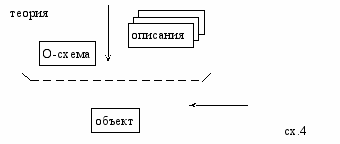
очка зрения "сверху вниз" видит только то, что находится выше штриховой линии, а точка зрения, перпендикулярная этому изображению, видит только то, что дано сбоку. Теперь я, на той же самой доске, эту перпендикулярную точку зрения перевожу в формальную точку зрения. То есть это отношение я рисую как то, что лежит выше штриховой линии. Для этого я всё то, что было раньше выше штриховой линии (описания и О-схемы), должен изобразить особым образом. Я перевожу не их, самих по себе, я их изображаю. (Кстати, возвращаюсь к своему докладу, когда я рисовал все свои значки – скажем, атрибутивные свойства, связи, функции – справа (...) предметов, то это было ни чем иным, как изображением разных знаков или характеристик, употребляемых специалистом, в совершенно новом плане – как знаки этих изображений.) Кроме того, я должен ввести новое изображение того, что я назвал объектом. В первом случае я тоже ввёл его изображение: я написал "объект" и заключил его в квадратик. А теперь я должен здесь действительно задать изображение объекта.
Т
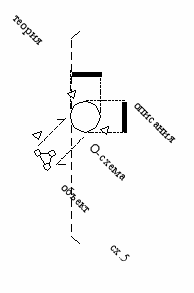
еперь мы можем рассмотреть основную мысль, которая содержалась в выступлении Генисаретского. Когда я изображаю знаковые формы, употребляемые специалистом, на своей методологической схеме, то они теряют содержание. Когда же я перехожу от этого изображения (это же моя схема, если брать перпендикулярную точку зрения, формальный модус) как просто к объекту, то я должен задать здесь конкретное изображение и перейти от одного изображения к другому, конкретизируя его. Генисаретский, фактически полемизируя со старыми схемами "Х-дельта-А", говорит, что наша ошибка состоит в не-раскрывании этого X. Но дело заключается в том, наверное, что старые схемы отличаются от новых тем, что они находятся в другом предмете. Но если так, то нам необходимо понять, что это за два разных предмета. Пусть Генисаретский не прав, но нам надо разобраться с этими предметами в таком случае.
Я изобразил объект. Что я должен делать дальше? Я делаю новый шаг и перехожу к третьему предмету. Ибо если я так изобразил всё, то я нахожусь здесь в сфере методологии, но выступаю как представитель специальной науки, т.е. смотрю вертикально. Но если я теперь начинаю смотреть перпендикулярно, то это есть ни что иное, как особое описание, у которого должна быть своя О-схема и должен быть свой объект.
К
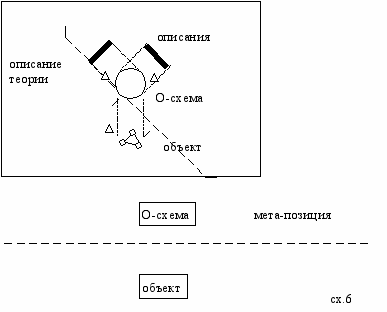
огда я так нарисовал, то я перешёл в план мета-методологии. Я применил методологическую точку зрения к самой методологии. То, что это нужно делать, у меня не вызывает сомнений. Теперь посчитаем, сколько у меня получилось изображений объекта? Пять. Я говорю "пять", а потом скажу, что три. Я говорю это для того, чтобы не путать онтологические схемы, которые тоже вроде бы являются изображениями объекта, с изображениями объекта. Мы действительно получили три изображения объекта, да ещё две онтологические схемы.
Первый мой тезис. Действительно ли правильно произведено различение онтологической схемы и объекта? А если это различение правильно, то мы приходим к вопросу, чем же являются онтологические схемы. Нам снова придётся обсудить проблему онтологии, но уже в отношении к проблеме объекта и его изображения. Дело в том, что все возражения со стороны Сазонова, Генисаретского и Топера шли по той линии, что изображение объекта, появившееся в онтологической картине, отождествлялось с онтологическими схемами. Ставя задачу обсудить функции онтологии в свете её отношения к изображению объекта, я хочу подчеркнуть, что всё может оказаться как раз наоборот. Может быть, изображение объекта в методологии и есть единственная онтология, как она сложилась и исторически употреблялась в науке. И может быть, всё это должно получить новое название, потому что это является не онтологией, а чем-то другим. Меня устроил бы любой из этих вариантов.
Что О-схема есть в любой науке, это не вызывает сомнений. Так, в той же физике имеется изображение рычага или маятника, причём математического маятника. В беседе со мной один толковый математик сокрушенно сказал: «физики молодцы – они строят модель, а потом с ней работают, а математики до этого не додумались». Построение моделей и есть то, что названо мной О-схемой.
Было бы неплохо, если бы Лефевр соотнёс все эти переходы со своей теорией рефлексивных игр и построил бы соответствующую алгебру. Только это была бы игра исследователя с объектом и самим собой.
После того как построены все эти изображения, и мы чётко знаем зафиксированные в них различия четырех позиций (потому что в каждом изображении две позиции), мы должны построить правила перехода из одной позиции в другую. Теперь вновь встаёт вопрос, который я поставил раньше: как построить процесс исследования, учитывая непрерывные рефлексивные движения и переходы от одного предмета к другому. Мы выяснили, что построение системы методологии предполагается при конфигурировании некоторого знания. Но нужно спросить: в план какой методологии необходимо переходить при конфигурировании – в методологию позиции номер 2, 3 или 4?
Здесь я бы хотел повторить старую гегелевскую мысль, которая одновременно будет являться ответом на вопрос Лефевра. Ведь так можно продолжить игру до бесконечности, строя всё новые и новые перпендикулярные изображения. Я бы ответил, что с моей точки зрения можно оценивать уровень мышления исследователя по тому, какое количество рефлексии такого рода содержится в его работе. Темп развития науки и заключён в том, насколько быстро происходит смена этих рефлексий. Я бы сказал, что можно отличать более развитое мышление от менее развитого не потому, какие единицы содержания оно схватывает, а по чисто количественному критерию – каков порядок рефлексии в этом мышлении. И именно этим порядком рефлексии определяется продуктивность мышления.
Я не считаю эту мысль новой. У Гегеля, как мне кажется, всё это было. Мне важно сформулировать всё это на материале нашей системы. Но тогда возникает вопрос: что же мы должны сделать? Смысл этой рефлексии заключается в том, что мы выделяем новые предметы изучения, включающие нас самих как объект. Значит, главное здесь – построение самого предмета.
Порядок рефлексии может оцениваться двояко: генетически и в структурном срезе. В зависимости от метода оценки мы получаем разные ответы. Если мы берём структурный срез, то количество рефлексий всегда определяется практическими задачами. Если мы можем двигаться в первой позиции, получая всё то, что нам необходимо, то мы дальше и не двинемся. Но если мы берём такие науки, как лингвистика, социология, история, то там оказывается выход за пределы этого ранга и повышение рангов рефлексии. Грамматика, к примеру, является продуктом деятельности первого рода, она создана человеком, и речевая деятельность становится искусственным образованием, она нормируется некоторой грамматикой.
Итак, сначала была ненормированная речь; грамматика, в свою очередь, описывала тексты и нормировала её. Теперь каждый человек говорит на основе грамматики. Переходя в сферу языкознания, мы меняем предмет изучения. Если в грамматике объектом изучения были речевые тексты, то теперь – средства, в частности, грамматические, на основе которых они строятся. Но это значит, что объектом изучения становятся наши предшествующие знания о речевых текстах. Но теперь они выступают уже не просто как знания, а как объекты – средства. Этот процесс рефлексивного усложнения изучаемой структуры предмета можно продолжить. Языковедческие знания тоже передаются из поколения в поколение, им обучают, и они усваиваются детьми. Этот процесс тоже может стать объектом дальнейшего изучения. Часто говорят, что выучив грамматику, нельзя познать язык как таковой. Чтобы по-настоящему владеть языком, нужно еще его "чувствовать", т.е. иметь общее представление о языке и употреблении различных его форм. По-видимому, в таких случаях как раз и имеют в виду эти знания из языковедческой науки в целом. Таким образом, не только грамматика начинает нормировать нашу речевую деятельность, но и знание более высоких порядков о самой этой грамматике и формах её использования. А затем мы можем сказать, что если не только грамматика, но и общелингвистические знания нормируют человеческую речевую деятельность, то, следовательно, нужно изучать весь этот процесс в целом. Он сам становится объектом изучения и описания в более сложных знаниях. Это знание более высокого порядка рефлексии.
Но точно такой же процесс происходит и в социологии. В частности, когда столкнулись друг с другом две точки зрения:
- детерминистического определения будущего настоящим и прошедшим,
- отрицание предопределённости будущего (будущего нет, оно создаётся нами – Лев Толстой);
то причина этого расхождения была заключена в различии рангов рефлексий, в которой двигались представители этих точек зрения. Когда мы познаём законы развития социума, но рассматриваем их как законы не зависимых от нас объективных явлений, мы получаем первую точку зрения. Когда же, познав эти законы, мы начинаем действовать на основе всего этого, меняем их, то вступает в силу вторая позиция.
В этом плане очень интересной и поучительной, с точки зрения непонимания различий этих двух позиций, была работа Сталина. Выступив против “волевого характера” экономических законов, он полностью отбросил вторую позицию. Это была большущая и очень вредная ревизия того, что было уже установлено в марксизме. Можно сказать, что это было понижение человеческого сознания на один ранг рефлексии. Если Маркc говорил о том, что теория, выражающая законы какого-либо явления, в том числе и социального, становится затем материальной силой, то Сталин своим тезисом, что законы нельзя изменять, а можно только к ним приспосабливаться, фактически отверг предшествующий тезис и, по сути дела, отверг всякую возможность сознательного вмешательства в социальные процессы, перестройки структур и законов социальной жизни. Между тем в социологии переход на новый ранг рефлексии является условием управления социальными структурами и планирования их.
Оценка рангов рефлексии будет различной, в зависимости от того, как мы подходим к знаниям и мыслительным процессам: в структурных и синхронных срезах мы будем получать одну меру, а в генетических и диахронных – другую. Это объясняется тем, что рефлексивные знания постоянно затем как бы “сплющиваются”, отливаясь в особые средства. Эти средства затем могут использоваться в движениях по более низким рангам рефлексии. И поэтому при синхронной оценке мы будем оценивать их ниже, чем они являются на самом деле.
Это различие можно оценить также, как различие между рангами рефлексии в общественном социальном мышлении и индивидуальном мышлении. То, что с исторической точки зрения имеет высокий ранг рефлексии, в плане индивидуальной работы будет иметь низкий ранг рефлексии, так как будет свёрнуто в “плоских” средствах. Кстати, в этой связи можно указать на одно различие между работой учёного и обывателя. Учёный, как правило, работает в трёх или четырёх рангах рефлексии. Он вырабатывает на основе этого продукты – и только благодаря этим многим рангам рефлексии они могут быть получены, – затем как бы свёртывает их в “плоские” средства. Эти средства организуются в теорию,
 а затем обыватель берёт их и может работать на одном ранге рефлексии, и получать тот же самый результат, который учёный получал с помощью многих рангов рефлексии. Обыватель может мыслить в нулевом ранге рефлексии. Поэтому оценка индивидуального мышления будет расходиться с оценкой средств мышления, свёрнутых в них рангов рефлексии. Когда я говорил, что уровень развития мышления может определяться рангом рефлексии, то я имел в виду не ранг индивидуального мышления, а ранг средств, т.е. систему свёрнутых в них рефлексий. Это, наверное, будет один из важнейших показателей развития способов мышления.
а затем обыватель берёт их и может работать на одном ранге рефлексии, и получать тот же самый результат, который учёный получал с помощью многих рангов рефлексии. Обыватель может мыслить в нулевом ранге рефлексии. Поэтому оценка индивидуального мышления будет расходиться с оценкой средств мышления, свёрнутых в них рангов рефлексии. Когда я говорил, что уровень развития мышления может определяться рангом рефлексии, то я имел в виду не ранг индивидуального мышления, а ранг средств, т.е. систему свёрнутых в них рефлексий. Это, наверное, будет один из важнейших показателей развития способов мышления.Основная проблема, которую мы должны будем решить, продолжая начатую работу, – это ответ на вопрос, что такое изображение объекта в методологии, как оно может употребляться в качестве заместителя и представителя объектов в методологических исследованиях. Главная проблема здесь в том, чтобы наделить жизнью, если хотите, какими-то материальными возможностями различные элементы знаковых изображений. Здесь, естественно, возникает вопрос: что это значит – наделить их жизнью? Ведь им надо приписать что-то такое, что сделает их действительностью того или иного рода.
Возьмём, к примеру, изображение связей и элементов. Мы можем, например, раскладывать объект на составные части и таким образом будем выделять что-то, что будет выступать затем в роли элементов целого. Но мы не можем выделить при разложении объектов связи. В этом плане, конечно, требуют специального анализа распространённые в физике методы оценки связей по соответствующим им выделениям энергии. Но и с учётом этого, всё равно, тезис о том, что мы не можем выделить связи как таковые, остаётся правильным. Очевидно, вместе с тем, что элементы и связи, с точки зрения законов и механизмов своей жизни в целом, принципиально отличаются друг от друга. Вопрос, с моей точки зрения, может стоять так: какой жизнью могут обладать знаки связей: с одной стороны, в структурных изображениях объектов в специальных науках, с другой стороны, в методологии.
Кроме того, мне кажется, мы должны продолжить дискуссию, которую начал здесь Вадим Розин. Он спрашивал, какие виды логико-методологических знаний мы хотим получить. Очевидно, что в зависимости от того, как мы ответим на этот вопрос, изображения объектов в методологии будут выступать в разных функциях и по-разному. Все эти функции нам надо выделить.
Мне хотелось бы, чтобы в дальнейших дискуссиях было бы каким-то образом выражено отношение к этим положениям.
