Философское Наследие антология мировой философии в четырех томах том 4
| Вид материала | Документы |
- Антология мировой философии в четырех томах том, 13429.06kb.
- Антология мировой философии: Античность, 10550.63kb.
- Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах:, 241.84kb.
- Книга первая (А), 8161.89kb.
- Аристотель. Сочинения в 4 томах. Т м.: Мысль, 1978. 687с. (Философское наследие)., 712.08kb.
- Собрание сочинений в четырех томах ~Том Стихотворения. Рассказы, 42.25kb.
- Собрание сочинений в четырех томах. Том М., Правда, 1981 г. Ocr бычков, 4951.49kb.
- Книга вторая, 1589.39kb.
- Джордж Гордон Байрон. Корсар, 677.55kb.
- Антология мировой детской литературы., 509.42kb.
[ОТНОШЕНИЕ К ОСНОВНОМУ ВОПРОСУ ФИЛОСОФИИ]
Материя разнообразна до бесконечности, поэтому природа установила и разнообразные способы для достижения целей существования отдельных индивидуумов, но с подчинением их одному, общему для всех их закону. Этот закон заключается в обмене матери и, входящей в состав тел, с внешнею относительно их матернею при помощи непрерывного движения ее элементов (стр. 3—4).
Совершенствование организмов и их частей в физическом и духовном отношениях происходит при постоянном обмене материи с помощью физических, химических и духовных сил природы, посредством питания, воспитания, размножения и роста, ведущих к этой цели. [...] Поэтому не только внешние влияния среды, в которой живут организмы, начиная от клеток, оказывают влияние на развитие их жизни, но и внутренняя их жизнь видоизменяет состав и природу внешних сил и материи (стр. 6).
Теперь мы еще не можем объяснить себе вполне замены весомой материи материей, которую
522
Материя разнообразна до бесконечности, поэтому природа установила и разнообразные способы для достижения целей существования отдельных индивидуумов, но с подчинением их одному, общему для всех их закону. Этот закон заключается в обмене матери и, входящей в состав тел, с внешнею относительно их матернею при помощи непрерывного движения ее элементов (стр. 3—4).
Совершенствование организмов и их частей в физическом и духовном отношениях происходит при постоянном обмене материи с помощью физических, химических и духовных сил природы, посредством питания, воспитания, размножения и роста, ведущих к этой цели. [...] Поэтому не только внешние влияния среды, в которой живут организмы, начиная от клеток, оказывают влияние на развитие их жизни, но и внутренняя их жизнь видоизменяет состав и природу внешних сил и материи (стр. 6).
Теперь мы еще не можем объяснить себе вполне замены весомой материи материей, которую
522
БЕЛОРУССИЯ
КАЛИНОВСКИЙ
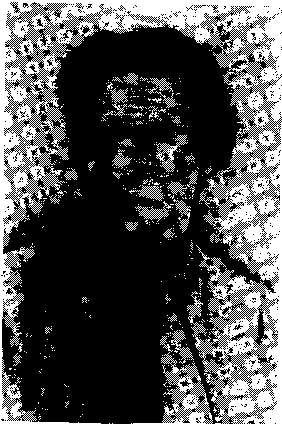
Константин Семенович Калиновскии (1838—1864) — выдающийся белорусский революционер-демократ. В 1860 г окончил Петербургский университет со степенью кандидата прав В Петербурге вел активную революционную деятельность. Его мировоззрение формировалось под идейным влиянием -русских революционеров - демократов. В начале 1861 г. К. С. Ка-линовский возвратился в Белоруссию и стал революционером - профессионалом. Вместе с революционерами-демократами Валерием Вруб-левским, Сигизмундом Сера-ковским, Антоном Мицкевичем и многими другими соратниками он готовил восстание в Северо-Западном крае. В начале восстания 1863 г. Кали-новский был военным комиссаром Гродненской губернии, затем — руководителем восстания в Белоруссии, за что был повешен.
К. Калиновский был автором, большинства статей и редактором других выступлений белорусской революционно-демократической газеты «Мужицкая правда», издававшейся в 1862—1863 гг. К. Калиновский был атеистом. Он критиковал религиозную выдумку о том, что бог создал человека и дал всем людям одинаковую душу. Если он говорил о боге, то только из-за тактических соображений. Мужицкую правду мыслитель ставил выше бога. Не молитвами, а революционными действиями, т. е. материальной
524
силой, призывал Куликовский изменить тогдашний самодержавно-крепостнический строй, заменить его демократической республикой с ее «сходками людей выборных». Мыслитель пропагандировал необходимость революционного переворота. Его революционный демократизм и утопический социализм сливались в одно целое. Он считал, что уничтожение самодержавия и крепостничества приведет ко всеобщему счастью народа.
Все свои упования в борьбе с царизмом Калиновский возлагал на крестьянское движение.
Находясь в тюрьме, Калиновский в своем объяснении следственной комиссии пытается, хотя и в завуалированной форме, отстоять мысль, что русский и белорусский народы — братья, и выражает сожаление, что политика национального угнетения царизма натравляет их друг на друга.
Подборка текстов осуществлена автором данной вступительной статьи И. Н. Лущицким по изданиям, хранящимся в архивах: 1) «Мужицкая правда», 1862, № 1; 2) «Мужицкая правда», 1862, № 2; 3) «Мужицкая правда», 1862, № 3. Перевод с белорусского языка для данного издания осуществлен В. М. Пузиковым.
[КРИТИКА РЕФОРМЫ 1861 г.]
Хлопцы!
Уже ушло в прошлое, когда казалось, что мужицкая рука способна только к сохе. Наступило такое время, когда мы сами можем писать, и писать такую справедливую правду, как бог на небе. О, загремит наша правда и как молния пролетит по свету! Пусть узнают, что мы можем не только кормить своим хлебом, но еще и учить своей мужицкой правде...
Прошло уже шесть лет, как начали говорить о мужицкой свободе. Говорили, толковали и много писали, но ничего не сделали. А тот манифест, который царь с сенатом и с панами написал для нас, такой дурной, что черт знает на что он подобен. Никакой в нем нет правды, нет от него для нас никакой пользы. Понаделали канцелярий, создали суд, как будто не все равно пороть [...], с судом или без суда. Понаделали писарей, посредников, а все за мужицкие деньги, и большие деньги, черт знает для чего; разве для того чтобы записывали в книжки, когда много распишут на [...] мужицких. А из всего этого и видно, что нам ничего хорошего сделать и не думали. Правда, когда-то обещали нам дать вольность, но, как нам кажется, на наш мужицкий разум, хотят нас обмануть, ибо если за шесть лет ничего не сделали, то через год определенно не сделают. Могут еще написать и другой
525
манифест, еще больше этого, но и от него, как и от первого, ничего хорошего не будет.
От царя и панов нечего ожидать, ибо они хотят не вольности нашей, а глумления и живодерства; но недолго они будут живодерствовать, ибо мы познали, где сила и аравда, и будем знать, как нужно делать, чтобы добыть землю и свободу. Возьмемся, хлопцы, за руки и будем держаться вместе! А если паны хотят держаться с нами, то пусть же делают по святой справедливости; а если иначе - так черт их побери! Мужик, пока сможет держать косу и топор, свое защищать сумеет и просить ласки ни у кого не будет (1).
[БОРЬБА ЗА ЗЕМЛЮ И ВОЛЮ]
Так из этого письма и видно, что мужики панские и казенные не должны платить ни чинша панам, ни оброка в казну за землю, ибо эта земля нам принадлежит· но когда будет война [...] за нашу вольность, то тотчас же нужно всем идти на войну [...]. А это для того, чтобы быстрее прогнать царя с его собачьим порядком и чтобы мужики никогда, никому, никакой барщины не отбывали и никакого оброка в казну не платили, и чтобы на веки веков народ наш был вольный и счастливый. А если вас кто будет подговаривать делать иначе: исправник, окружной, асессор или пан, то вы их не слушайте, ибо это явный обман со стороны того, кто за царские или панские деньги хочет вашей вечной гибели! (2)
[ЧТО ТАКОЕ СВОБОДА? ПРИЗЫВ К БОРЬБЕ ЗА НЕЕ]
Мы сегодня все уже знаем, что человек вольный тогда когда имеет кусок своей земли, за которую ни чинша ни оброка не платит, ни барщины не отбывает; когда платит малые подати, и то не на царские конюшни, псарни [...J, а на нужды всего народа; когда не идет в рекруты черт знает куда, а идет защищать свой край только тогда когда какой-нибудь неприятель подойдет; когда делает все, что нравится и что не обижает ближнего и хвалы божьей, когда исповедует ту веру, которую исповедовали его отцы, деды и прадеды. Вот что означает вольность! Сегодня царское правительство уже не затуманит нас, ибо
526
мы теперь не такие дурные, как были раньше, и познали, что нам не царские манифесты, а вольность нужна [...].
Поэтому, хлопцы, чтобы никто вас не мог обмануть, уже теперь обсуждайте между собой, какая вам нужна вольность, а также каким способом мужик может ее добыть. Только, хлопцы, смело, ибо с нами бог и правда, а если мы с богом, то с нами воевать трудно, ибо божья сила велика и народу много.
Итак, из этого письма видно: что нечего и не от кого ждать, ибо только тот жнет, кто посеет. Так сейте же, хлопцы, как придет пора, полною рукою, не жалейте труда, чтобы и мужик был человеком вольным, как есть во всем мире. Бог нам поможет!!! (3)
БОГУШЕВИЧ
Франциск Казимировиц Богушевич (1840—1900) — белорусский поэт-мыслитель. Происходил из мелкопоместной шляхты. Принимал участие в восстании 1863 г. в Белоруссии и Литве.
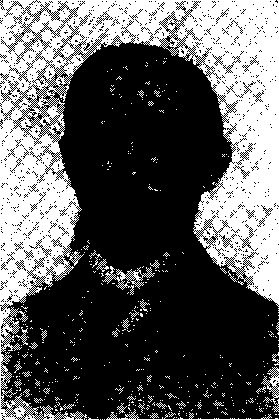
Творческая деятельность поэта развернулась в последней четверти XIX в. Он рассматривал философские вопросы с точки зрения их значения для общественной жизни..
Ф. К. Богушевич признавал, что окружающий нас мир существует независимо от нас, существовал до нас и будет существовать после нас.
Как атеист, он считал бога выдумкой власть имущих для духовного угнетения народа. Богушевич критиковал религиозную мораль с ее упованиями на бога. В противоположность ей он пропагандировал борьбу за коренное улучшение жизни на земле, отрицал существование вечных и неизменных нравственных принципов, поэтизировал труд и ненавидел эксплуататоров.
В эстетических взглядах Богушевич придерживался революционно-демократических принципов реализма, идейности и народности искусства и литературы.
527
Богушевич боролся за национальную свободу и право каждого народа самому определять свою судьбу, отмечал, что белорусская нация, несмотря на многовековой национальный гнет, сохранила свой язык, культуру и отдельную территорию. Он призывал не забывать родного белорусского языка, чтобы избежать денационализации и развить белорусскую национальную культуру.
Подборку фрагментов us произведений Богушевича осуществил автор данной вступительной статьи И. П. Лущицкий по изданию: Ф. Богушевич. Стихи. М., 1965.
БОГ НЕ ПОРОВНУ ДЕЛИТ
Бог сиротину любит, да доли не дает. Народная поговорка
Почему на свете белом Не по правде делит бог? Этот — жирный да дебелый, Раззолоченный до ног, А другой, едва прикрытый, И онуче был бы рад; Свитка светится, что сито, Всюду дыры меж заплат.
Тот — домов настроил много, Да каких, — что твой костел! Поселить бы там хоть бога, Так и бог бы не ушел. А другой — в хлеву ютится, Ветер ходит, дым и снег, Тут и телка, тут и птица, Тут и мука, тут и грех.
Этот — странствует в вагоне, Вымыт, вылощен, прикрыт, Мчится — ветер не догонит, Сам же спит себе да спит. Тот — в морозы да в метели. Что всю кровь застудят в лед, По сугробам еле-еле С узелком своим ползет.
Этот — хлеба и не знает,
Только мясо да пирог,
И собакам он кидает
Все, что сам доесть не мог.
У другого ж — хлеб с мякинкой,
В миске — квас да лебеда,
Пища — сообща со свинкой,
Пополам с конем — вода.
На того — в сплошные будни Спину гнут десятки слуг; Жир его трясется студнем, И подушки — вместо рук.
528
А вот этот — для десятка Дармоедов льет свой пот. Весь он высох, как облатка, Руки тонки, впал живот.
(стр. 28—30)
ПРАВДА
Ой, горько мне, тяжко! Тяжка не сермяжка, А лютая доля, Все боле и боле.
Ох, тяжкая доля! Уж лучше б, казалось,
Вот взял провалился, слезами залился!
Как жить, если столько мне горя досталось!
Ой, боже мой, боже, зачем я родился?!
Уж лучше б не знать языка мне родного,
Когда я не смею сказать того слова,
Которое б люди, услышав, узнали,
Узнали да правдой заветной назвали;
Чтоб всюду то слово гуляло по свету,
Как солнца лучи в пору красного лета;
Чтоб взоры людей от него просветлели,
Как лица детей на пасхальной неделе;
Чтоб крепко людей это слово спаяло,
Чтоб недругов больше на свете не стало,
Чтоб люди раскрыли друг другу объятья,
Чтоб долей и хлебом делились, как братья.
Вез этого слова немой я калека!
Уж лучше молчать до скончания века!
Зачем же мне очи, что толку в них, ясных?
Чтоб видеть, что я из несчастных несчастный?
Чтоб душу терзала тяжелая доля,
Чтоб сердце рвалось и сжималось от боли?
Чтоб было чем плакать и днем и средь ночи?!
Ой, боже мой, боже, возьми мои очи!
А уфк зачем мне, коль слышать не могут
Ни добрых людей, ни всевышнего бога?
Затем ли, чтоб слушать мне ругань людскую
Да ту самогудку, что плачет, тоскуя,
Жалейку, что, как не бодрись ты, играя,
А все в ней печаль без конца и без края?
Затем ли, чтоб слушать лишь горькие стоны
Бездомных и беглых кандальные звоны?
Господь, не глумись надо мной и над ними.
Ты сделай нас всех, будто камень, глухими!
Покуда нет правды — все думы немилы,
А жить без нее нет охоты и силы!
Просил я у бога: «Отверни ты, боже,
Нашу долю злую на сухие пущи,
Отверни на камень иль на бездорожье,
На глухие топи, на песок сыпучий,
Чтоб не знать, не ведать в жизни человеку
Этой доли нашей до скончанья века!»
529
Не слыхал он стона, не увидел муки.
Крест мне въелся в плечи, а оковы — в руки!
Я просил соседей со мной поделиться, —
Крест помочь нести мне, как «с богом не биться»?
Засмеяли люди меня, как шального,
И к тебе, мой боже, спровадили снова;
Там, сказали, правда, а здесь только сила!
Дескать, правда раньше по свету ходила,
Дескать, правда раньше тут скиталась нищей,
Давно ее люди свезли на кладбище,
Камнем завалили, землю запахали,
Чтоб о ней на свете слыхом не слыхали.
Говорят недаром: «Правда в небе где-то,
Нынче ж ходит кривда по белому свету».
Вороти ж ты, боже, правду ту святую
На землю, слезами щедро залитую!
Посылал ты сына, его не узнали, ·
Мучили за правду, смертью покарали;
Пошли ж теперь духа, да пошли без тела,
Чтоб одну лишь правду вся земля имела!
(стр. 36—39)
ГУРИНОВИЧ
Адам Каликстович Гуринович (1869—1894) — известный белорусский революционер-демократ, поэт. Ему с полным основанием приписывается издание и соавторства беседы «Дядька Антон» — выдающегося произведения белорусской публицистики XIX в. Нами установлено, что в основе этой беседы лежит творческая переработка русского сочинения «Хитрая механика». А. К. Гуринович родился в фольварке Ковали Виленского уезда β семье обедневшего мелкопоместного дворянина, учился в Петербургском технологическом институте, активно участвовал в революционном студенческом кружке, созданном в 1889 г. Одно время он был даже председателем кружка и поддерживал связь с Г. В. иехановым и его группой «Освобождение труда». Кружок вел революционную пропаганду среди рабочих и студентов, изучал и распространял революционно-демократическую и марксистскую литературу. Гуринович создал ряд подлинно реалистических, высоко идейных и глубоко народных произведений. На его мировоззрение оказала определенное влияние идеология пролетариата.— марксизм. Это же чувствуется и в беседе «Дядька Антон». Новое по сравнению с предшествующим состоит в том, что здесь всесторонней критике подвергаются капитализм и его законы общественно-экономического развития. В беседе вскрывается классовое расслоение крестьянства и эксплуататорская сущность кулачества.
В ней справедливо утверждается, что новое общество не возникнет стихийно, а его нужно завоевать при помощи революции; признается, что народные массы — производительная сила, создатели всех материальных и духовных ценностей.
Под идейным влиянием рабочего движения и марксистских идей в «Дядьке Антоне» впервые в белорусской публицистике
S30
освещается вопрос об общности интересов рабочих и крестьян в борьбе с их общими врагами. Знаменательно признание того, что рабочие являются наиболее сознательной частью трудящихся, оказывающей большое идейное влияние на воззрения крестьян. Бесспорной заслугой беседы является то, что в ней весьма удачно сформулирована задача объединения усилий трудящихся всех народов России в революционной борьбе с царизмом и эксплуататорами за установление нового общественного и государственного строя.
Подборка фрагментов из беседы «Дядька Антон» и их перевод для настоящего издания с белорусского языка осуществлены автором данного вступительного текста И. Н. Лущицким по изданию: «Беларуская лгтаратура XIX стагоддзя». Мтск, 1950.
ДЯДЬКА АНТОН
Заглянет солнце и в наше оконце.
Ой, эти богачи, богачи! Имеют ли они совесть? Спроси любого из них, что он делает? Видел ли из вас кто-нибудь, чтобы пан хотя бы один участок себе вспахал? Видели ли, чтобы какой-нибудь купец сам на верстаке хотя бы с локоть полотна выткал?
Все сделано нашими мужицкими руками. Мы для царя, для его чиновников, для панов большие дома воздвигли. Для купца мы фабрику построили и сами на этой фабрике работаем. Мы пану землю вспашем, посеем, смолотим, на машину свезем, а пан только деньги возьмет. А налоги, на которые живет царь со всеми своими дармоедами, дерут с нас.
Всё мы! На нас свет держится, мы всех кормим, поим, одеваем, все живут за счет нашего труда. Все наш пот и кровь сосут, мы же от этого в беде, в холоде, в голоде, еле-еле картошкой с семьей выжить в состоянии!
А паны и купцы что делают? Ходят себе возле работы и кричат на мужика, пусть он хоть сдохнет, лишь бы больше сделал. [...]
Взять хотя бы ксендза: получает он такое жалованье, на которое сам мог бы прожить неплохо, да еще и бедным помочь. Но что же! Каждый ксендз так скуп, так жаден, что только и смотрит, с кого бы рубль в карман потянуть, и дерет с бедных мужиков сколько может. Свадьба ли, похороны или крестины — за все мужик должен заплатить, и немало. Как сапожник сапоги шьет, так и он молится за деньги. Хотя бы был приветлив и добро-
531
желателен! Где там! Кто сильнейший, кто богатейший, с тем он и дружит, того и держится. Сколько раз ксендз говорит нам с амвона что паны — наши благодетели, что надо слушать царя, его чиновников. А почему они так говорят? Потому, братцы, что они сами панам и царю служат, ибо паны и царь приказывают ксендзам, чтобы нас в темноте и послушании держали. Ксендз сам весьма боится, чтобы мужик не поумнел, ибо тогда мужик не дал бы грабить себя ксендзам. [...]
Правда, плохо нам было, очень плохо при крепостничестве, и пускай бог оберегает и спасает, чтоб когда-нибудь это время снова вернулось, но и теперь ненамного лучше. Дали нам /вольность, дали — правда! Но эта вольность не много лучше, чем та давняя крепостная неволя! Но покажите, кто от этой вольности так уж сильно разбогател или какой большой господин обеднел?
Нечего говорить, сегодня лучше, чем было раньше: к примеру, не бьют человека, не обходятся с тобой, как с какой-нибудь скотиной, как это раньше было, человеку теперь как-то вольнее, но что от этой вольности, если земли мало, горе в избе, налоги заплатить надо и если раньше эконом гнал плеткой мужика на господскую работу, так сегодня горе гонит до того же пана на работу за цену, которую он сам заплатить захочет. Правда, пан скажет: вольно тебе, брат, не идти на работу, никто тебе за это и словца не скажет, но от этой вольности мужик с голоду умереть может и сам, и жена, и дети, и никто ему ни кусочка хлеба не даст; а податей не заплатишь, то и имущество продадут. [...]
Ой, был я там, [на фабриках], и видел много людей, которые на фабриках работают, — бедные это люди! Но как разговоришься с кем-нибудь из них о нашей нужде, да начнет он толковать, как это мужик с мастеровым сбросят когда-то с себя неволю эту, то даже на душе как-то становится веселее. Они первые научили меня понимать, что человек рабочий на фабрике и мужик рабочий на земле — это одно единое, что они должны держаться громадой, вместе, сообща держаться, ибо одинаково тяжело работают, горюют, одинаково всех их и казна, и царь, и паны, и ксендзы обдирают...
Бывал я не только везде в нашей стране, но лет двенадцать тому назад был я далеко-далеко, в России, в самой московской земле. Насмотрелся я и на их жизнь:
532
ничем она не лучше нашей! Так же и русский мужик живет не под другим царем, а под тем самым, что и мы. и так же, как нас, дерет и душит изо всей силы, до последней копейки, так же обдирает он и своих, так же у них мужик с нужды и с голода умирает на богатых господских нивах, так же и на купеческих фабриках, и даже хуже еще. И у них не один мужик от кнута богу душу отдал, ибо у них такой порядок, что если кто не имеет чем царского налога заплатить и уже нельзя из него этих денег выжать, то бьют за это. Вот как живет русский мужик!..
И теперь в России очень много таких мужиков и мастеровых, и рабочих с разных фабрик, которые хотят сбросить с себя этот царский хомут. Чиновники очень их ищут, царь их вешает, ссылает в Сибирь, держит в тюрьмах, а они из года в год сильнее становятся, как на дрожжах растут, а если одного повесят, на его место появляются десять новых...
И солдаты также в разных местах начинают бунтовать. Много их уже царь повесил, порасстреливал, много в тюрьмах гниет за то, что не хотят царя и его офицеров слушать. Они бунтуют вместе с мужиками и с фабричными людьми, чтобы добиться для всех лучшей доли. Так, братцы! Очень поумнели русские мужики, жаль только, что у нас еще никто не знает, как они у себя там с казной и с панами воюют и чего мужик имеет право хотеть. Они хорошо знают, что, пока царь с панами и исправниками и всеми своими слугами будет господствовать над народом и выжимать из него последние соки, как из конопляного жмыха, до тех пор мужики не узнают лучшей жизни, не узнают доли; и хотят они выгнать всех панов, выгнать всех чиновников и всяких живодеров, которые под царским плотом сидят, ничего не делают, с кривды людской счастливо и весело живут себе. А если не будет этих всех пиявок, не будут платить мужики таких больших налогов, не будут детей в солдаты отдавать, чтобы над ними всякие собаки издевались, будут своим умом руководствоваться, будут хозяйничать так, чтобы всем хорошо было, заберут царскую и панскую землю, лес и сенокос, ибо должна же земля тому принадлежать, кто ее пашет. Вот тогда будет настоящая вольность, настоящая свобода! Поймите, братцы, что те люди, которые
633
теперь на виселицах гибнут, гниют по царским острогам, это настоящие святые, они ничего не боятся, отдают свою жизнь, чтобы как можно быстрее для бедных мужиков хорошую долю дать и всех наших врагов выгнать (стр. 52-71).
