Философское Наследие антология мировой философии в четырех томах том 4
| Вид материала | Документы |
- Антология мировой философии в четырех томах том, 13429.06kb.
- Антология мировой философии: Античность, 10550.63kb.
- Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах:, 241.84kb.
- Книга первая (А), 8161.89kb.
- Аристотель. Сочинения в 4 томах. Т м.: Мысль, 1978. 687с. (Философское наследие)., 712.08kb.
- Собрание сочинений в четырех томах ~Том Стихотворения. Рассказы, 42.25kb.
- Собрание сочинений в четырех томах. Том М., Правда, 1981 г. Ocr бычков, 4951.49kb.
- Книга вторая, 1589.39kb.
- Джордж Гордон Байрон. Корсар, 677.55kb.
- Антология мировой детской литературы., 509.42kb.
С падением философии логика сделалась излишним бременем; умение связывать свои понятия отошло к области предрассудков (1, стр. XI).
Закон причинности, так же как законы тождества и противоречия, не что иное, как известный способ действия разума, познающего предметы. Поэтому он предшествует познанию, а не извлекается из него; он составляет прирожденное свойство разума, а не приобретенное. Поэтому он распространяется на все явления без исключения, не только на те, которые познаются, но и на те, которые могут и даже которые не могут быть предметом познания (1, стр. 28).
[...] Действуя сознательно, разум непосредственно создает и те логические законы, которыми он руководятся. Результат этого сознания, сведенный в общую систему, дает формальную логику, которая составляет, таким образом, чисто умозрительную науку. Опытная же логика представляет приложение формальной логики к данному материалу. [...] Выводить логику из опыта — значит утверждать, что познающий разум не имеет своих собственных законов, что он все получает извне, а сам не что иное, как пустая коробка, в которой случайно встречающиеся впечатления связываются более или менее прочным образом в силу привычки (1, стр. 39).
Что математика представляет в области количества, то диалектика дает в области качества. Обе составляют расширение логики. Диалектика не исследует бесконечного разнообразия реальных качеств: это дело наведения. Но она выводит общие качественные начала, которыми связывается все это разнообразие. Посредством этих начал все человеческое знание сводится к единству. Поэтому диалектика составляет верховную философскую науку, связывающую и объясняющую все остальные.
[...] Совокупность наших понятий составляет, таким образом, лестницу родов и видов, которая снизу примыкает к бесконечному разнообразию открываемых нам опытом предметов, а кверху завершается чисто логическими определениями или категориями.
[...] Бытие и небытие, тождество и различие, количество и качество, общее и частное, материя и форма — все это логические определения, посредством которых разум связывает данный ему опытом материал (1, стр. 58—60).
Понимание религии как низшей ступени философского сознания имеет за себя авторитет такого великого мыслителя, как Гегель; но собственная диалектика Гегеля обнаруживает несостоятельность этого взгляда. Философия относится к религии, как чистая мысль к живому единению, то есть как отвлеченно-общее начало к конкретному единству. Последнее в силу диалектического закона, с одной стороны, предшествует отвлечению, но, с другой стороны, оно следует за отвлечением. В отношении к первоначальному единству, отвлеченное познание будет отчасти составлять высшую ступень развития; но это ступень односторонняя, на которой нельзя остановиться: отвлеченно-общее начало все-таки должно снова возвратиться к конкретному единству [...]. Гегель, как мы видели выше, начал с отвлеченно-общего начала, с чистой логики, а потому должен был кончить тем же: в этом состоит са-
486
мая существенная его ошибка. Но по внутреннему смыслу его системы конкретное должно быть поставлено выше абстрактного, следовательно, религия выше философии, а не наоборот (1, стр. 226).
Диалектическое здание, возведенное Гегелем, далеко, однако, не может считаться последним словом науки. Оно во многом требует исправления. Исключительность гегелевского идеализма отразилась и на нем. Она повела к неверному пониманию самого закона развития, а вследствие того к неправильному во многих отношениях построению системы. Из сказанного нами ясно, что закон диалектического развития влечет за собой установление четырех определений в трех ступенях. Первую ступень составляет первоначальное единство, вторую — две противоположности, третью — единство конечное (2, ч. IV, стр. 576).
Мир чувств есть внутренний мир души; теоретические идеи составляют область разума; покорение природы, или система экономических отношений, соответствует влечениям; наконец, нравственный мир образует область воли. Последний, очевидно, должен занимать высшее место в развитии духа, ибо он представляет живое или конкретное сочетание противоположностей, разума и природы, общего и частного, бесконечного и конечного. Между тем у Гегеля о покорении природы нет речи; экономические отношения составляют, как увидим далее, только подчиненный момент юридического общества (2, ч. IV, стр. 579).
Логика есть первая и основная наука, дающая закон всем остальным. И эта наука может быть исследована совершенно точным и достоверным образом, ибо предмет ее дается непосредственным самосознанием мысли, которая, познавая вещи, сознает при этом свои способы действия и свои пути (4, стр. 3).
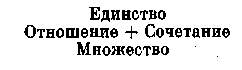
Задача исследователя состоит прежде всего в разложении фактического материала на составные элементы, а затем в указании их логического отношения, чем определяются способы их сочетания. А так как составные элементы каждого конкретного явления суть, с одной стороны, многообразие признаков, а с другой — соединяющая их связь, то этим оно подводится под указанную [...] логическую схему, представляющую две перекрещивающиеся противоположности и выражаемую формулой:
(4, стр. 15)
[...] Способы действия разума при восприятии и обработке объективного содержания суть соединение и разделение. Следовательно, законы разума суть законы соединения и разделения (4, стр. 146).
Как доказано выше, чистое тождество, без всякого определения, есть тождество нуля: не будучи отрицанием другого, оно становится отрицанием самого себя. Положение и отрицание являются здесь в одном и том же отношении, что и есть выражение противоречия. [...]
На этом внутреннем противоречии односторонних логических начал и на вытекающей отсюда необходимости логического движения основана вся диалектика (4, стр. 153).
УКРАИНА
ШЕВЧЕНКО
Тарас Григорьевич Шевченко (1814—1861) — великий украинский народный поэт, мыслитель, революционный демократ. Родился β семье крепостного крестьянина. В 1838 г. был выкуплен из кре-,
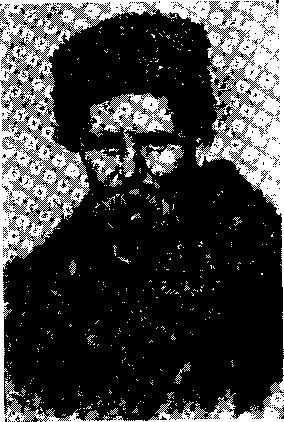
постной неволи благодаря усилиям видных деятелей русской и украинской культуры. С1838 по 1844 г. Т. Г. Шевченко обучался в Петербургской академии художеств. После завершения обучения он выехал на Украину, где работал в Киевской археографической комиссии. В 1847 г. за участие в деятельности Кирилло-Мефо-диевского братства — тайной политической организации, левое революционное крыло которой он возглавлял, — был арестован и сослан в солдаты в Оренбургский отдельный корпус. На приговоре, вынесенном Т. Г. Шевченко, Николай I написал: «Под строжайший надзор с запрещением писать и рисовать». В ссылке Т. Г. Шевченко находился 10 лет. После возвращения ив ссылки он тесно сближается с представителями русской революционной демократии, польскими революционными деятелями, активно включается в общественно-политическую жизнь.
Мировоззрение Т. Г. Шевченко формируется в период кризиса феодально-крепостнической системы в России, под влиянием общероссийского антифеодального движения, борьбы украинского народа за свое социальное и национальное освобождение. Основопо-
488
ложник революционно-демократического направления в обществен-но-полит.ической мысли на Украине, Т. Г. Шевченко в своем творчестве отразил интересы крепостного крестьянства. Наследие Т. Г. Шевченко содержит глубокие философско-социологические идеи относительно закономерностей общественного развития. Он первым в украинской общественной мысли обосновывает неизбежность крестьянской революции как средства ликвидации крепостничества и царизма, выступает поборником дружбы народов. Творчество Т. Г. Шевченко несет в себе глубокие философские размышления о проблемах сущности человека, человеческого счастья и свободы. Анализ философского содержания идей Т. Г. Шевченко позволяет говорить о материализме и элементах диалектики, присущих его взгляду на мир. Достаточный материал для характеристики философско-социологических воззрений Т. Г. Шевченко дает знакомство с его литературными произведениями, эпистолярным наследием, а также «Журналом» («Дневником»), который он вел в 1857—1858 гг. Идейное наследие Т. Г. Шевченко высоко оценивали классики марксизма-ленинизма. С жизнью и творчеством Т. Г. Шевченко был знаком К. Маркс. В 1914 г. В. И. Ленин выступил с протестом против запрещения царским правительством чествования 100-летия со дня рождения Т. Г. Шевченко. Марксистская критика в лице Г. Плеханова, А. Горького, А. Луначарского, В. Воровского и других дала высокую оценку роли творчества Т. Г. Шевченко в развитии передовой общественной мысли, показала мировое значение Т. Г. Шевченко.
Подборка фрагментов для настоящего издания выполнена автором данного вступительного текста В. С. Горским по изданию: Т. Г. Шевченко. Собрание сочинений в пяти томах. М., 1948—1949.
ГАЙДАМАКИ
Все идет, проходит — без меры, без края... Куда исчезает? Откуда пришло? Ни глупый, ни умный об этом не знает. Живет... умирает... Одно расцвело, Другое завяло, навеки завяло... Лишь ветер играет сухою листвой. [...] Как синее небо — без меры, без края, — Так душа рожденья и смерти не знает. А где исчезает? Пустые слова! Так пусть поминают ее на сем свете, — Бесславному горько сей свет покидать. Дивчата, прошу вас ее поминать! Она вас любила, ласкала, приветя, Любила о вашей судьбе напевать. Пока солнце встанет — почивайте, дети! А я атамана буду вам искать
(I, стр. 116—117). СОН
Бога в мире нету! А вы в ярме падаете, Ждете, умоляя, Рая где-то там за гробом?
489
Нету, нету рая!
Зря и трудитесь! Очнитесь:
Все на этом свете —
В нищих хатах и в палатах
Адамовы дети
(I, стр. 228). [...] Доброго не жди, — Напрасно воли поджидаем, — Придавленная Николаем, Заснула. Чтобы разбудить Беднягу, надо поскорее Обух всем миром закалить Да наточить топор острее И вот тогда уже будить. А то, пожалуй, так случится — До страшного суда заспится, — Паны помогут крепко спать: Все будут храмы воздвигать, Да пьяного царя родного, Да византийство прославлять, И не дождемся мы другого
(II, стр. 294). И Архимед, и Галилей Вина не видели. Елей Достался пресвятым монахам! А вы по всей земле без страха, Предтечи светлые, прошли И хлеб насущный понесли Царям убогим. Будет бито Царями сеянное жито. А люди вырастут. Умрут Цари и те, что не зачаты... И на воспрянувшей земле Врага не будет, супостата, А будут сын и мать, и свято Жить будут люди на земле
(II, стр. 353). И день идет, и ночь идет. За голову схватившись в муке, Все думаешь: когда ж придет Апостол правды и науки!
(II, стр. 367)
ДНЕВНИК
1857 г.
10 [июля]
[...] В таком скверном настроении унывающей души вспомнил я про «Umnictwo piejkne» Либельта, принялся жевать: жестко, кисло, приторно, — настоящий немецкий
490
суп-вассер. Как, например, человек, так важно трактующий о вдохновении, простосердечно верит, что будто бы Иосиф Вернет велел себя во время бури привязывать на марсах к мачте для получения вдохновения. Какое мужицкое понятие об этом неизреченно божественном чувстве! И этому верит человек, пишущий эстетику, трактующий об идеальном, возвышенно-прекрасном в духовной природе человека. Нет, и эстетика сегодня мне не далась. Либельт, он только пишет по-польски, а чувствует (в чем я сомневаюсь) и думает по-немецки, Или, по крайней мере, пропитан немецким идеализмом. (Бывшим, — не знаю, как теперь?) Он смахивает на нашего В. А. Жуковского в прозе. Он так же верит в безжизненную прелесть немецкого тощего, длинного идеала, как и покойный В. А. Жуковский (V, стр. 98).
11 [июля]
[...] Сегодня и Либельт мне показался умеренным идеалистом и более похожим на человека с телом, нежели на бесплотного немца. В одном месте он (разумеется, осторожно) доказывает, что воля и сила духа не может проявиться без материи. Либельт решительно похорошел в моих глазах, но он все-таки школяр. Он пренаивно доказывает присутствие всемогущего творца вселенной во всем видимом и невидимом нами мире и так хлопочет об этой старой, как свет, истине, как будто бы это его собственное открытие (V, стр. 101).
12 [июля]
[Либельт], например, человека-творца в деле изящных искусств вообще, в том числе и в живописи, ставит выше натуры, потому, дескать, что природа действует в указанных ей неизменных пределах, а человек-творец ничем не ограничен в своем создании. Так ли это? Мне кажется, что свободный художник настолько же ограничен окружающею его природой, насколько природа ограничена своими вечными, неизменными законами. А попробуй этот свободный творец на волос отступить от вечной красавицы-природы, он делается богоотступником, нравственным уродом, подобным Корнелиусу и Бруни. Я не говорю о дагерротипном подражании природе: тогда бы не было искусства, не
491
было бы творчества, не было бы истинных художников, а были бы только портретисты вроде Зарянка (V, стр. 104).
27 [августа]
[...] Великий Фультон! И великий Уатт! Ваше молодое, не по дням, а по часам растущее дитя в скором времени пожрет кнуты, престолы и короны, а дипломатами и помещиками только закусит, побалуется, как школьник леденцом. То, что начали во Франции энциклопедисты, то довершит на всей нашей планете ваше колоссальное гениальное дитя. Мое пророчество несомненно (V, стр. 149).
3 [ноября]
[...] У него же, у Гранда, и в первый же раз увидел я «Полярную Звезду» Искандера за 1856 год, второй том. Обертка, т. е. портреты первых наших апостолов-мучеников, меня так тяжело, грустно поразили, что я до сих пор еще не могу отдохнуть от этого мрачного впечатления. Как бы хорошо было; если бы выбить медаль в память этого гнусного события. С одной стороны — портреты этих великомучеников с надписью «Первые русские благове-стители свободы», а на другой стороне медали — портрет неудобозабываемого Тормоза с надписью «Не первый русский коронованный палач» (V, стр. 198).
7 [ноября]
На днях как-то проходил я через кремль и видел большую толпу мужиков с открытыми головами перед губернаторским дворцом. Явление это показалось мне чем-то необыкновенным, и до сегодняшнего дня я не мог узнать его содержания, а сегодня Овсянников рассказал мне, в чем было дело.
Крестьяне помещика Демидова, того самого мерзавца Демидова, которого я знал в Гатчине кирасирским юнкером в 1837 году и который тогда не заплатил мне деньги за портрет своей невесты, теперь он, промотавшийся до снаги, живет в своей деревне и грабит крестьян. Кроткие мужички, вместо того чтобы просто повесить своего грабителя, пришли к губернатору просить управы, а губерна-
492
тор, не будучи дурак, велел их посечь за то, чтобы искали управы по начальству, т. е. начинали с станового. Интересно знать, что дальше будет (V, стр. 200—201).
ПОДОЛИНСКИЙ
Сергей Андреевич Подолинский (1850—1891) — выдающийся украинский революционер-демократ, ученый, мыслитель.
Еще в студенческие годы, знакомясь и сближаясь с революционной молодежью и прогрессивной интеллигенцией, Подолинский порывает со своей дворянской средой, становясь безвозвратно на путь революционной, деятельности. Увлекаясь прогрессивными и революционными идеями, он уже в начале 70-х годов знакомится с трудами К. Маркса и Ф. Энгельса, сыгравшими выдающуюся роль в формировании его революционного мировоззрения.
Получив широкое образование (в 1871 г. окончил физико-математический факультет Киевского университета, получил звание кандидата наук, а в 1876 г. — медицинский факультет Вроцлав-ского университета, получил звание доктора наук), Подолинский основательно изучает политическую экономию, историю, философию, социологию, этнографию и другие науки. Он глубоко знакомится с общественно-политическим и социалистическим движением в Западной Европе, принимает активное участие в подготовке лавровского журнала «Вперед!», в революционной деятельности «цюрихской колонии» русской и украинской молодежи; а отойдя от активного участия в издании «Вперед!» (1874 г.), играет выдающуюся роль в организации украинского издательства революционной литературы «Нелегалъних метеликгв», а также прогрессивного журнала «Громада», ставшего впоследствии (в 1880— 1881 гг.) под его влиянием революционно-демократическим органом.
Важной страницей в жизни и революционной деятельности Подолинского является его личное знакомство с К. Марксом и Ф. Энгельсом, состоявшееся с помощью П. Л. Лаврова в Лондоне в 1872 г. Подолинский был тесно связан с революционными и прогрессивными деятелями Западной Европы, в частности с французскими, итальянскими, немецкими и другими деятелями рабочего и социалистического движения.
Продолжая революционно-демократические традиции украинских и русских революционеров-демократов 40—60-х годов, С. А. Подолинский в новых исторических и социально-экономических условиях и под влиянием формировавшегося рабочего движения на Украине и в России во многом развил далее революционно-демократическую идеологию, сыграл выдающуюся роль в распространении идей марксизма на Украине в 70-х — начале 80-х годов XIX в.
Перу Подолинского принадлежит ряд ценных работ, во многом основанных на трудах К. Маркса и Ф. Энгельса («Очерк развития Международной Ассоциации Рабочих», «Ремесла l фабрики на Укра1ш» и др.). Особенно обращает на себя внимание работа Подолинского «Труд человека и его отношение к распределению
493
энергии». [...] Φ. Энгельс, отметив некоторые недостатки, вместе с тем указал на очень ценное открытие Подолинского, заключающееся в том, что «человеческий труд в состоянии .удержать на поверхности земли и заставить действовать солнечную анергию более продолжительное время, чем это было бы без него» *.
Фрагменты из работы С. Подолинского «Труд человека и его отношение к распределению энергии» подобраны автором данного вступительного текста А. И. Пашуком по изданию: «Слово». Научный, литературный и политический журнал, 1880, апрель — май.
ТРУД ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭНЕРГИИ
[...] В начале нашей статьи мы уже сказали, что настоящая работа есть не более как введение к более подробному и фактическому рассмотрению поставленных здесь вопросов. Поэтому было бы несправедливо требовать от нас уже теперь окончательных выводов. Тем не менее мы в нескольких возможно коротких положениях желаем представить то направление, в котором, по нашему мнению, должны будут рассматриваться отношения, существующие между трудом человека и распределением энергии на земной поверхности.
1) Общее количество энергии, получаемое поверхностью земли из ее внутренности и от солнца, постепенно уменьшается. В то же время общее количество энергии, накопленное на земной поверхности и находящееся в распоряжении человечества, постепенно увеличивается.
2) Увеличение это происходит под влиянием труда человека и домашних животных. Под именем полезного труда мы понимаем всякое потребление механической и психической работы человека и животных, имеющее результатом увеличение бюджета превратимой энергии на земной поверхности.
3) Человек обладает известным экономическим эквивалентом, который уменьшается по мере того, как потребности человека возрастают.
4) Производительность труда человека увеличивается по мере уменьшения его экономического эквивалента, и с развитием его потребностей большая часть их удовлетворяется трудом.
5) Производительность труда человека значительно увеличивается потреблением этого труда на превращение
* К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 35, стр. 109.
494
низших родов энергии в высшие, напр, воспитанием рабочего скота, устройством машин и пр.
6) Применение солнечной энергии в качестве непосредственного двигателя и приготовление питательных веществ из неорганических материалов являются главными вопросами, стоящими на очереди для продолжения наивыгоднейшего накопления энергии на земле.
7) Пока каждый человек может обладать суммой технической работы, превышающей в столько раз его собственную, во сколько раз знаменатель его экономического эквивалента больше своего числителя, до тех пор существование и размножение людей обеспечено, так как механическая работа всегда в каком-либо отношении может быть выражена в питательных веществах и прочих средствах удовлетворения человеческих потребностей.
8) Границей этому закону является только абсолютное количество энергии, получаемой от солнца, и неорганических материалов, находящихся на земле.
9) Действия, имеющие результатом явления, противоположные труду, представляют расхищение энергии, т. е. увеличение количества энергии, рассеиваемой в пространство.
10) Главной целью человечества при труде должно быть абсолютное увеличение энергийного бюджета, так как при постоянной его величине превращение низшей энергии в высшую скоро достигает предела, далее которого оно не может идти без излишних потерь на рассеяние энергии (стр. 210—211).
ФРАНКО
Иван Яковлевич Франко (1856—1916) — выдающийся украинский писатель, ученый и общественный деятель, революционер-демократ. Родился в семье кузнеца, обучался в дрогобычской гимназии и на философском факультете Львовского, а позднее Черновицкого университетов. В 1893 г. защитил докторскую диссертацию в Венском университете. Наследие И. Франко огромно и разнообразно. Он явился наиболее значительным поэтом-новатором в украинской литературе послешевченковского периода, велик вклад его в развитие филологических наук, этнографии, истории. В художественном творчестве, многочисленных публикациях, посвященных проблемам философии, социологии, зтики, эстетики, атеизма, Франко предстает как оригинальный мыслитель.
Мировоззрение И. Франко формировалось в условиях нарастания освободительного движения трудящихся масс против социалъ-
495
(1, VII, стр. 54-55).
кого и национального гнета. Восприняв лучшие традиции передовой русской и украинской революционно-демократической мысли, И. Франко под влиянием рабочего движения и знакомства с марксизмом развивает дальше революционно-демократические и материалистические традиции Т. Г. Шевченко, Н. Г. Чернышевского
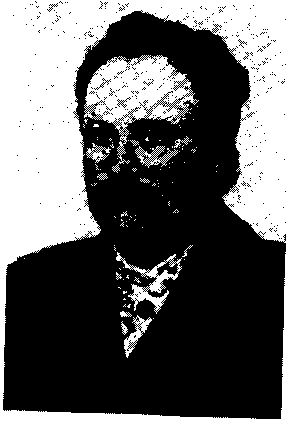
и др. И. Франко изучал и популяризировал произведения К. Маркса и Ф. Энгельса. Ему принадлежит перевод 24-го раздела I тома «Капитала» К. Маркса и раздела ив «Анти-Дюринга» Ф. Энгельса (при жизни И. Франко не удалось осуществить издание этих переводов). Обосновывая идеи материализма и диалектики, И. Франко широко использовал новейшие достижения естественных наук. На этой основе он подвергает критике различные идеалистические, агностические концепции..
Социологическим воззрениям И. Франко присущи значительные элементы материалистического понимания истории. Однако И. Франко не видел глубокого качественного отличия марксистской философии от иных философских, социологических учений.
