Философское Наследие антология мировой философии в четырех томах том 4
| Вид материала | Документы |
- Антология мировой философии в четырех томах том, 13429.06kb.
- Антология мировой философии: Античность, 10550.63kb.
- Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах:, 241.84kb.
- Книга первая (А), 8161.89kb.
- Аристотель. Сочинения в 4 томах. Т м.: Мысль, 1978. 687с. (Философское наследие)., 712.08kb.
- Собрание сочинений в четырех томах ~Том Стихотворения. Рассказы, 42.25kb.
- Собрание сочинений в четырех томах. Том М., Правда, 1981 г. Ocr бычков, 4951.49kb.
- Книга вторая, 1589.39kb.
- Джордж Гордон Байрон. Корсар, 677.55kb.
- Антология мировой детской литературы., 509.42kb.
Петр Алексеевич Кропоткин (1842—1921) — видный представитель анархизма, революционер и демократ, ученый-географ, социолог. Происходил из старинного русского княжеского рода. В 1862 г. окончил Пажеский корпус, в 1867—1868 гг. учился на математическом отделении Петербургского университета. В начале 70-х годов, будучи за границей, сблизился с народ-никами-бакунистами, а в 1873 г. написал программный документ народников-анархистов «Должны ли мы заняться рассмотрением идеала будущего строя?». В 1876 г., после двухлетнего заключения за революционную деятельность, бежал за границу. В эмиграции Кропоткин развернул широкую пропаганду анархистских идей, а после смерти Бакунина (1876 г.) он стал главой меж-
375
дународного анархизма. Кропоткин уделил выработке анархистского идеала общества больше внимания, чем Бакунин. Во взглядах на природу он был материалистом и атеистом.
В 1881 г. французские власти арестовали Кропоткина и 5 лет продержали его в тюрьме. Поселившись в Англии, Кропоткин активно занимается научной деятельностью и публицистикой, а в 90-х годах отходит от революционной деятельности.
Кропоткин вернулся на родину после февральской революции 1917 г., приветствовал провозглашение Советской власти.
К числу наиболее важных произведений п. А. Кропоткина следует отнести: «Записки революционера», «Современная наука и анархия», «Анархия, ее философия, ее идеал», «Взаимная помощь, как фактор эволюции», «Земледелие, промышленность и ремесла», «Великая французская революция», «Речи бунтовщика», «Хлеб и воля», «Взаимная помощь среди животных и людей, как двигатель прогресса» и др.
Тематическая подборка фрагментов из произведений П. А.Кропоткина осуществлена В. В. Богатовым по следующим изданиям П. А. Кропоткина: 1) «Современная наука и анархия». П.— М., 1921; 2) «Земледелие, промышленность и ремесла». М., 1904; 3) «Речи бунтовщика». П.—М., 1921; 4) «Век ожидания». М., 1925;
5) «Взаимная помощь, как фактор эволюции». Харьков, 1919;
6) «Анархия, ее философия, ее идеал». М., 1917; 7) «Коммунизм и анархия». Б. м., 1906.
[СОЦИОЛОГИЯ]
Анархия есть миросозерцание, основанное на механическом понимании явлений [...], охватывающее всю природу, включая сюда и жизнь человеческих обществ. Ее метод исследования — метод естественных наук; этим методом должно быть проверено каждое научное положение. Ее тенденция — основать синтетическую философию, т. е. философию, которая охватывала бы все явления природы, включая сюда и жизнь человеческих обществ, и их экономические, политические и нравственные вопросы (1, стр. 41).
Общественные науки еще очень далеки от того момента, когда они получат ту же степень точности, как физика или химия. И если мы в изучении климата и погоды не достигли еще того, чтобы предсказывать предстоящую погоду за месяц иди даже неделю вперед, то было бы нелепо претендовать, что в общественных науках, имеющих дело с явлениями, гораздо более сложными, чем ветер и дождь, мы могли бы уже предсказывать научно грядущие события (1, стр. 9).
Метод эволюции прилагался, конечно, уже раньше, со времени энциклопедистов, к изучению нравов и учреждений, а также языков. Но получить правильные научные результаты стало возможно лишь после того, как научились смотреть на собранные исторические факты так же, как натуралист смотрит на постепенное развитие органов растения или нового вида (1, стр. 31).
Вместе с этим мы представляем себе строение общества, как нечто, никогда не принимающее окончательной формы, но все-
376
гда полное жизни и потому меняющее свою форму сообразно потребностям каждого момента (1, стр. 103).
Общество, основанное на принципах общего труда, будет настолько богато, что каждый член его — мужчина или женщина,— достигнув известного возраста (скажем, сорока лет), может быть освобожден от нравственного обязательства принимать непосредственное участие в ручном труде и иметь будет возможность посвятить себя всецело излюбленной отрасли науки и искусства. Вследствие этого появятся новые изыскания, новое свободное творчество. В обществе этом не будет нищеты, а будет только общее благосостояние; в нем не будет того раздвоения совести, которое отравляет жизнь и парализует каждое честное стремление, и общество это унесется в высшие сферы прогресса, свойственного человеческой природе (2, стр. 189).
Честные люди всех сословий начинают сами желать бури, чтобы она своим раскаленным дуновением выжгла язвы, разъедающие общество, смела накопившуюся плесень и гнилость, унесла в своем страстном порыве все эти обломки прошлого, давящие общество, лишающие его света и воздуха. Они желают бури, чтобы дать наконец одряхлевшему миру новое дуновение жизни, молодости и честного искания истины (3, стр. 21).
В своей новой работе, которая будет работой созидательной, народные массы должны будут рассчитывать прежде всего на свои собственные силы, на свою собственную инициативу и свой организаторский гений, свою способность проложить новые пути (4, стр. 82).
Все необходимые гарантии для жизни в обществах, все формы общественной жизни в родовом быту, в сельской общине и средневековом городе, все формы отношений между отдельными племенами и позднее между республиками-городами, послужившие впоследствии основанием для международного права, — одним словом, все формы взаимной поддержки и защиты мира, включая сюда суд присяжных, были созданы творческим гением безыменной народной толпы (1, стр. 40).
В истории человечества самоутверждение личности часто представляло, и продолжает представлять, нечто совершенно отличное и нечто более обширное и глубокое, чем та мелочная, неразумная умственная узость, которую большинство писателей выдает за «индивидуализм» и «самоутверждение». Равным образом двигавшие историю личности вовсе не сводились на одних тех, кого историки изображают нам в качестве героев. Вследствие этого я имею в виду, если удастся, подробно разобрать впоследствии роль, которую сыграло самоутверждение личности в прогрессивном развитии человечества (5, стр. 10).
Полное развитие личности и ее личных особенностей может иметь место [...] только тогда, когда первые, главные потребности человека в пище и жилье удовлетворены, когда его борьба за жизнь, против силы природы упростилась, когда его время не поглощено тысячами мелких забот о поддержании своего существования. Тогда только ум, художественный вкус, изобретательность и вообще все способности человека могут развиваться свободно (6, стр. 4ß—47).
Свобода есть возможность действовать, не вводя в обсуждение своих поступков боязни общественного наказания (телесного,
377
или страха голода, или даже боязни порицания, если только оно не исходит от друга) (7, стр. 25).
Государство, в совокупности, есть общество взаимного страхования, заключенного между землевладельцем, воином, судьей и священником, чтобы обеспечить каждому из них власть над народом и эксплуатацию бедноты.
Таково было происхождение государства, такова была его история, и таково его существо еще в наше время (1, стр. 99).
Теперь полнейшее уничтожение государства является в свою очередь исторически необходимым, потому что государство — это отрицание свободы и равенства, потому что оно только портит все, за что принимается, даже тогда, когда хочет провести в жизнь то, что должно служить на пользу всем (1, стр. 76).
[ФИЛОСОФИЯ]
Если мы знаем что-либо о Вселенной, о ее прошлом существовании и о законах ее развития; если мы в состоянии определить отношения, которые существуют, скажем, между расстояниями, отделяющими нас от Млечного Пути и от движений солнц, а также молекул, вибрирующих в этом пространстве; если, одним словом, наука о Вселенной возможна, это значит, что между этой Вселенной и нашим мозгом, нашей нервной системой и нашим организмом вообще существует сходство структуры.
Если бы наш мозг состоял из веществ, существенно отличающихся от тех, которые образуют мир солнц, звезд, растений и других животных; если бы законы молекулярных вибраций и химических преобразований в нашем мозгу и нашем спинном хребте отличались бы от тех законов, которые существуют вне нашей планеты; если бы, наконец, свет, проходя через пространство между звездами и нашим глазом, подчинялся бы во время этого пробега законам, отличным от тех, которые существуют в нашем глазу, в наших зрительных нервах, через которые он проходит, чтобы достичь до нашего мозга, и в нашем мозгу, то никогда мы не могли бы знать ничего верного о Вселенной и законах — о постоянных существующих в ней отношениях; тогда как теперь мы знаем достаточно, чтобы предсказать массу вещей и знать, что сами законы, которые дают нам возможность предсказывать, есть не что иное, как отношения, усвоенные нашим мозгом.
Вот почему не только является противоречием называть непознаваемым то, что известно, но все заставляет нас, наоборот, верить, что в природе нет ничего, что не находит себе эквивалента в нашем мозгу — частичке той же самой природы, состоящей из тех же физических и химических элементов, — ничего, следовательно, что должно навсегда оставаться неизвестным, то есть не может найти своего представления в нашем мозгу (1 стр. 309).
И там, где некоторые ученые, слишком нетерпеливые или находящиеся под слишком сильным влиянием их первоначального воспитания, желали видеть «падение науки», я видел только нормальное явление, хорошо знакомое математикам, — именно явление «первого приближения». [...]
378
Сделав великие открытия о неуничтожаемости материи, единстве физических сил, действующих как в одушевленной, так и в неодушевленной материи, установив изменяемость видов и т. д., науки, изучающие детально последствия этих открытий, ищут в настоящий момент «вторые приближения», которые будут более точно соответствовать реальным явлениям жизни природы.
Воображаемое «падение науки», о котором так много говорят теперь модные философы, есть не что иное, как искание этого «второго» и «третьего приближения», которому наука отдается всегда после каждой эпохи великих открытий (1, стр. 4—5).
Действительно, чтобы сказать, что то, что находится «за пределами» современной науки, непознаваемо, нужно быть уверенным, что оно существенно отличается от того, что мы научились знать до сих пор. Но тогда это уже является громадным знанием об этом неизвестном. Это значит утверждать, что оно отличается настолько от всех механических, химических, умственных и чувственных явлений, о которых мы знаем хоть что-нибудь, что оно никогда не будет подведено ни под одну из этих рубрик (1, стр.308).
Едва только мы начинаем изучать животных — не в одних лишь лабораториях и музеях, но также и в лесу, в лугах, в степях и в горных странах, — как тотчас же мы замечаем, что, хотя между различными видами, и в особенности между различными классами животных, ведется в чрезвычайно обширных размерах борьба и истребление, в то же самое время в таких же или даже в еще больших размерах наблюдается взаимная поддержка, взаимная помощь и взаимная защита среди животных, принадлежащих к одному и тому же виду или по крайней мере к тому же сообществу (5, стр. 16).
Несметное количество самых разнообразных фактов, которые мы прежде объясняли каждый своею причиною, было охвачено Дарвином в одно широкое обобщение. Приспособление живых существ к обитаемой ими среде, их прогрессивное развитие, анатомическое и физиологическое, умственный прогресс и даже нравственное совершенствование — все эти явления стали представляться нам как части одного общего процесса (5, стр. 13).
Спенсер, подобно Гексли и многим другим, понял идею «борьбы за существование» совершенно неправильным образом: он представлял ее себе не только, как борьбу между различными видами животных (волки поедают зайцев, многие птицы питаются насекомыми и так далее), но и как ожесточенную борьбу за средства существования и место на земле внутри каждого вида, между особями одного и того же вида. Между тем подобная борьба не существует, конечно, в тех размерах, в каких воображали ее себе Спенсер и другие дарвинисты (1, стр. 34).
Конт не понял, что нравственное чувство человека зависит от его природы в той же степени, как и его физический организм; что и то, и другое являются наследством от весьма долгого процесса развития эволюции, которая длилась десятки тысяч лет (1, стр. 25).
Когда Герберт Спенсер, в свою очередь, принялся за построение «Синтетической философии» во второй половине девятнадцатого века, он мог бы сделать это, не впадая в ошибки, которые встречаешь в «Позитивной политике» Конта. И однако
379
«Синтетическая философия» Спенсера, представляя собой шаг вперед (в этой философии нет места для религии и религиозных обрядов), содержит еще в своей социологической части столь же крупные ошибки, как и работа Конта (1, стр. 33).
Для современного натуралиста этот «диалектический метод» напоминает что-то давно прошедшее, пережитое и, к счастью, давно уже забытое наукой. Ни одно из открытий девятнадцатого века — в механике, астрономии, физике, химии, биологии, психологии, антропологии — не было сделано диалектическим методом. Все они были сделаны единственно научным индуктивным методом. И так как человек есть часть природы, а его личная и общественная жизнь есть так же явление природы, как и рост цветка или развитие общественной жизни у муравьев и пчел, то нет основания, переходя от цветка к человеку или от поселения бобров к человеческому городу, оставлять метод, который до сих пор так хорошо служил нам, и искать другой, в арсенале метафизики (1, стр. 43).
МИХАЙЛОВСКИЙ
Николай Константинович Михайловский (1842—1904) — один из крупнейших идеологов либерального народничества, видный
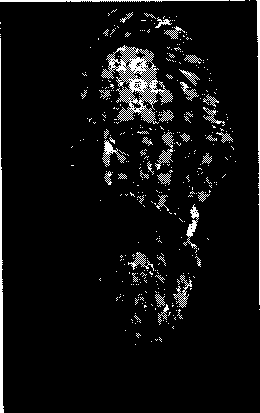
русский социолог, критик и публицист. Родился в семье чиновника г. Мещовска. Учился в Петербургском университете, из которого был исключен в 1863 г. за революционную деятельность. В «Отечественных записках» были напечатаны его основные труды: «Что такое прогресс?», «Теория Дарвина и общественная наука», «Вольтер — человек, Вольтер — мыслитель», «Орган, неделимое, общество», «Жестокий талант», «Записки профана», «Письма о правде и неправде» и др.
В социологии Михайловский был близок к позитивизму, опирался на «субъективный метод». В то же время он был сторонником объективного метода изучения природы.
В. И. Ленин писал: «Великой исторической заслугой Михайловского в буржуазно-демократическом движении в пользу освобождения России было то, что он горячо сочувствовал угнетенному положению крестьян, энергично боролся против всех и всяких проявлений крепостнического гнета, отстаивал в легальной, открытой печати — хотя бы намеками сочувствие и ува-
380
женив к «подполью», где действовали самые последовательные и решительные демократы разночинцы, и даже сам помогал прямо этому подполью» *.
В 1892 г. Михайловский возглавил журнал «Русское богатство», который был органом либерально-реформистского течения в народничестве. В 80-х годах Михайловский переходит к борьбе против идей марксизма, хотя в 70-х годах (после выхода «Капитала» К. Маркса на русском языке в 1872 г.) Михайловский положительно оценивал этот главный труд марксизма, полемизировал с Ю. Жуковским, отвергавшим экономическую теорию Маркса. Русские марксисты во главе с В. И. Лениным доказали научную несостоятельность и политическую реакционность народнически-либерального учения об исторических судьбах капитализма в России, показали, что Михайловский в своей философии сделал шаг назад от Чернышевского к позитивизму.
Данный вступительный текст принадлежит В. В. Богатову. Тематическая подборка фрагментов из произведений философа осуществлена В. В. Богатовым и Б. Н. Чикиным по изданиям П. К. Михайловского: 1) «Сочинения», т. 1—6. СПб., 1896— 1897; 2) «Полное собрание сочинений», т. 10. СПб., 1913; 3) «Революционные статьи». Берлин, 1906.
[ПОЛИТИКА]
Правда [...] всегда составляла цель моих исканий. Правда-истина, разлученная с правдой-справедливостью, правда теоретического неба, отрезанная от правды практической земли, всегда оскорбляла меня, а не только не удовлетворяла. [...] Я никогда не мог поверить и теперь не верю, чтобы нельзя было найти такую точку зрения, с которой правда-истина и правда-справедливость являлись бы рука об руку, одна другую пополняя. [...] Безбоязненно смотреть в глаза действительности и ее отражению — правде-истине, правде объективной, и в то же время охранять и правду-справедливость, правду субъективную, — такова задача всей моей жизни (1, I, стр. V).
Скажите же мне ваше повелительное наклонение не в теоретической области, а в практической. В ожидании я вам скажу свое: сидите смирно и готовьтесь.
Другого я не знаю, другого, по-моему, русский социалист теперь не может иметь. Никакой радикально-социалистической оппозиции в России нет, ее надо воспитывать. Задача молодого поколения может состоять только в том, чтобы готовиться к тому моменту, когда настанет время действовать. Само оно бессильно его вызвать и будет только задаром гибнуть в этих попытках. А что момент настанет и даже, несмотря на теперешнюю реакцию, в более или менеее близком будущем, это, по-моему, несомненно. Япония, Турция имеют конституцию, должен же прийти и наш черед. Я, впрочем, не знаю, в какой форме придет момент действия, но знаю, что теперь его нет и что молодежь должна его встретить в будущем не с Молешоттом на устах и не с игрушечными коммунами, а с действительным знанием русского народа и с полным умением различать добро и зло европейской цивилизации.
* В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 24, стр. 333—334.
381
Откровенно говоря, я не так боюсь реакции, как революции. Готовить людей к революции в России трудно, готовить · к тому, чтобы они встретили революцию, как следует, можно и, следовательно, должно. В тот час, когда это станет невозможным, — я ваш, несмотря на то что до тех пор — нет (2, стр. 67—68).
Союз с либералами тоже не страшен, если вы вступите в него честно и без лицемерия объявите им свой святой девиз: «Земля И Воля». Они к вам пристанут, а не вы к ним. В практической борьбе безумно не пользоваться выгодами союзов, хотя бы случайных и временных. И признаюсь вам: я думаю, что многие либералы гораздо к вам ближе, чем вам кажется. Они были бы еще ближе, если бы ясно понимали особенности условий русской жизни (3, стр. 31).
Изучая новейшую историю, вы узнали, что Великая Революция не привела Европу в обетованную землю братства, равенства и свободы, что конституционный режим, вручая власть буржуазии, предоставляет ей под покровом формальной политической свободы экономическую власть над народом. Этот горестный результат европейской истории вселил в вас недоверие к принципу политической свободы. Я, русский, переболевший всеми русскими болезнями и здесь, на свободной республиканской почве, воочию наблюдающий ход политической и экономической борьбы, знаю цену вашему недоверию. Да, вы правы. Конституционный режим не решает тяжбы труда с капиталом, не устраняет вековой несправедливости присвоения чужого труда, напротив, облегчает ее дальнейший рост. Но вы глубоко неправы, когда отказываетесь от политической борьбы. [...]
Вы боитесь конституционного режима в будущем, потому что он принесет с собой ненавистное иго буржуазии. Оглянитесь: это иго уже лежит над Россией [...].
Александр II не даст конституции; ее можно только вырвать у него. Он с упрямством слепца хочет умереть самодержавным царем, ревниво оберегая декорум деспотической власти от жалких проблесков оппозиции в земстве, в литературе, в суде. Но это — его личное дело. В государственном же смысле самодержавие на Руси, кроме военно-полицейской действительности, есть уже давно только блестящий миф, живущий лишь кое-где в незлобивом сердце крестьянина. Россия только покрыта горностаевой царской порфирой, под которой происходит кипучая работа набивания бездонных, приватных карманов жадными приватными руками. Сорвите эту когда-то пышную, а теперь изъеденную молью порфиру, и вы найдете вполне готовую, деятельную буржуазию. Она не отлилась в самостоятельные политические формы, она прячется в складках царской порфиры, но только потому, что ей так удобнее исполнять свою историческую миссию расхищения народного достояния и присвоения народного труда (3, стр. 14—16).
[СОЦИОЛОГИЯ]
Общественная наука неизбежно должна чем-нибудь позаим-ствоваться у естествознания, во-первых, потому, что естествознание, как наука старшая, успело выработать целый арсенал логических приемов, а во-вторых, потому, что общество управляется
382
кроме своих специальных законов еще законами, царящими и над остальной природой (1,1, стр. 338).
Ныне вошло в обыкновение не необходимость приносить в жертву свободе, как это делает г. Кавелин, а, наоборот, свободу закалать в алтарь железной необходимости. Отсюда это отречение от нравственного суда; эта похвальба индифферентизмом; это преклонение перед фактом; эти заявления: мы не хотим преобразовывать мир, мы предоставляем ему преобразовывать нас или: мы не знаем нравственности, мы знаем только нравы; одним словом, выражаясь слогом архимандрита Фотия, все это «скотоподобие». Нетрудно видеть, каким образом естественные науки могут стать орудием этого скотоподобия. Они имеют дело с областью, где деспотически царствует принцип железной необходимости, где факт и не нуждается ни в каком оправдании, — до такой степени очевидна его законность в физическом смысле слова. Понятно, что ум, привыкший к исключительным занятиям в этой области, склонен к перенесению добытых в ней воззрений и во все другие сферы мысли. Само собою разумеется, что естественные науки в этом ни малейше не виноваты, но тем не менее дело так делается. И если для исследователя есть хотя бы малейшая выгода в существовании того или другого факта, то приемы естествознания всегда готовы к его услугам. Нет даже надобности, чтобы выгода эта преследовалась совершенно сознательно. Общественное положение человека всегда подсказывает ему решение, выгодное если не прямо для него лично, то для той социальной группы, которой он состоит членом (1, I, стр. 796).
В разные времена в общем сознании преобладает то одна, то другая из этих половин истины [законосообразность или свобода. — Ред.]. Ныне у нас господствует убеждение в непреложности законов общественного движения и состояния. И это совершенно соответствует теперешнему общему настроению нашего общества и литературы. Возможность и даже обязанность плыть по течению, только формулируя его, а не подвергая нравственной оценке, малый запрос на силу воли и ясность идеалов и большой спрос на покорность ходу вещей, неверие в собственные силы — вот что сопряжено с односторонним применением идеи законосообразности к явлениям общественной жизни (1, I, стр. 777—778).
Спенсер трактует об общественных вопросах совершенно так же бесстрастно, как о гипотезе туманных масс или о фазах развития гидры. Мы .к этому не привыкли. Мы, к счастию или к несчастию, не доросли до объективного отношения к фактам общественной жизни, и субъективная точка зрения сквозит в каждой строке как наших собственных политических писателей, так и большей части тех иностранных авторов, с которыми мы до сих пор знакомились. Поэтому, встречаясь со спокойным мыслителем, ищущим одной только голой и объективной истины, очевидно, не подкапывающимся под чьи бы то ни было интересы, мы можем либо просто отвергнуться от добытых им, неприятных для нас истин, или же слепо увлечься их истинностью. И то и другое, разумеется, прискорбно. Мы и без того играем относительно Западной Европы роль кухарки, получающей от барыни по наследству старомодные шляпки. В то время как мы еще делимся на материалистов и спиритуалистов,. передовая западная мысль в лице Конта, Спенсера и проч. отрицает и ту и другую систему.
383
В то время как в нашем обществе то и дело раздаются упреки передовым людям в атеизме, позитивизм называет атеистов самыми нелогическими теологами [...]. Легко может быть, что некоторые принципы позитивной социологии перейдут к нам тогда, когда они уже падут в Западной Европе (1, I, стр. 16—17).
Мы постараемся наметить главные пункты социальной динамики, не прибегая к удобному, но недостаточно гарантирующему от ошибок приему выделения одного какого-либо общественного элемента. Интеллектуальный элемент, принимаемый за точку исхода позитивизмом, представляет, правда, в этом отношении наиболее гарантий, и он действительно, при известной доле сдержанности и осторожности, может быть принят, по выражению Милля, за primus agens ' — социального движения. Однако если есть возможность, — а мы думаем, что она есть, — проследить законы общественного прогресса на развитии всего общества в целом, не давая слишком преобладающего значения развитию какого бы то ни было из его элементов, то от этого постановка общественных вопросов может только выиграть (1, I, стр. 77—78).
Без сомнения, нельзя изучать и знать все, но тем не менее различные отрасли обществознания суть части некоторого целого, и, может быть, важнейшая из задач именно в том и состоит, чтобы определить взаимные отношения этих частей и их отношение к целому. Общественная жизнь представляет такое связанное целое, что если мы будем изучать отдельные ее проявления независимо друг от друга, то, наверное, впадем в теоретические и практические ошибки. Есть или должна быть одна общественная наука — социология; ее отделы занимаются различными сторонами общественной жизни; одна из этих сторон есть материальное благосостояние общества; изучение относящихся сюда явлений составляет одну из отраслей обществознания, которая не должна разрывать естественной теснейшей связи с целым (1, I, стр. 286).
Школа Огюста Конта, которой преимущественно присваивается название позитивизма и положительной философии [...], принимает за центральный фактор социального развития интеллектуальный элемент. При этом позитивисты очень хорошо понимают, что умственная деятельность отнюдь не представляет наиболее сильного социального двигателя; что стремление к истине, к объяснению мировых явлений не захватывает собою других, гораздо более могучих деятелей; что интеллектуальный элемент сам постоянно получает толчки от местных физических условий, от страстей, потребностей и желаний человека. Позитивисты говорят только, что умственный элемент имеет значение руководителя в социальном движении и им обуславливается количество и качество средств для удовлетворения человеческих склонностей и желаний. При таких оговорках понятно громадное научное значение этого принципа (1, I, стр. 65—66).
Героем мы будем называть человека, увлекающего своим примером массу на хорошее или дурное, благороднейшее или подлейшее, разумное или бессмысленное дело. Толпой будем называть массу, способную увлекаться примером, опять-таки высокоблагородным или низким, или нравственно безразличным. Не в похвалу, значит, и не в поругание выбраны термины «герой» и «толпа». [...] Без сомнения, великие люди не с неба сваливаются на землю, а из земли растут к небесам. Их создает та же среда,
384
которая выдвигает и толпу, только концентрируя и воплощая в них разрозненно бродящие в толпе силы, чувства, инстинкты, мысли, желания (1, II, стр. 97).
Задача состоит в изучении механики отношений между толпою и тем человеком, которого она признает великим, а не в изыскании мерила величия. [...]
Наш герой просто первый «ломает лед», [...] делает тот решительный шаг, которого трепетно ждет толпа, чтобы с стремительною силою броситься в ту или другую сторону. И не сам по себе для нас герой важен, а лишь ради вызываемого им массового движения (1, II, стр. 99—100).
Везде народ оказывается легко возбудимою, быстро меняющею настроение массою, в которой бесследно тонет всякая индивидуальность, которая «любит без толку и ненавидит без причины» и слепо движется в том или другом направлении, данном каким-нибудь ей самой непонятным толчком (1, II, стр. 405—406).
Выше мы рассматривали толпу совершенно абстрактно, стараясь отвлечь это понятие от всех сопредельных понятий и от всех житейских осложнений, с какими толпа является в своем конкретном виде. Несмотря, однако, на всю логическую независимость идеи толпы, тот психологический процесс, который составляет ее сущность, происходит не в безвоздушном пространстве. Рядом с ним действуют известные экономические, политические, нравственные факторы. Это упускается из виду некоторыми исследователями, что в свою очередь ведет к неправильным выводам и обобщениям (1, II, стр. 417).
Народ [...] есть совокупность трудящихся классов общества. Служить народу — значит работать на пользу трудящегося люда. Служа этому народу по преимуществу, вы не служите никакой привилегии, никакому исключительному интересу, вы служите просто труду, следовательно, между прочим, и самому себе, если только вы вообще чему-нибудь служите. [...]
Для облегчения положения трудящихся классов требуется прежде всего устранение нужного человека [капиталиста. — Ред.]. В нем именно все дело. [...] Нужный человек есть самый яркий представитель [...] исключительно личного начала [...]. Являясь как бы на помощь труду, нужный человек только закабаляет его. Представляя элемент труда в обществе, народ не имеет в своих руках орудий производства. Их предлагает ему нужный человек и за это получает львиную долю продукта. Дело, значит, только в том, чтобы сосредоточить орудия производства в руках представителей труда. Все, становящееся поперек дороги к этой цели, [...] подлежит уничтожению, которое будет и выгодно, и справедливо. [...] Как же справиться с нужным человеком? [...] Когда у нас заходит речь об организации народного труда, [...] раздаются обыкновенно голоса, громко и с азартом отрицающие государственную помощь. Трудно представить себе что-нибудь страннее и даже, можно сказать, наглее этих голосов (1, I, стр. 659—660).
Нормальное развитие общества и нормальное развитие личности сталкиваются враждебно. [...] Общество есть первый, ближайший и злейший враг человека, против которого он должен быть постоянно настороже. Общество самим процессом своего развития стремится подчинить и раздробить личность, оставить ее какое-нибудь одно специальное отправление, а остальные раздать
385
другим, превратить ее из индивида в орган. Личность, повинуясь тому же закону развития, борется, или по крайней мере должна бороться, за свою индивидуальность, за самостоятельность и разносторонность своего я. Эта борьба, этот антагонизм не представляет ничего противоестественного, потому что он царит во всей природе (1, I, стр. 461—462).
Мы верим, что Россия может проложить себе новый истори-чекий путь, особливый от европейского, причем опять-таки для нас йажно не то было, чтобы это был какой-то национальный путь, а чтобы он был путь хороший, а хорошим мы признавали путь сознательной, практической пригонки национальной физиономии к интересам народа. Предполагалось, что некоторые элементы наличных порядков, сильные либо властью, либо своею многочисленностью, возьмут на себя почин проложения этого пути. Это была возможность. Теоретическою возможностью она остается в наших глазах и до сих пор. Но она убывает, можно сказать, с каждым днем. Практика урезывает ее беспощадно, сообразно чему наша программа осложняется, оставаясь при той же конечной цели, но вырабатывая новые средства (1, IV, стр. 952).
Философско-историческая точка зрения Бокля есть точка зрения умного, ученого, либерального английского купца. [...] Либеральный английский купец, конечно, может вполне удовлетвориться демократизмом доктрины Дарвина, которая есть гениальная буржуазная теория. [...] Расшатывая неравенства и привилегии, отмеченные печатью феодализма, учение Дарвина не только не представляет собою орудия против неравенства и привилегий вообще, но, напротив, ставит их на новую и более прочную почву. [...] Дарвинизм не только не демократичен по существу, но самым резким и определенным образом ставит неравенство и борьбу за лучшее положение в обществе краеугольными камнями своей нравственно-политической доктрины. Он демократичен ровно постольку, поскольку демократична всякая другая буржуазная доктрина (1, I, стр. 914—915).
