Философское Наследие антология мировой философии в четырех томах том 4
| Вид материала | Документы |
- Антология мировой философии в четырех томах том, 13429.06kb.
- Антология мировой философии: Античность, 10550.63kb.
- Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах:, 241.84kb.
- Книга первая (А), 8161.89kb.
- Аристотель. Сочинения в 4 томах. Т м.: Мысль, 1978. 687с. (Философское наследие)., 712.08kb.
- Собрание сочинений в четырех томах ~Том Стихотворения. Рассказы, 42.25kb.
- Собрание сочинений в четырех томах. Том М., Правда, 1981 г. Ocr бычков, 4951.49kb.
- Книга вторая, 1589.39kb.
- Джордж Гордон Байрон. Корсар, 677.55kb.
- Антология мировой детской литературы., 509.42kb.
Магия и кабалистика были естественным и неизбежным результатом младенческого развития человеческого ума. На первых ступенях своего развития человеческий ум не в силах понять связи между явлениями внешнего мира, и потому для большей части их, особенно явлений сложных, он не может подыскать соответствующей естественной причины. Между тем естественная потребность хоть как-нибудь, да объяснить себе окружающий его мир, выйти из мучительного состояния незнания, недоумения заставляет его видеть причину явлений в самом явлении, разбивать явление на две части, из которых одна предполагается производящею другую. Часть будто бы производящая составляет то, что впоследствии получает название отвлеченной субстанции; часть производимая, видимая, являющаяся органом наших чувств, образует так называемую материальную субстанцию. Таким образом, весь мир, вся Вселенная раздваивается и населяется массою различных невидимых сил. Сперва каждому отдельному предмету соответствовала своя духовная сила, потом, по мере того как ум человеческий привыкал к более тщательным наблюдениям и научался подыскивать к видимым явлениям видимые же причины, число невидимых сил сокращалось все более и более. Наконец, новейший идеализм свел все множество этих единичных сил к одной общей субстанции, нераздробляемой и нерасчленяемой. Эту идеальную субстанцию он резко отделил от материальной субстанции; последняя, по его воззрениям, уп-
366
равляется своими особыми самостоятельными законами. Прогресс естествознания дал возможность большую часть видимых явлений объяснить естественным образом из других материальных же явлений, так что для понимания данного индивидуального предмета незачем было раздваивать его. Чем легче, чем доступнее был предмет для наблюдений, чем менее сложности он представлял, тем удобнее устранялось из него присутствие невидимых духов. Дуализм был мало-помалу изгнан, таким образом, из мира явлений неорганической и отчасти из мира явлений органической природы. Область метафизическая все более и более суживалась; вместе с этим авторитет магии и кабалистики падал все ниже и ниже. Магия была естественным, логическим последствием веры в существование невидимых, таинственных сил, населяющих какой-то особенный чудесный мир. [...] Вера в чудесное, вера в дуализм видимых явлений и форм материального мира, изгнанная в настоящее время почти изо всех областей человеческого знания, все еще довольно крепко держится в одной области — в области антропологических наук. Правда, и здесь уже трезвый, естественно-научный взгляд на человека начинает пробивать себе дорогу; однако здесь более, чем где-нибудь, он встречает решительный отпор со стороны мистической рутины, которая, пользуясь сложностью и запутанностью явлений нравственного мира, спешит населить его фантастическими силами, супра-на-туральными существами. Борьба с этою мистическою рутиною становится тем более затруднительною, что рутина постоянно лицемерит, старательно скрывая свои кабалистические верования под покровом туманной и неопределенной фразеологии. Эта-то скрытность, эта-то боязливая увертливость и дает возможность мистической рутине отстаивать свое право даже при ярком свете современной науки. Невидимые духи магов у современных мистиков называются силами или прирожденными свойствами. Грубые воззрения невежественного суеверия они стараются приспособить к более развитому пониманию современников; от такого приспособления они становятся действительно менее грубыми, но ничуть не менее суеверными и нелепыми (5, стр. 58—60).
По мнению Гегеля, философия природы есть наука о логических законах (т. е. о законах чистой, отвлеченной логики), осуществляющихся в материальных предметах.
367
А так как все материальные предметы относятся или во времени, или в пространстве к другим внешним предметам, то философия природы, по определению Гегеля, есть наука о логических законах, осуществляющихся в пространственных и временных формах бытия. Чистый дух, развиваясь самостоятельно и независимо в отвлеченных формах мышления, создает целый ряд логически развивающихся категорий: категория внешности, количества и т. п. Эти бесполезные, отвлеченные категории, реализуясь вовне, образуют внешнюю природу, материальный, объективный мир. Таким образом, все богатое разнообразие природы втискивается в узкие рамки фантастической системы; законы природы не изучаются, а выводятся a priori из законов человеческой логики; природе навязываются цели, совершенно чуждые ей, и вместо того, чтобы изобразить нам ее действительное развитие, с роковою, механическою необходимостью определяемое взаимодействием, он пишет какую-то поэму, в которой обстоятельно рассказывает о подвигах и похождениях своего отвлеченного духа в области объективного, материального мира (6, стр. 74).
Что может иметь общего фантастическая поэма с научным знанием? Какое другое значение можно придавать ей в настоящее время, кроме значения исторического курьеза? И что станется с нею, если мы отнимем от нее ее метафизическую закваску? То же, что со всякою волшебною сказкою, если вы выбросите из нее волшебное и сверхъестественное. Сказка разрушится и потеряет всякий смысл, — точно так же разрушится и потеряет всякий смысл и гегелевская поэма о природе (6, стр. 76).
Беда только в том, что уверения Митрофана всегда следует принимать с большою осторожностью. Он уверяет, напр., будто читал статью г. Никитина «О пользе философии» и будто в этой статье г. Никитин отрицает всякую философию, как «пустое, филистерское времяпрепровождение», предлагает наплевать на нее и заняться исключительно «жгучими вопросами жизни». А между тем г. Никитин и не думает в своей статье отрицать философию вообще. Он устанавливает строгое различие между философиею, как «совокупностью наших научных познаний о природе», так называемою философиею природы (или наукою о природе), и философиею, понимаемою в смысле абстрактного «миросозерцания», философиею
368
гг. Лесевича и Козлова, одним словом, философиею, которою можно заниматься, по меткому выражению последнего, только стоя «на краю зияющей пропасти», отделяющей здравый смысл «от фантастики и бессмыслия». Вот к этой-то, и только к этой, философии г. Никитин и относится вполне отрицательно; вот эту, и только эту, философию он и считает «более или менее» бесполезным (и с чисто научной, и с общественной точки зрения) времяпрепровождением. Но нашему профану нет дела до этих «тонкостей». Г. Никитин, рассуждает он, отрицает пользу философии гг. Козлова и Лесевича, следоват., он отрицает пользу всякой философии вообще. Презабавная логика у наших Митрофанов! (7, стр. 45).
[СОЦИОЛОГИЯ]
Пришло время ударить в набат. Смотрите! Огонь «экономического прогресса» уже коснулся коренных основ нашей народной жизни. Под его влиянием уже разрушаются старые формы нашей общественной жизни, уничтожается самый «принцип общи-н ы», принцип, долженствующий лечь краеугольным камнем того будущего общественного строя, о котором все мы мечтаем.
На развалинах перегорающих форм нарождаются новые формы — формы буржуазной жизни, развивается кулачество, мироедство, воцаряется принцип индивидуализма, экономической анархии, бессердечного алчного эгоизма. [...]
Огонь подбирается и к нашим государственным формам. Теперь они мертвы, безжизненны. Экономический прогресс пробудит в них жизнь, вдохнет в них новый дух, даст им ту силу и крепость, которых пока еще в них нет.
Сегодня наше государство — фикция, предание, не имеющее в народной жизни никаких корней. Оно всем ненавистно, оно во всех, даже в собственных слугах, вызывает чувство тупого озлобления и рабского страха, смешанного с лакейским презрением. Его боятся, потому что у него материальная сила; но, раз оно потеряет эту силу, ни одна рука не поднимется на его защиту (1, III, стр. 219—220).
Но так как в современных обществах вообще и в России в особенности материальная сила сосредоточена в государственной власти, то, следовательно, истинная революция — действительная метаморфоза силы нравственной в силу материальную — может совершиться только при одном условии: при захвате революционерами государственной власти в свои руки; иными словами, ближайшая, непосредственная цель революции должна заключаться не в чем ином, как только в том, чтобы овладеть правительственной властью и превратить данное, консервативное государство в государство революционное.
[...] Но захват власти, являясь необходимым условием революции, не есть еще революция. Это только ее прелюдия. Революция осуществляется революционным государством, которое, с одной
369
стороны, борется и уничтожает консервативные и реакционные элементы общества, упраздняет все те учреждения, которые препятствуют установлению равенства и братства; с другой — вводит в жизнь учреждения, благоприятствующие их развитию.
Таким образом, деятельность революционного государства должна быть двоякая: революционно-разрушительная и револю-ционно-устроительная.
[...] Если первая преимущественно опирается на силу материальную, то вторая — на силу нравственную (1, III, стр. 224—225).
На Западе, как и у нас, мы замечаем два течения: одно — чисто утопическое, федеративно-анархическое, другое — реалистическое, централизационно-государственное. [...]
Несостоятельность так называемого анархического принципа по отношению к революционной борьбе сознается самими анархистами; но, не решаясь отказаться от него вполне, они вводят в него такие поправки и изменения, которые подрывают его в корне. [...] Революционная партия все яснее и яснее начинает сознавать, что без захвата государственной власти в свои руки невозможно произвести в существующем строе общества никаких прочных и радикальных изменений, что социалистические идеалы, несмотря на всю их истинность и разумность, до тех пор останутся несбыточными утопиями, пока они не будут опираться на силу, пока их не прикроет и не поддержит авторитет власти.
В связи с таким сознанием необходимо должна измениться и самая форма организации революционных сил. По мере того как политический элемент борьбы выдвигается на первый план, все сильнее и сильнее чувствуется потребность, с одной стороны, более централизовать революционные силы, с другой — облечь большею тайною их деятельность. [...]
Мы не сомневаемся в успехе этой работы, мы верим, что революционные силы, скрывшись под легальную почву, кончат тем, что взорвут ее, разрушат величественное здание «буржуазного общества» и под его обломками погребут старый мир (1, III, 230— 231).
Мы уже говорили в одной из предыдущих хроник, что внимание современных исследователей главным образом обращено в настоящее время на северные, полярные страны и Африку. Особенно полюбилась им Африка. Англия, Америка, Франция, Германия, Италия и даже Россия шлют туда своих ученых и соперничают друг с другом в открытиях и исследованиях. Однако до последнего времени все эти открытия и исследования производились без всякого общего плана, без всякой системы [...]. Огромная и часто совершенно бесполезная потеря денег, потеря людей, несоразмерность затраченных усилий с достигнутыми результатами, с одной стороны, с другой — постоянно возрастающий интерес к африканским «тайнам» навели некоторых ученых и промышленников на мысль о необходимости централизовать научно-промышленную эксплуатацию Африки, подчинить ее одному общему плану, одной общей системе. Мысль эта почему-то очень понравилась бельгийскому королю, и по его инициативе во второй половине прошлого года состоялась в Брюсселе международная географическая конференция для обсуждения вопроса о наилучших и наиболее целесообразных средствах цивилизовать Африку. Сам король председательствовал на ней. В своей вступительной речи его величество
370
заявил, что «цель, соединившая под его председательством ученых-географов Европы, заслуживает самого полного внимания всех истинных друзей человечества. Эта цель — проложить европейской цивилизации путь в единственную часть света, в которую она (на беду европейским купцам и промышленникам!) еще не проникла, рассеять тот мрак, ту тьму, в которой прозябают ее народы, одним словом, эта цель — организовать правильный крестовый поход на Африку — поход вполне достойный «эпохи прогресса»» (2, стр. 126— 127).
Африканцы могут быть теперь спокойны: цивилизация их страны обеспечена благодаря великодушию и нежной заботливости бельгийского короля и европейских ученых. Это великодушие и эта нежная заботливость «белых людей», без сомнения, тронет нецивилизованные сердца «черных варваров» и произведет благотворное впечатление на их «детские» умы. Это тем более вероятно, что «варвары» уже имели много случаев весьма основательно познакомиться с конкретными представителями и истолкователями этих возвышенных чувств европейских просветителей. Подвиги солдат Беккер-Паши [...] не скоро, конечно, изгладятся из воспоминаний туземцев (.2, стр. 129).
Социальная наука, понимаемая в обширном значении этого слова, т. е. в смысле изучения явлений социальной жизни вообще (независимо от того направления, в котором производится это изучение), проходит через те же фазисы развития, как и всякая наука вообще. Вначале она имела чисто догматический характер; она признавала или отрицала явления социального мира не на основании рационального, критического анализа их, а просто на основании или какого-нибудь априористического положения, усвоенного на веру, или темного, бессознательного чувства (1, I, стр. 403).
Теперь разве какой-нибудь невежда решится назвать утопистами современных представителей отрицательного направления, хотя их идеалы, в сущности, те же, что были и у отрицателей-догматиков. Сущность та же, но форма изменилась и упростилась. Формы общежития вообще сведены к формам экономической жизни; доказано, что последние обуславливают собою первые, что, каковы экономические отношения, таковы будут отношения социальные, политические, нравственные и всякие другие; доказано, что экономические отношения, в свою очередь, обуславливаются отношениями труда к производству. Таким образом, социальный вопрос со всею его запутанною сложностью свелся к вопросу об отношениях труда к производству, т. е. к рабочему вопросу. Такое сведение, очевидно, должно было значительно упростить задачу и поставить ее на чисто реальную, практическую почву.
Анализ существующих отношений труда к производству показал, что они не соответствуют истинным требованиям разумного общежития; порабощая труд настоящего поколения труду прошедшего (капиталу), они создают вредные привилегии для наименее трудящихся классов общества и делают крайне бедственным и необеспеченным существование классов наиболее трудящихся. Следовательно, они не только не выгодны для большинства (так как трудящиеся классы составляют большинство), они противны основам всякого разумного общежития, потому что они противны интересам труда. [...] Нереальность же и вредность этих отношений
371
зависит от того, что реальные, фактические отношения труда к производству постоянно искажаются и уродуются под влиянием преданий и привилегий, унаследованных от давно прошедших времен. Труд есть, всегда был и будет единственным источником всякого производства; следовательно, он должен иметь на него и все права; но на самом деле между ним и производством стоит посредник, который [...], не принимая сам ни малейшего личного участия в производстве, присваивает его всецело себе, уделяя труду лишь то, что найдет для себя выгодным (1, I, стр. 405—406). Я полагаю, что все явления политического, нравственного и интеллектуального мира, в последнем анализе, сводятся к явлениям экономического мира и «экономической структуре» общества, как выражается Маркс. Развитие и направление экономических начал обуславливает собою развитие и направление политических и социальных отношений вообще, кладет свою печать на самый интеллектуальный прогресс общества, на его мораль, на его политические и общественные воззрения. Отсюда, оставаясь верным этой исходной точке, я, встречаясь с каким-нибудь фактом, с каким-нибудь крупным явлением из общественной жизни, с какою-нибудь социальною теориею, с каким-нибудь нравственным правилом и воззрением, стараюсь прежде всего вывести его из данных экономических отношений, объяснить его разными хозяйственными расчетами и соображениями. Отсюда для каждого [...] должно быть понятно, почему, с этой точки зрения, мне должны казаться странными и недальновидными те историки, которые относят, например, французскую революцию к разрушительным началам вольнодумной философии XVIII в., тогда как, с моей точки зрения, самые эти разрушительные начала суть не более как продукт, как результаты данных экономических отношений. Это не значит, что я отвергаю историческое значение идей и ставлю ни во что умственный прогресс; нет, это значит только, что я несколько иначе смотрю на историческую роль идей, чем смотрят на нее барды безграничного всемогущества человеческого интеллекта. Идея (я говорю, разумеется, об идеях из области общественных и нравственных наук) всегда является воплощением, выражением, если хотите, теоретическою реакциею какого-нибудь экономического интереса; прежде, чем она возникла, этот интерес уж существовал, она явилась для него и ради него. Справедливость этой мысли особенно ярко обнаруживается именно на философии XVIII в. [...] Для того, чтобы победить в практической жизни, экономический интерес нуждается в двух вещах: в материальной силе и в организации этой силы. Материальная сила представляется, по большей части, людьми невежественными и непроницательными, неспособными к стройной, целесообразной организации. Потому для победы того или другого общественного элемента необходимо, чтобы на его сторону стала часть интеллигентного меньшинства. Это интеллигентное меньшинство придает материальной силе соответствующую организацию и направляет ее к определенной цели. Отсюда само собою становится понятным, как важна для социального прогресса вообще победа той или другой идеи, распространение среди интеллигенции того или другого воззрения, той или другой морали. Отсюда сама собою становится понятной и та роль, которую играют идеи в истории человеческого развития. [...]
372
Вы говорите: «Умственная, нравственная, политическая, одним словом, все явления общественной жизни находятся в неразрывной связи между собою». Но я спрашиваю вас: какая это связь: связь ли это со-существование или причинная связь? Если первая, то где же коренная причина, породившая все эти явления? Если вторая, то которое же из этих явлений следствие, которое причина? Ведь невозможно же, чтобы А было причиною В и в то же время В — причиною А. Одно, следовательно, из двух: или А есть следствие, а В — причина или В — следствие, а А — причина, которое же из двух? Неужели вы не понимаете, что в этом и весь вопрос и что сказать: будто А обуславливает В, а В обуславливает А, — это значит сказать величайшую бессмыслицу, которую нельзя оправдать даже таким городническим либерализмом, как, например: эти идеи не про нас, нам рано знать то, что знают другие (3, стр. 63—65).
Все те формы, все те явления общественной жизни, — встречается ли она с ними в политической, юридической, экономической или нравственной области, — в которых обнаруживается тенденция уравнять индивидуальности и установить гармонию между потребностями и средствами к их удовлетворению, должны быть рассматриваемы, с ее точки зрения, как прогрессивные. Наоборот, те формы и те явления, в которых обнаруживаются противоположные тенденции или только одна из указанных тенденций, должны быть рассматриваемы как регрессивные, и к ним она должна относиться отрицательно. [...] Показав зависимость юридических, политических и др. форм общественного быта от форм экономических, [...] она1 свела их к двум категориям: к первой она отнесла все те разнообразные формы экономических отношений, в основе которых лежит частное, индивидуальное право, к второй — (...] общественное, коллективное право. [...] Очевидно, что только экономические формы второй категории и построенные на них общественные учреждения имеют прогрессивный характер; формы же первой категории со всеми из них вытекающими последствиями абсолютно регрессивны (1, II, стр. 208—209).
И Мальтус, и Дарвин исследуют законы, один — жизни экономической, другой — жизни органической, и тот, и другой пользуются при этом одною и тою же физиологическою истиною о зависимости жизни и размножения организма от условий питания. Вся разница только в том, куда они применяют эту истину и зачем применяют. Один применяет эту истину к сфере экономических, общественных отношений, другой — к сфере отношений органических; один имеет в виду только интересы истины, интересы науки, другой — только интересы эксплуататоров и лавочников. Как видите, разница не велика, но если часто «гора рождает мышь», то иногда бывает и наоборот: мышь рождает гору; в настоящем случае так именно и произошло. Дарвин, применив указанную истину к некоторым явлениям органической природы, пришел к великим, гениальным обобщениям, которых достаточно для того, чтобы обессмертить его имя в науке. Пастор Мальтус, вздумав этою истиною объяснить некоторые явления экономической жизни, пришел к нелепым абсурдам, которых слишком даже много, чтобы сделать его имя на веки бесславным.
Но почему же это так вышло? Ведь и в гражданском обществе, и в природе живые существа борются вечно и безуспешно
373
борются, почему же наука, объясняя все этою борьбою, приходит к блистательным выводам, когда дело идет об .органической природе, и доходит до нелепых абсурдов, когда дело идет о законах общественного развития, экономической жизни?
Потому, что в первом случае эта борьба является фактом первоначальным, основным фактором, с которого начинается органическая жизнь, которым объясняется и из которого выводится вся история органических форм. Там — это почти единственный фактор органического развития, это неизбежное и необходимое условие органического прогресса или того, что обыкновенно называют этим именем. Напротив, в гражданском обществе — это факт производный, продукт известных экономических отношений; не он их объясняет, не они из него выводятся, а наоборот: он из них выводится, он ими объясняется. [...]
Факт борьбы sä существование, будучи в гражданском обществе фактом производным, совсем не имеет в нем ни того значения, ни той всеобщности, которую он имеет в природе. В последнее время вошло в моду все объяснять борьбою за существование и все ею оправдывать; ее видят везде, даже там, где нет и тени ее. Всякая война — это борьба за существование; всякое варварство, всякое мошенничество — это борьба за существование; наконец, весь наш экономический прогресс — это продукт борьбы за существование. Боже мой, как все теперь становится ясно и просто! [...] Экономический прогресс, а следовательно, и цивилизация возникают впервые именно там, где борьба за существование прекращается, где люди совсем перестают между собою бороться или начинают бороться, но уже не за существование, а за богатство, т. е. правильнее, за капитал. Что такое капитал, почему и как люди начинают за него бороться? — Вот вопрос, в котором исчерпывается вся сущность социальной науки. Но уже этих вопросов никоим образом нельзя разрешить простою ссылкою на известные отношения условий питания к условиям размножения организма. [...] .
Борьба за капитал и борьба за существование, проистекая из различных психологических мотивов (которые здесь, конечно, не место разбирать), приводят и к результатам совершенно различным. Борьба за существование совершенствует организм, развивая в нем те органы и свойства, которые всего полнее приспособляют его к данным условиям окружающей его жизни. [...] Напротив, борьба за капитал не имеет никакого отношения к усовершенствованию общественной организации; правда, она способствует экономическому прогрессу в смысле накопления богатств и усовершенствования производства (насколько последнее зависит от первого). Но ни накопление богатств, ни усовершенствование производства никогда не могут служить ни критерием, ни конечною целью гражданского прогресса, ни мерилом совершенства общественной организации. [...] Очевидно, что общество, в котором, положим, выделка кружев и производство шелковых и других дорогих тканей доведены до высочайшей степени совершенства, а большинство народонаселения ходит в рубищах и лохмотьях, что такое общество не может похвалиться сколько-нибудь удовлетворительною общественною организациею. Высокое экономическое развитие страны и высокая (в смысле совершенной) общественная организация, конечно, могут совпадать, но это со-
374
впадение не необходимо, не неизбежно. Совершенство общественной организации всегда, это правда, сопровождается и высоким экономическим развитием страны; но нельзя сказать, чтобы это было и наоборот: последнее совсем не предполагает первого, оно возможно и без него. Для примера достаточно указать на Англию (1, II, стр. 112—115).
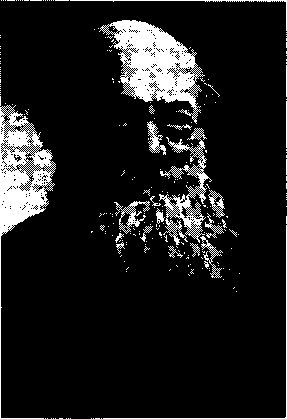
Между миросозерцанием сумасшедшего и миросозерцанием той среды, из которой он вышел, всегда существует самая тесная, неразрывная связь. Его занимают те же вопросы, он разрабатывает те же темы, которые занимают и разрабатываются окружающими его людьми; он никогда не выходит Из круга и χ интересов, и χ мыслей. «Среда» доставляет ему весь тот психический материал, весь тот умственный фонд, из которого его больной мозг строит свои болезненные представления и черпает свои idees fixes. Идеи-сумасшедшего отличаются от идей породившей его среды не по своему содержанию, а по характеру своего развития и в особенности по своим отношениям к прочим факторам психической жизни человека. Как ни один человек не может видеть во сне ничего такого, чего бы он сознательно или бессознательно не передумал и не перечувствовал наяву, так точно ни один психически больной не может формировать свои идеи независимо от данных, сознательно или бессознательно усвоенных от окружающих его идей. Поэтому по характеру сумасшествия и по содержанию бреда больного всегда можно определить характер и миросозерцание среды, из которой он вышел (1, III, стр. 37).
