Материал взят из книги Ф. И. Кулешова «Л. Н. Толстой»
| Вид материала | Документы |
- Вопросы по тексту, 92.32kb.
- Культура средневековой западной европы: особенности, ценности, идеалы , 680.48kb.
- Л. Н. Толстой "Война и мир" в 1867 году Лев Николаевич Толстой закон, 133.87kb.
- Материал взят с сайта Письма в Emissia, 82.2kb.
- А. камю с. И. Великовский, 186.95kb.
- Данный материал взят с официального сайта газеты, 1921.29kb.
- Тема Звуки, 62.36kb.
- ru/lib/illic osvobogdenie ot skol shtml, 2349.65kb.
- Текст программы взят из книги: Программы для общеобразовательных учреждений: Информатика., 132.7kb.
- Поурочное планирование темы "Природные ресурсы мира". 10-й класс Чалганская Л. И. Материал, 157.26kb.
Из-под пера Толстого русский монарх вышел человеком без твердых принципов и убеждений, двойственным, нерешительным, легко поддающимся влиянию придворных льстецов и любящим красивые, но пустые фразы. В нем есть черты и Розенкранца из «Набега», и тех аристократов-офицеров, с которыми мы встречались в рассказах о Севастополе. Внешняя красота соединена с легкомыслием и надменной самонадеянностью. Александр I лишен проницательности ума, государственной мудрости и полководческого таланта — качеств, особенно необходимых в его положении и высоком сане. Слово у него всегда расходится с делом. Александр I, окруженный и поддержанный «молодой дружиной», начинал свое царствование открытием Государственного совета и широковещательным обещанием конституционных реформ, что так поразило воображение его современников, но, как показывает Толстой, очень скоро стала ясной полная несостоятельность либеральных начинаний молодого императора и очевидная фальшь тех пышных, красивых фраз, которые так нравились ему самому.
Он вообще любил все картинное, внешне эффектное. Это видно хотя бы по его поведению под Аустерлицем. Показательно и то, что в трагический для России день вражеского вторжения на русскую территорию Александр I весело и беззаботно развлекался у Бенигсена на офицерском балу, устроенном генерал-адъютантами. Когда в разгар бала явился Балашов с донесением о том, что войска Наполеона переправляются через Неман, Александр I не без пафоса сказал, что он не положит оружия до тех пор, пока хоть один французский солдат останется в России, и он потом несколько раз повторит эту пышную фразу. Какова истинная цена его слов, видно из того, что он всячески противился назначению Кутузова на должность главнокомандующего, а потом постоянно вмешивался в его распоряжения. В его отношении к Кутузову, которого он не любил и которому всегда не доверял, но все же был вынужден вверить армию и судьбу России, сказались двойственность и слабость характера Александра I.
Русский царь изображен в «Войне и мире» в окружении немецких генералов, в военный авторитет которых он верил свято и слепо. Его покровительством и доверием в дни Отечественной войны в особенности пользовались штабные теоретики, тупые и ограниченные, но "крайне самонадеянные, вроде Пфуля, Бенигсена, которые, конечно, заранее претендовали на точное знание всех случайностей, практически неизбежных в любом сражении. Толстой с сарказмом показывает совершенную бездарность генерала Пфуля — одного «из тех теоретиков, которые так любят свою теорию, что забывают цель теории — приложение ее к практике; он из любви к теории ненавидел всякую практику и знать ее не хотел». Это он, Пфуль, был автором злополучного плана обороны и расположения войск при Дриссенском лагере. Другой теоретик военного дела, генерал Бенигсен, снискал себе «славу» тем, что все руководимые им операции неизменно кончались неудачами.
Отсутствием каких бы то ни было военно-полководческих способностей отличался Вольцоген и все близкие к царю и опекаемые им немецкие штабные генералы. Это они сочиняли разные хитроумные планы разгрома Наполеона, с большим рвением выставляли напоказ свой «русский» патриотизм, выражали русскому монарху свои верноподданнические чувства, любили, как и сам царь, красивые фразы о защите отечества и спасении «священной и древней столицы России».
Именно эти слова произносит Бенигсен на совете в Филях, слова, так возмутившие Кутузова своей напыщенной, фальшивой патетикой.
«Бенигсен открыл совет вопросом: «оставить ли без боя священную и древнюю столицу России или защищать ее?» Последовало долгое и общее молчание. Все лица нахмурились, и в тишине слышалось сердитое кряхтенье и покашливание Кутузова. Все глаза смотрели на него <...>.
— Священную, древнюю столицу России! — вдруг заговорил он, сердитым голосом повторяя слова Бенигсена, и этим указывая на фальшивую ноту этих слов.— Позвольте вам сказать, ваше сиятельство, что вопрос этот не имеет смысла для русского человека <...>. Вопрос, для которого я просил собраться этих господ, это вопрос военный. Вопрос следующий: «Спасенье России в
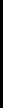



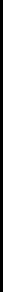 армии. Выгоднее ли рисковать потерею армии и Москвы, приняв сраженье, или отдать Москву без сражения?» Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение <...>. Некоторые будут несогласны со мной. Но я <...> приказываю отступление».
армии. Выгоднее ли рисковать потерею армии и Москвы, приняв сраженье, или отдать Москву без сражения?» Вот на какой вопрос я желаю знать ваше мнение <...>. Некоторые будут несогласны со мной. Но я <...> приказываю отступление».Так развенчивает Толстой все показное, ложное, претенциозное и по своей природе безнравственное в поведении и действиях, в мыслях и намерении русского самодержца и его ближайших военных советников, показывая тем самым и подлинное величие Кутузова как человека, и его решимость и мужество полководца.
В критически-ироническом освещении предстают в «Войне и мире» некоторые другие исторические лица той эпохи: всесильный временщик Аракчеев, деспотичный и тупой, ревниво оберегающий свое влияние на личность и политику царя; и граф Растопчин с его казенным патриотизмом и мелкими интригами против Кутузова; и рассудочно-холодный, сухой и честолюбивый Сперанский, мнивший себя великим преобразователем государственных форм России. Все они, столь не похожие один на другого, одинаково глубоко антипатичны Толстому своим эгоизмом, равнодушием к интересам народа, своей фальшью, неискренностью и самонадеянной претензией на исключительность и важность своей роли в совершающихся событиях. В плане моральном и психологическом они, в сущности, внутренне близки Наполеону.
Наполеон.
Безумие честолюбивых стремлений Наполеона, безнравственность целей, к достижению которых он стремился,— вот что характеризует этого человека как историческую личность и как героя «Войны и мира». Художественная мысль Толстого сосредоточена на беспощадном обличении и развенчивании Наполеона.
Наполеоновской теме, впервые поставленной в «Севастопольских рассказах» и затронутой в дневниковых записях Толстого 50-х годов, отведено в романе-эпопее значительнейшее место. Имя Наполеона возникает уже на первой странице толстовского повествования: о нем спорят в салоне Шерер. Наполеон потом множество раз в различной связи появляется перед читателем «Войны и мира», исчезая в эпилоге, когда все в нем прояснено и все стало бесспорным. И почти всегда, за очень редким исключением, имя и личность Наполеона ассоциируются с понятием людской жестокости и зла, лицемерия, лжи и эгоизма в их наиболее законченном и полном выражении.
Оценка личности Наполеона как исторического, военного и государственного деятеля и просто как человека дана Толстым в соответствии с тем его твердым моральным критерием, согласно которому «нет величия там, где нет простоты, добра и правды». Если Кутузов велик своей простотою, скромностью и правдой, то Наполеон напротив, низок и гадок тем, что он до конца своей жизни никогда не мог понимать «ни добра, ни красоты, ни истины, ни значения своих поступков, которые были слишком противуположны добру и правде, слишком далеки от всего человеческого, для того чтобы он мог понимать их значение. Он не мог отречься от своих поступков, восхваляемых половиной света, и потому должен был отречься от правды и добра и всего человеческого».
Наполеон — носитель эгоцентрического сознания, воплощение крайнего индивидуализма, самовлюбленности и безграничного тщеславия. Он всегда сосредоточен на себе самом, на своем «я», ценит только свое собственное мнение, свои слова, испытываемые в данную минуту эмоции. Во время встречи с Балашовым, например, он нисколько не интересуется ни своим собеседником, ни содержанием привезенного им письма Александра I: «Видно было, что только то, что происходило в его душе, имело интерес для него. Все, что было вне его, не имело для него значения, потому что все в мире, как ему казалось, зависело только от его воли». Таков он во всем и всегда.
Наполеон мыслит себя центром всех людей и всех совершающихся вокруг него — вблизи и на далеком расстоянии — событий, единовластным владыкой и вершителем судьбы целых народов, государств, стран. Он привык к раболепию окружающих, к молчаливой готовности исполнять его волю, все малейшие его прихоти и капризы, любил и поощрял это своеобразное идолопоклонение.
Вот Наполеон накануне праценского сражения, совпавшего с годовщиной его коронования: «Он стоял неподвижно, глядя на виднеющиеся из-за тумана высоты, и на холодном лице его был тот особый оттенок самоуверенного, заслуженного счастья, который бывает на лице влюбленного и счастливого мальчика. Маршалы стояли позади его и не смели развлекать его внимание. <...> Он снял перчатку с красивой, белой руки, сделал ею знак маршалам и отдал приказание начинать дело. Маршалы, сопутствуемые адъютантами, поскакали в разные стороны, и через несколько минут быстро двинулись главные силы французской армии...». В повелительных и картинных жестах, в холодном молчании и самоуверенности на лице видны высокомерие, властность, черты мании величия. Так он обращается не только со своими генералами и маршалами, но и с коронованными особами завоеванных им стран, дипломатами и главами европейских государств. На них он смотрит глазами требовательного и слегка снисходительного хозяина, как на своих послушных слуг и лакеев. Описывая дни, предшествующие тайно задуманному Наполеоном нападению на Россию, Толстой в тоне иронии рассказывает: «Наполеон перед отъездом обласкал принцев, королей и императора, которые того заслуживали, побранил королей и принцев, которыми он был недоволен, одарил своими собственными, т. е. взятыми у других королей, жемчугами и бриллиантами императрицу австрийскую. <...> Он ехал в дорожной карете, запряженной шестериком, окруженный пажами, адъютантами и конвоем, по тракту на Позен, Торн, Данциг и Кенигсберг. В каждом из этих городов тысячи людей с трепетом и восторгом встречали его».
Показателен в этом смысле и эпизод с поведением польских улан во время переправы через Вилию. В избытке угодливости перед императором французов польский полковник, испросив позволения у адъютанта переплыть реку, не отыскивая брода, вместе с сотнями своих улан бухнулся в воду на глазах у Наполеона, желая этим привлечь к себе его внимание. И хотя десятки улан тонули вместе с лошадьми в реке, Наполеон спокойно сидел на бревне и даже не смотрел на эту трагическую и нелепую гибель людей, одурманенных чувством восторга перед ним. Изобразив этот эпизод, Толстой не без едкой иронии замечает, что для пресыщенного славой и поклонением Наполеона вообще «было не ново убеждение в том, что присутствие его на всех концах мира, от Африки до степей Московии, одинаково поражает и повергает людей в безумие самозабвения».
Накрепко усвоенный Наполеоном «идеал славы и величия» был элементарно прост и состоял в том, чтобы «не только ничего не считать для себя дурным, но гордиться всяким своим преступлением, приписывая ему непонятное сверхъестественное значение...». Это присвоенное им себе право безнаказанно убивать людей, совершать преступления, это тираническое «своеволие» толкало его на путь все новых и новых агрессивных, завоевательных войн, спровоцированных им и направленных к тщеславной цели — подчинить себе, покорить всю Европу. «Славу и величие» он завоевывал огнем и мечом. Наполеон, по словам Толстого, всюду поступает как кровавый деспот, исполняющий «роль палача народов» - не только европейских, но и африканских и азиатских.
Возвеличенный современниками, опьяненный военными победами и все еще жаждущий новой славы, Наполеон вознамерился покорить и Россию. Как показано в «Войне и мире», план этот был сумасбродным, авантюристичным и неосуществимым. Затеянная Наполеоном война с Россией неизбежно должна была окончиться тем, чем она в действительности кончилась,— поражением Наполеона, его позором, началом конца его славы и деспотического господства над Европой. Толстой первый из писателей и художников развеял легенду о непобедимости и величии французского императора, гениальности его как полководца, показав, что основными чертами Наполеона «вместо гениальности являются глупость и подлость, не имеющие примеров».
Бородинское сражение, как оно описано в «Войне и мире», впервые поколебало веру Наполеона в самого себя: он тут впервые испытал смешанное чувство недоумения и страха — «тяжелое чувство, подобное тому, которое испытывает всегда счастливый игрок, безумно кидавший свои деньги, всегда выигрывавший, и вдруг, именно тогда, когда он рассчитал все случайности игры, чувствующий, что чем более обдуман его ход, тем вернее он проигрывает». Проигрывает — ибо не ожидал поразившей и напугавшей его силы сопротивления, величия духа и доблести своего врага.
Толстой заставляет Наполеона вспомнить свои триумфальные победы в недавнем прошлом и сопоставить их с досадной неудачей теперь, под Бородино: прежде после






 двух-трех его распоряжений противник складывал оружие, как это было под Маренго, Арколем, Йеной, Аустерлицем, Ваграмом. А теперь? «Теперь же что-то странное происходило с его войсками». Его войска были те же, что и прежде, и генералы и маршалы те же, и даже «враг был тот же, как под Аустерлицем и Фридландом», но одолеть этого врага сейчас нет сил, потому что он, «потеряв половину войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения», в то время как сила руководимой им армии была истощена.
двух-трех его распоряжений противник складывал оружие, как это было под Маренго, Арколем, Йеной, Аустерлицем, Ваграмом. А теперь? «Теперь же что-то странное происходило с его войсками». Его войска были те же, что и прежде, и генералы и маршалы те же, и даже «враг был тот же, как под Аустерлицем и Фридландом», но одолеть этого врага сейчас нет сил, потому что он, «потеряв половину войска, стоял так же грозно в конце, как и в начале сражения», в то время как сила руководимой им армии была истощена.Наполеон впервые не выиграл «в эту странную русскую кампанию» ни одного сражения и за два месяца со времени вторжения в пределы русской земли не взял «ни знамен, ни пушек, ни корпусов войск». Толстой говорит, что Наполеон знал, что Бородинское сражение для него «было проигранное сражение». Это подтверждается следующим признанием самого Наполеона: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвою: французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми. <...> Это было прекраснейшее, но вместе и ужаснейшее сражение. Из пятидесяти данных мною сражений это было сражение, в котором проявлено наиболее доблестей и достигнуто наименее результатов».
Развенчивая ложное величие «непобедимого» полководца, Толстой показывает, в какое смешное положение поставил себя Наполеон, когда он, горделиво стоя на Поклонной горе и любуясь панорамой лежащей у его ног Москвы, ожидал появления депутации бояр с ключами от русской столицы. В воображении Наполеона уже сложилась речь, с которой он обратится к боярам, красивая, торжественная речь: «Я скажу депутации, что я не хотел и не хочу войны; что я вел войну только с ложной политикой их двора, что я люблю и уважаю Александра, и что приму условия мира в Москве, достойные меня и моих народов. Я не хочу воспользоваться счастьем войны для унижения уважаемого государя. «Бояре!» — скажу я им, «я не хочу войны, а хочу мира и благоденствия всех моих подданных». Впрочем, я знаю, что присутствие их воодушевит меня, и я скажу им, как я всегда говорю: ясно, торжественно и велико». Разумеется, никакой депутации не появилось. Толстой с острым сарказмом замечает, что Наполеону «не удалась развязка театрального представления», что и сам император почувствовал это «своим актерским чутьем». Действительно: от величественного до смешного только один шаг.
Толстой даже в описании внешности Наполеона настойчиво подчеркивает такие портретные детали, которые вызывают только чувство едкой иронии, к нему. В сцене приема им русского посла Наполеон выглядит так: «Он был в синем мундире, раскрытом над белым жилетом, спускавшимся на круглый живот, в белых лосинах, обтягивавших жирные ляжки коротких ног. <...> Он вышел, быстро подрагивая на каждом шагу и откинув несколько назад голову. Вся его потолстевшая, короткая фигура с широкими, толстыми плечами и невольно выставленным вперед животом и грудью, имела тот представительный, осанистый вид, который имеют в холе живущие сорокалетние люди».
Образ Наполеона является сатирическим. Острие сатиры направлено на развенчание «европейского героя, мнимо управляющего людьми», на разоблачение деспотизма и диктаторского произвола «сильной личности», которая на деле выполняет «печальную, несвободную роль палача народов».
Наполеон и Кутузов — не просто разные, а во всем полярные характеры. Эти два исторических лица изображены Толстым как взаимоисключающие друг друга: «кутузовское» как символ народного противостоит «наполеоновскому», т. е. антинародному, бесчеловечному. На этой основной нравственной и социальной антитезе держится сюжет и конфликт «Войны и мира», вся система образов этого произведения. Тех из героев, кому писатель отдает свои симпатии, он «уводит» от аморализма «наполеоновских» принципов, взглядов и дел и ставит их на путь сближения с народом, приобщения к основам народной нравственности, к постижению народного самосознания и народного понимания смысла жизни. Через преодоление в себе эгоизма, тщеславия и лжи, воплощенных в Наполеоне, положительные персонажи романа-эпопеи в своем духовном развитии движутся навстречу народу, как к некоему идеалу. Этот нравственно-человеческий идеал, подобно всякому идеалу, недостижим в его полноте, но он,
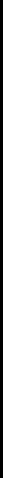




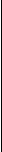
 несомненно, существует для ценимых Толстым героев его «Войны и мира».
несомненно, существует для ценимых Толстым героев его «Войны и мира».Андрей Болконский.
Один из них — Андрей Болконский. Этот «блестящий молодой человек» не является ни исторической, ни «полуисторической» личностью, как, скажем, Василий Денисов, и, следовательно, при создании образа Болконского писателю не было надобности строго соотносить детали его внутреннего и внешнего облика с каким-либо конкретным деятелем эпохи. По авторскому признанию, Болконский — «никто, как и всякое лицо романиста», вымышленный литературный герой, как и Пьер Безухов, и Наташа Ростова, и сотни других действующих лиц «Войны и мира». Но вполне очевидно, что в духовных исканиях князя Болконского нашли отражение умственные и нравственные искания дворянской молодежи того времени, лучшей ее части, в перспективе связанной с декабристами, и в этом смысле названный герой есть лицо историческое.
Социальное поведение и психология этого героя, движение характера Болконского, как и судьбы всех героев эпопеи, естественно, показаны на фоне общеисторического движения, в тесной взаимосвязи с историческими событиями начала столетия. Что выделяет этого толстовского героя из вереницы других персонажей «Войны и мира»? Прежде всего присущий ему духовный аристократизм, сословная гордость и честолюбие. Андрей Болконский унаследовал от отца глубокий ум и рационалистический склад мышления, сильную волю и гордую независимость характера. Он умеет «властвовать собою», подчинять сердце голове, эмоции — контролю рассудка. И оттого князь Андрей выглядит человеком холодно-сдержанным, порою сухим, рассудочно-«головным», что опять-таки роднит его со стариком Болконским и отчасти также со Сперанским. Андрей Болконский любит напряженную работу мысли, любит думать и размышлять — чаще всего молча, наедине с собой, со своим «я», которое он всегда ставит высоко. Это его «я» да еще Пьер Безухов — вот два лица, с которыми Болконский всегда готов вести долгую и искреннюю беседу; с другими же он немногословен и не привык быть открытым, держит себя несколько надменным, подчеркнуто замкнутым.
Интеллектуально он, разумеется, неизмеримо выше людей того социального круга, к которому он сам принадлежит. Человек богатых духовных запросов, живущий своей сложной внутренней жизнью, деятельный по натуре и всегда целеустремленный, Андрей Болконский искренне и глубоко презирает аристократическое светское общество Петербурга, пустое и праздное, олицетворением которого является салон фрейлины Шерер. В этом салоне он / появляется, в сущности, случайно и только один раз, в самом начале повествования. Чувствуется, что атмосфера, которой дышат его завсегдатаи, привычно живущие во лжи и двоедушии, тяжела для Болконского, и он, всегда честный с собой, прямой и энергичный, решает разорвать заколдованный светский круг и выйти из него к другой жизни. Именно в этом — одна из главных причин, побудивших молодого Болконского добровольно вступить в армию и уехать на войну. Знаменательно, что, без колебаний и сожаления уйдя из салона Шерер, он уже никогда не вернется в общество этих ничтожных, нравственно чуждых ему людей.
Был и другой, не менее важный для него побудительный мотив быстрого отъезда в действующую русскую армию. Мотив этот — честолюбивое желание личной славы, добытой собственным воинским подвигом. С Болконским связана разработка Толстым «наполеоновской темы>>. Болконский жаждет повторить судьбу Наполеона, которого он боготворит как героическую, бесстрашную и потому на весь мир прославленную личность. Наедине с собой он признается в том, чего вслух не высказывал: «...я ничего не люблю, как только славу, любовь людскую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно. И как ни дороги, ни милы мне многие люди,—отец, сестра, жена <...>, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, за любовь к себе людей...». Как достичь этого? Надо совершить подвиг, равный подвигу Бонапарта на Аркольском мосту, в Тулоне. Болконскому нужен свой Тулон. Ему нужна слава не ложная, а подлинно великая, безусловно заслуженная им, честная, завоеванная личным мужеством, которое выше страха смерти.
 Любовь к славе столь сильна в Болконском, что он, пренебрегая любовью жены и своим долгом будущего отца, холодно расстается с «маленькой княгиней» и, торопливо распрощавшись с отцом и сестрою, спешит туда, где его ждет величие или гибель. Так намечается основная духовная эволюция этого толстовского героя — от субъективно искреннего, страстного увлечения Наполеоном, символизирующим для него высший взлет человеческой славы, к последующему мучительно-трудному преодолению в себе «наполеоновского» начала, объективно ложного и аморального.
Любовь к славе столь сильна в Болконском, что он, пренебрегая любовью жены и своим долгом будущего отца, холодно расстается с «маленькой княгиней» и, торопливо распрощавшись с отцом и сестрою, спешит туда, где его ждет величие или гибель. Так намечается основная духовная эволюция этого толстовского героя — от субъективно искреннего, страстного увлечения Наполеоном, символизирующим для него высший взлет человеческой славы, к последующему мучительно-трудному преодолению в себе «наполеоновского» начала, объективно ложного и аморального.Что же произошло с Болконским на войне? Идя на военную службу, он твердо держался того убеждения, что обычные «солдаты и мелкие офицеры» очень мало значат и, пожалуй, даже ничего не значат на войне, что роль этих тысяч безымянных людей, составляющих армию, совершенно ничтожна в военном деле, задуманном и осуществляемом великим полководцем, вроде Наполеона. «Ему казалось,— пишет Толстой,— что воина есть дело мысли, гения, исполняемое малыми избранными, к числу которых он причислял и себя». Болконский помнит о своем избранничестве и, в сущности, претендует на роль «сильной личности»: он, конечно, не гений, но и не настолько мал, как те, что внизу, годные только на то, чтобы стрелять, когда им велят, и покорно маршировать туда, куда будет приказано.
Находясь при армейском штабе, Болконский относится к солдатам с презрением, высокомерно, так, точно не они решают «участь сражений», а только высшее начальство. При виде нескончаемого потока поспешно отступающей русской армии он с оттенком брезгливости думает о солдатах: «Это толпа мерзавцев, а не войско». Болконский держится высокомерно и со стоящими ниже его кадровыми офицерами. Он сосредоточен на себе, на мечте о своей славе и подвиге. Когда, приехав в Брюнн, Болконский узнал от русского посла Билибина о безнадежном положении наших войск под Веной, он испытал двойное чувство — огорчения и радости: ему было «горестно и вместе с тем приятно». Отчего же «приятно»? Потому что ярко вспыхнула мысль: именно ему, Болконскому, и именно сейчас «предназначено вывести русскую армию из этого положения», выпал удобный случай совершить давно желанный подвиг, который и «выведет его из рядов неизвестных офицеров и откроет ему первый путь к славе!». Вот он, его Тулон!
Болконского, все еще одержимого мечтой о великой славе, Толстой сводит с капитаном Тушиным. Князь Андрей /четырежды в различных ситуациях встречается с «маленьким артиллеристом», и каждый раз как бы случайно, но необходимо. В фигуре капитана, когда он впервые мельком взглянул на него, Болконскому бросилось в глаза «что-то особенное, совершенно невоенное, несколько комическое, но чрезвычайно привлекательное». Вскоре он неожиданно для себя увидел Тушина перед самым боем у деревни Шенграбен: раздался орудийный выстрел из расположения французов — и «в то же мгновение из балагана выскочил прежде всех маленький Тушин с закушенною на бок трубочкой; доброе, умное лицо его было несколько бледно». И на лицах русских солдат, никогда ранее не возбуждавших его интереса и уважения к себе, Болконский перед шенграбенским сражением узнавал «то чувство оживления, которое было в его сердце». Все это заставило Болконского впервые усомниться в справедливости своего презрительного отношения к этим неярким армейским офицерам, солдатам, ко всему «российскому воинству», как он, вслед за язвительным Билибиным, именовал рядовых русской армии.
Потом была третья встреча, едва ли не самая важная в нравственной эволюции Болконского,— на батарее Тушина, уже в разгар ожесточенного сражения под Шенграбеном. И вот что там произошло между ним и капитаном Тушиным: «Первое, что он увидел, выезжая на то пространство, которое занимали пушки Тушина, была отпряженная лошадь с перебитою ногою, которая ржала около запряженных лошадей. Из ноги ее, как из ключа, лилась кровь. Между передками лежало несколько убитых. Одно ядро за другим пролетало над ним, в то время как он подъезжал, и он почувствовал, как нервическая дрожь пробежала по его спине. Но одна мысль о том, что он боится, снова подняла его. «Я не могу бояться», подумал он и медленно слез с лошади между орудиями. Он передал приказание и не уехал с батареи. Он решил, что при себе снимет орудия с позиции и отведет их. Вместе с Тушиным, шагая через тела и под страшным огнем французов, он занялся уборкой орудий. — А то приезжало сейчас начальство, так скорее дра


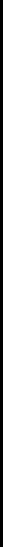 ло,— сказал фейерверкер князю Андрею,— не так, как ваше благородие.
ло,— сказал фейерверкер князю Андрею,— не так, как ваше благородие.Князь Андрей ничего не говорил с Тушиным. Они оба были так заняты, что, казалось, и не видали друг друга». Когда уцелевшие орудия двинулись под гору, Болконский подъехал к Тушину:
«— Ну, до свидания,— сказал князь Андрей, протягивая руку Тушину.
— До свидания, голубчик,— сказал Тушин,— милая душа! Прощайте, голубчик,— сказал Тушин со слезами, которые неизвестно почему вдруг выступили ему на глаза».
Обратим внимание на эту деталь: Болконский не уехал с батареи и вместе с Тушиным «под страшным огнем французов занялся уборкой орудий», а при расставании обменялся рукопожатием с «маленьким капитаном», чего прежде он, конечно, не позволил бы себе в обращении с «низшим чином». Что-то уже изменилось в душе князя Андрея, произошло нечто очень значительное и знаменательное в строе его чувств, еще не осознаваемое им самим. И капитан Тушин в свою очередь искренне проникся уважением к штабному офицеру, который, несомненно, смел, распорядителен, полон самообладания и выдержки.
Болконский еще раз лицом к лицу встретился с Тушиным — в штабе Багратиона, но увидел его уже с новой стороны. Тушин, явившись в штаб по требованию высокого начальства, вел себя «как растерявшийся ученик перед грозным экзаменатором», был робок, растерян и жалок. Это не могло понравиться князю Андрею, умеющему держать себя прямо и смело, с гордым достоинством. В его душе было смешанное чувство уважения и презрительности к жалкому теперь капитану, столь бесстрашному и храброму в бою. Болконский оградил Тушина от неуместных насмешек Жеркова и взял его под защиту от готового вспыхнуть гневом Багратиона, сказав твердо и убежденно: сегодняшней победой русская армия обязана геройской стойкости капитана Тушина и солдат его батареи.
Сближение с Тушиным, в котором воплощены нравственные народные качества, пробудило в славолюбивом и аристократически гордом князе невольную симпатию к этому армейскому офицеру и к безлико-серой солдатской массе. Поразило открытие: геройскую стойкость проявил какой-то Тушин — «мелкий офицер», никогда, очевидно, не помышлявший о подвиге, о личной славе, о «наполеонстве». Болконскому прежде не приходило в голову, что I подвиг не замышляют — его «просто» совершают и совершают без мысли о героизме, без намерения во что бы то ни стало прославиться. Так — через сопоставление князя Андрея и скромного батарейного артиллериста — Толстой снижает и постепенно развенчивает тщеславное высокомерие одного и прославляет буднично-героическое величие другого.
Кумиром князя Андрея по-прежнему оставался великий Бонапарт. Он нетерпеливо жаждал совершить «свой» легендарный Арколь или Тулон. Нужен был только удобный случай. И такой случай представился под Аустерлицем. В ночь накануне сражения Болконский уже знал: завтра он сделает то, к чему давно готовил себя,— навеки прославит свое имя.
В день аустерлицкой битвы князь Андрей в порыве героического воодушевления со знаменем в руках бросился впереди своего батальона. Он бежал, кричал «ура!», не помня себя от возбуждения, опьяненный восторгом радости. Он был красив в своем героизме, храбр и бесстрашен. Но тут произошло нечто непредвиденное: кто-то вдруг как бы со всего размаху крепкою палкой ударил его в голову — и Болконский упал, потеряв сознание. Все произошло трагически и просто.
Чем кончилось сражение, Болконский не видел и не знал. А когда очнулся и открыл глаза — не услышал ни крика, ни выстрелов, и была только тишина, а над головою — небо. «Над ним не было ничего уже, кроме неба - высокого неба, не ясного, но все-таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал,— подумал князь Андрей,— не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист,— совсем не так ползут облака по этому высокому, бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец».
Сознание яркой вспышкой осветило случившееся: все рухнуло! Красиво начатый подвиг загублен, стремительный взбег на вершину славы в первое же мгновение оборвался падением. И тут, на близком расстоянии от себя,


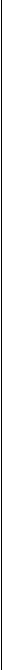 тяжело раненный Болконский впервые увидел того, кто был его кумиром и кого он так боготворил,— увидел Наполеона. Каким ничтожно маленьким теперь показался ему великий полководец, легендарный герой Тулона! И сколько отвратительной фальши было в его напыщенно-красивых словах, случайно услышанных Болконским!
тяжело раненный Болконский впервые увидел того, кто был его кумиром и кого он так боготворил,— увидел Наполеона. Каким ничтожно маленьким теперь показался ему великий полководец, легендарный герой Тулона! И сколько отвратительной фальши было в его напыщенно-красивых словах, случайно услышанных Болконским!Было мучительно больно от сознания того, что кумир враз померк и что он, князь Андрей, так обидно обманулся в величии своего героя, в честолюбивых желаниях неслыханной славы. «Да, я ничего, ничего не знал»,— разочарованно произносит он. Фигура маленького Наполеона и высокое небо над нею — это видение мучает и подавляет мысль и чувство Болконского, составляет «главное основание его горячечных представлений» на поле Аустерлица и потом на госпитальной кровати. Теперь этот великий и всесильный владыка французов, и сам он, Болконский, и все вообще люди, одержимые жаждой славы, почестей и земного величия,— все и всё теперь представилось ничтожным в сравнении с небом, неизмеримо высоким, торжественно-спокойным, величавым и вечным. «Да! все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения».
Сознанием князя Андрея будут долго владеть эти полные горечи и разочарования лирико-философские раздумья, а образ высокого неба с тихо ползущими по нем облаками — как символ возвышенного, недостижимо-идеального, вечного и красивого — будет часто возникать перед его внутренним видением в поворотные моменты его жизни.
Новое потрясение Болконский пережил дома, в Лысых Горах.
Он вернулся туда из госпиталя в тот самый день, когда его жена в муках и страданиях рожала ему сына. Толстой описывает роды как событие величайшей важности, торжественное, глубоко человечное и священное. Во время долго длившихся родов, когда маленькая княгиня то громко стонала, то вдруг затихала, во всем доме, в душе каждого господствовало «сознание чего-то великого, непостижимого, совершающегося в эту минуту». И далее: «Таинство торжественнейшее в мире продолжало совершаться. Прошел вечер, наступила ночь. И чувство ожидания и смягчения сердечного перед непостижимым не падало, а возвышалось. Никто не спал». Описание это выдержано в величаво-торжественном стиле; повседневное, будничное, казалось бы, всем хорошо известное изображено как вечно таинственное и великое. И образ обыкновенной, ничем не примечательной женщины, рождающей ребенка, дарующей человеку жизнь, вырастает в символ подлинно человеческого величия, бессмертия людей, бесконечности жизни на земле.
Роды оборвались смертью «маленькой княгини». Болконский прежде не любил ее, равнодушно оставил ее, гонясь за славой, и вот теперь она лежит в гробу, с лицом, которое как бы говорило ему и всем одни и те же слова упрека: «Ах, что и за что вы это со мной сделали?» Болконский мучительно больно сознает свою глубокую вину перед женою, но уже ничем и никогда он не искупит своей непростительной вины. После кончины жены Болконский «почувствовал, что в душе его оторвалось что-то, что он виноват в вине, которую ему не поправить и не забыть».
Аустерлиц и смерть жены повергли Болконского в состояние мрачной подавленности, пессимизма и мизантропии. В душе все выгорело, обуглилось, и сознание словно оцепенело.
Так двойной нравственной катастрофой закончился этот период жизни Болконского. Начался другой — в глухом уединении, в полном одиночестве. «Жить для себя» — единственное теперь желание Болконского. Он пришел к «успокоительному и безнадежному заключению, что ему начинать ничего было не надо, что он должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая».
Два года он живет затворнически в Богучарове. И чем больше проходит времени, тем все дальше отходит Болконский от внешнего мира, все больше уходит в себя, погружается в глубину своей души, охладевшей и разочарованной. Ему становится мила только неподвижность интеллектуальных переживаний наедине с собой. К живой действительности его лишь на время возвратила тревога, вызванная болезнью Николеньки, а затем — снова самопогружение в тишину, в покой.
О жизни Болконского в это двухлетие писатель говорит очень мало. Единственно важным событием в его жизни был приезд Пьера Безухова. Они вели между собой


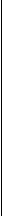
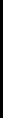 жаркие нравственно-философские споры о смысле жизни, о добре и зле, о долге и назначении человека. Споры эти, продолженные на пароме, внутренне расшевелили Болконского и, хотя и не надолго, вернули его к жизни. По дороге из Богучарова в родовое отцовское имение князь Андрей испытал нечто подобное пробуждению после долгой спячки. Вместе со своим другом, покидая паром, Болконский «поглядел на небо, на которое указал ему Пьер, и в первый раз, после Аустерлица, он увидал то высокое, вечное небо, которое он видел лежа на Аустерлицком поле, и что-то давно заснувшее, что-то лучшее, что было в нем, вдруг радостно и молодо проснулось в его душе. Чувство это исчезло, как скоро князь Андрей вступил опять в привычные условия жизни, но он знал, что это чувство, которое он не умел развить, жило в нем». Это свидание с Пьером явилось для Болконского «эпохой, с которой началась хотя во внешности и та же самая, но во внутреннем мире его новая жизнь».
жаркие нравственно-философские споры о смысле жизни, о добре и зле, о долге и назначении человека. Споры эти, продолженные на пароме, внутренне расшевелили Болконского и, хотя и не надолго, вернули его к жизни. По дороге из Богучарова в родовое отцовское имение князь Андрей испытал нечто подобное пробуждению после долгой спячки. Вместе со своим другом, покидая паром, Болконский «поглядел на небо, на которое указал ему Пьер, и в первый раз, после Аустерлица, он увидал то высокое, вечное небо, которое он видел лежа на Аустерлицком поле, и что-то давно заснувшее, что-то лучшее, что было в нем, вдруг радостно и молодо проснулось в его душе. Чувство это исчезло, как скоро князь Андрей вступил опять в привычные условия жизни, но он знал, что это чувство, которое он не умел развить, жило в нем». Это свидание с Пьером явилось для Болконского «эпохой, с которой началась хотя во внешности и та же самая, но во внутреннем мире его новая жизнь».Болконский занялся хозяйством: в одном имении он перечислил крепостных крестьян в вольные хлебопашцы, в другом заменил барщину оброком. То, что делал Болконский, для его времени было редкостью.
Поворот в отношении Болконского к жизни, перелом в строе его чувств и мыслей произошел после встречи с Наташей Ростовой в Отрадном. Он впервые полюбил. Любовь эта, как всякая истинная любовь, безраздельно завладев всем его существом, наполнила его душу счастьем, и с этого мгновения он почувствовал себя словно вновь родившимся и заново начинающим жизнь. На вдруг помолодевшего Болконского «нашло беспричинное, весеннее чувство радости и обновления. Все лучшие минуты его жизни вдруг в одно и то же время вспомнились ему. И Аустерлиц с высоким небом, и мертвое, укоризненное лицо жены, и Пьер на пароме, и девочка, взволнованная красотою ночи, и эта ночь, и луна,— и все это вдруг вспомнилось ему».
Явилась жажда деятельности, но уже не ради личной славы и гордого самовозвеличения, а деятельности с мыслью о благе других людей. Любовь к славе не уничтожена полностью, но это чувство трансформировалось и наполняется теперь новым содержанием. Не отказываясь от славы вообще, Болконский теперь живет не исключительно ею; он хочет вот чего: «...надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня шла моя жизнь, чтоб не жили они так независимо от моей жизни, чтоб на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!» Любовь к женщине, слава и общественное благо — все это теперь сливается воедино, становится целью его жизни, смыслом обновленного бытия.
Деятельное участие в жизни теперь мыслится Болконским как государственная деятельность. Он спешно уехал в Петербург. С ведома и благословения «самого» Аракчеева, который был военным министром, князя Андрея зачислили «в комитет о воинском уставе». Служить он должен был под руководством государственного секретаря Сперанского, с которым его познакомил граф Кочубей.
Болконский со страстной увлеченностью и свойственной ему энергией занялся выработкой проектов будущих реформ, задуманных Сперанским. Он проникся доверием и глубоким уважением к самому реформатору, который представлялся ему бескорыстным и самонужнейшим в настоящее время государственным деятелем в России. Болконский увидел в Сперанском «разумного, строго мыслящего, огромного ума человека, энергией и упорством достигшего власти и употребляющего ее только для блага России». Высокие интеллектуальные и волевые качества Сперанского не могли не импонировать Болконскому. И поэтому «первое время своего знакомства с Сперанским князь Андрей питал к нему страстное чувство восхищения, похожее на то, которое он когда-то испытывал к Бонапарту».
Вскоре, однако, настало разочарование и в Сперанском, и в реальной пользе и значении того дела, каким; Болконский вместе с ним занимался. Сперанский оказался двойником Наполеона — столь же самоуверенным, холодным и, в сущности, ничтожным, как и французский император, только на русской гражданской государственной службе. Такие люди теперь были глубоко неприятны Болконскому своей неискренностью, фальшью и эгоизмом.
В этих переходах от поклонения перед избранным им в герои человеком к его безоговорочному осуждению, от искренней и страстной увлеченности к разочарованию — путь духовного движения князя Болконского. В последние три года, предшествующие Отечественной войне, он много «передумал, перечувствовал, перевидал», успел
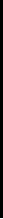
 объехать и запад и восток, хотя никакого описания его заграничного путешествия в романе-эпопее нет.
объехать и запад и восток, хотя никакого описания его заграничного путешествия в романе-эпопее нет.Отечественная война 1812 года была для Болконского новой эпохой. Его потрясли пожар Смоленска и уход из города населения. Тут он впервые воочию увидел обрушившееся на страну и народ великое бедствие: горит древний город, уничтожается добро, разорены деревни, неубранным остается хлеб на полях. Изнурена боями и отступлением армия. Враг несет России разоренье и смерть. Болконский, недавно боготворивший Наполеона, теперь исполнен уже не только презрения, но и жгучей ненависти к своему вчерашнему идолу и к каждому из солдат его армии. Пьеру Безухову он говорит теперь о французах желчно, зло, мстительно: «Французы разорили мой дом и идут разорить Москву, оскорбили и оскорбляют меня всякую секунду. Они враги мои, они преступники все по моим понятиям. И так же думает Тимохин и вся армия. Надо их казнить. Ежели они враги мои, то не могут быть друзьями...». Врага надо уничтожать безжалостно. Болконский до предела ожесточен, он не устает повторять: «Не брать пленных, а убивать и идти на смерть!»
Чувства ненависти и злобы к врагу осложнены чувством горечи и оскорбленного достоинства: Наташа Ростова предпочла другого — развратного, беспутного Анатолия. Если так могла поступить Наташа, то чего же стоят другие? И какова цена клятвам в любви, в верности? Есть ли в них смысл? И есть ли любовь? Болконский теперь не верит в нее, не верит в Наташу. В его сознании после разрыва с Наташей снова промелькнул образ неба, но уже с низко опустившимся и давящим сводом: явилось ощущение, словно «тот бесконечный удаляющийся свод неба, стоявший прежде над ним, вдруг превратился в низкий, определенный, давивший его свод, в котором все было ясно, но ничего не было вечного и таинственного».
Накануне Бородинского сражения он находится в состоянии тяжкой подавленности. Он давно перестал думать о славе, о подвиге. «Я иду в армию, зачем?» — мысленно спрашивает себя Болконский перед Бородино и с безнадежностью отвечает: «...сам не знаю, и желаю встретить того человека, которого презираю, для того, чтобы дать ему случай убить меня и посмеяться надо мной!». В себе он давно вытравил все «наполеоновское», а нового, положительного идеала у него нет. Его душа и ум во власти глубокого скепсиса.« «Слава, общественное благо, любовь к женщине, самое отечество — как велики казались мне эти картины...»,— говорит себе Болконский. Все это когда-то казалось великим. Теперь — не то: «теперь все рассыпалось».
Что же остается во всем разуверившемуся человеку? Умереть. Болконский уже заранее примирился с мрачной мыслью о своей смерти как неизбежной и желанной развязке его неудавшейся жизни, ждет смерти и бессознательно ищет ее.
Пока он жив, он, разумеется, не перестает думать о вероятном исходе завтрашнего кровопролития под Бородино. Он всеми силами своей ожесточившейся души хочет, чтобы завтра французы были разбиты и посрамлены. Он говорит Пьеру убежденно и горячо то самое, во что давно уверовал любимый и почитаемый им Кутузов: военный успех зависит не от распоряжений великих стратегов, а от состояния духа войск, от того чувства, которое есть в каждом солдате, в Тимохине, в нем самом: «Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть». Болконский мысленно объединяет себя со всем войском; в нем уже нет прежнего брезгливо-высокомерного взгляда на солдат и маленьких офицеров. Он понимает, что вся надежда — на людей в солдатской шинели, что за ними — решающее слово, с ними — правда. И сам он вместе с ними совершает на поле Бородино подвиг.
Несомненно, что Болконский решительно преодолел недавние ложные представления о герое и подвиге, отказался от увлечения «лживой формой европейского героя», изменил свои взгляды на войну: теперь он знает, что «война не любезность, а самое гадкое дело в жизни». И во всем этом едва ли не решающая заслуга принадлежит людям, выступающим в «Войне и мире» носителями «мысли народной». Только благодаря им Болконский пришел к осуждению всего «наполеоновского», т. е. безнравственного, противочеловечного, чуждого и враждебного народу как творцу жизни и строителю мира. Логика всей жизни и характера Болконского неизбежно развивалась в том направлении, которое вело его к постижению духа русского народа, к осознанию народной правды, народного понимания исторических событий.

 Но все же в Болконском, говоря словами Толстого, было «более себялюбия, чем любви к народу». В Бородинской битве оборвалась земная жизнь Болконского — и на полпути остановилось его нравственное, духовное развитие. Ему не суждено было достичь ни тесного сближения с народом, ни полного взаимопонимания с ним, ни тем более — духовного слияния с народными массами.
Но все же в Болконском, говоря словами Толстого, было «более себялюбия, чем любви к народу». В Бородинской битве оборвалась земная жизнь Болконского — и на полпути остановилось его нравственное, духовное развитие. Ему не суждено было достичь ни тесного сближения с народом, ни полного взаимопонимания с ним, ни тем более — духовного слияния с народными массами. 