Международный конкурс «Энергия Будущего 2008» «Классики ядерной сферы» «сибирский хан» Аналитическое
| Вид материала | Конкурс |
- Международный конкурс «Энергия Будущего 2008» «ядерно-энергетические транспортные установки», 375.47kb.
- Международный конкурс «Энергия Будущего 2008» «Влияние различных видов загрязнения, 598.1kb.
- Международный конкурс «Энергия Будущего 2008», 335.28kb.
- Конкурс научно-образовательных проектов «Энергия будущего 2006», 162.44kb.
- Конкурс научно-образовательных проектов «Энергия будущего-2008», 796.25kb.
- Родовая ветвь: Тауке хан – Самеке хан – Есим хан – Кудай менды – Конур Кульжа – Абылай, 287.62kb.
- 1. Основы ядерной энергетики. 1 стр, 293.15kb.
- Конкурс философских сочинений на тему: «Человечество на распутье: образы будущего», 21.47kb.
- Конкурс исследовательских и проектных работ «Энергия будущих поколений», 24.84kb.
- Конкурс школьных проектов по энергоэффективности «Энергия и среда обитания», 102.5kb.
 |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ Федеральное государственное унитарное предприятие «СИБИРСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (ФГУП «СХК») Управление по связям с общественностью ________________ ________________ |
Город СЕВЕРСК
МУ СОШ № 84
Международный конкурс «Энергия Будущего - 2008»
«Классики ядерной сферы»
«СИБИРСКИЙ ХАН»
Аналитическое исследование
Выполнила учащаяся 9 «А» класса
КОЛОМИНА МАРИНА
Контактный телефон
8-38-23-98-19-08
Руководитель проекта
Учитель физики и информатики РЫБИНА Л.Н.
Контактный телефон
8-38-23-98-19-08
E-mail- rln2005@mail.ru
СЕВЕРСК 2008
Содержание
От автора___________________________________________________стр.3
Введение_____________________________________________________стр.3
Голубая мечта юности_________________________________________стр.3
Родной политехнический ____________________________________стр.5
Перст судьбы________________________________________________стр. 6
Диссертация - сублиматный завод ______________________________стр.8
Поворот в судьбе - Химико-металлургический завод ____________стр.9
Москва______________________________________________________стр.10
Томский нефтехимический____________________________________стр.12
Главное дело жизни___________________________________________стр.15
«Пенсионера из меня не получилось»___________________________стр.19
Вместо заключения : «И снова бой, покой нам только снится!»____стр.19
От автора __________________________________________________стр.21
Литература__________________________________________________стр.22
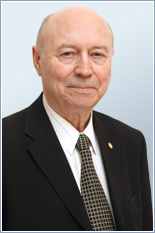
ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ ХАНДОРИН
Родился в 1932 г. в г. Томске.
Трудовую деятельность на СХК начал в 1956 г. после окончания с отличием ФТФ ТПИ.
За время работы прошел путь от начальника смены до генерального директора комбината.
С 1980 по 1985 годы работал в 4-м Главном управлении Минсредмаша (г. Москва).
В 1985-1990 гг. – генеральный директор ПО «ТНХК».
В 1990-2000 гг. – генеральный директор СХК.
Доктор технических наук, профессор, академик Академии технологических наук РФ и Азиатско-Тихоокеанской Академии материалов.
Профессор ТПУ.
Директор Томского атомного центра.
Почетный гражданин г. Северска.
Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени (1962 г., 1974 г.), орденом Почета (1996 г.), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999 г.)
От автора :
Когда видишь все вершины, которые сумел покорить этот необыкновенный человек, то невольно кажется, что перед нами баловень судьбы, которому всегда и везде очень везло. Он стал генеральным директором крупнейшего в мире ядерного предприятия, он достиг больших высот в науке, став доктором наук и профессором, он был избран в Городскую Думу подавляющим числом голосов избирателей.
В чём секрет такой яркой и насыщенной жизни? Может действительно дело только в фатальном везении, а может быть есть ещё какой-нибудь секрет? Ответу на этот вопрос посвящается настоящая работа.
Введение
Трудно представить, что атомщик, доктор технических наук, человек, возглавлявший крупнейшее в России атомное предприятие - Сибирский химический комбинат - и сумевший вывести его на новый уровень в самое сложное для российской промышленности десятилетие, - трудно представить, что такой человек верит в судьбу. Тем не менее, в нашем разговоре с Геннадием Петровичем Хандориным, человеком-легендой как для СХК, так и для образованного вокруг этого гиганта города Северска, слово "судьба" звучало неоднократно. Геннадий Петрович убежден, что именно рука судьбы направляла его по жизни, и даже в том, что он стал атомщиком, "виновата" только она - судьба.
Голубая мечта юности
В детстве родившийся в сухопутном Томске Гена Хандорин мечтал стать моряком. И пока его сверстники год от года меняли свои пристрастья, он был верен никогда не виденному им морю. Мечта о море может быть многогранной: стать знаменитым путешественником, исследователем морских глубин или новых земель, водить сухогрузы с восточными пряностями или танкеры с нефтью, стать офицером и защищать на крейсере или линкоре рубежи Родины, служить на подводной лодке, скрытно подбираясь к берегам противника ... К старшим классам школы представление Геннадия о будущей карьере окончательно сформировалось: военный инженер на флоте. Но судьба имела на него другие виды.
На первой в своей жизни медкомиссии, проходя при военкомате процедуру "приписки", Геннадий узнал, что у него цветоаномалия - небольшой дефект зрения, при котором человек не различает оттенки некоторых цветов. Десятиклассник Хандорин послал запрос в Ленинград, в Военно-морское инженерное училище им. Дзерджинского: может, для инженерного училища это не так важно? Официальный ответ пришел удивительно быстро, но Геннадия он не обрадовал: требования везде оказались одинаковы. Через несколько месяцев у Геннадия появился еще один шанс все-таки добиться исполнения своей мечты: после выпускных экзаменов его и нескольких других томских ребят вызвали в обком комсомола, чтобы направить на учебу в Военно-морское училище во Владивостоке. И на этот раз медкомиссию он прошел - видимо, ради хороших показателей работы томского обкома на некоторые "мелочи" закрыли глаза.
Так в 1950 году он оказался во Владивостоке и впервые увидел вожделенное море. И уже совсем близко было воплощение мечты: Хандорину, как "серебряному" медалисту, даже экзамены сдавать было не нужно. Правда, и тут была медкомиссия. Уже более принципиальная. Начальник медсанчасти, узнав, что парень рвется на флот, вздохнул: мол, пришел бы ты ко мне раньше, до того, как выявили твой недостаток, а так - только если начальник училища разрешит. Начальник был в то время в отъезде, и принял Геннадия завуч, капитан первого ранга, который оказался ему "товарищем по несчастью", а, тем не менее, успешно отслужил четверть века. На флот он попал по так называемому "ворошиловскому призыву": в один год у доброй половины призывников на Балтийском флоте была выявлена цветоаномалия, и, чтобы не сорвать призыв, Ворошилов лично распорядился принять всех. Так что завуч обещал помочь, и окрыленный Геннадий вместе с товарищем в первый и, как выяснилось, единственный, раз сходил в "самоволку"...
Каково же было разочарование уже видящего себя курсантом Хандорина, когда на утренней поверке старшина велел ему отправляться домой! "Не вышло у капитана", - решил он и, больше ни к кому не обращаясь, в тот же день уехал. Только через некоторое время, встретив в Томске еще одного парня из их владивостокской команды - и тоже медалиста, только "золотого", - Геннадий понял, как все произошло. Завуч, видимо, дал команду принять "медалиста из Томска", вот их и перепутали. И только когда Акинфиев - медалист, который, в отличие от Хандорина, на флоте служить вовсе не хотел, поинтересовался, когда же его домой отправят, в училище поняли, что приняли не того. Так в Военно-морском училище не осталось ни одного "медалиста из Томска", зато оба они со временем оказались на Сибирском химическом комбинате.
Родной политехнический
После крушения детской мечты Геннадию было все равно, где и на кого учиться. И когда соседский парень начал рассказывать о своей учебе в ТПИ, он прислушался. "Замечательный факультет, такая интересная специальность, завод в Ереване!" - речь шла о специальности "синтетический каучук" на химико-технологическом факультете, куда Геннадий и отнес свои документы, причем был тут же, как медалист, принят.
Впрочем, довольно скоро выяснилось - то, что хорошо соседу, нехорошо ему. Дело в том, что физику и математику Геннадий Хандорин любил, они с одноклассником Борисом Науменко даже соревновались, кто больше прочел глав из многотомного труда Смирнова "Высшая математика". Такое вот развлечение было во время каникул.
А вот химию Хандорин любил не очень. Поэтому вскоре пошел на электрофизический факультет: мол, нельзя ли перевестись? Оставил свои данные. После первого курса его и пригласили, только не на ЭФФ, а на второй курс нового, секретного, физико-технического факультета, на который тогда набирали успешных студентов со всего института.
Геннадий Хандорин в полной мере относился к категории успешных: серьезное отношение к учебе у него сформировалось на первой сессии, когда на экзамене по аналитической химии доцент Ходалевич ему сказал: "Я могу тебе сегодня поставить "тройку", но лучше подготовься и приди завтра пересдай". Посидев над тетрадями ночь, Хандорин получил "отлично". И с тех пор ни разу не допустил того, чтобы в его зачетке появилась даже "четверка". Все пять с половиной лет учебы в ТПИ.
"У нас были очень хорошие преподаватели, с очень известными сейчас именами, - вспоминает сегодня Геннадий Петрович. - Кафедрой заведовал профессор Николай Павлович Курин. Работали с нами Тронов, Кулев - корифеи, можно сказать. Квантовую механику читал отличный специалист Черданцев, тогда он еще молодой был. Борис Николаевич Родимов был профессором на факультете - такой умный, организованный человек. Помню, как читал нам математику доцент Малявинский - он работал в ТЭМИИТе (нынешний ТУ СУР), и не он к нам приезжал, а мы ездили на его лекции. Так читал - заслушаешься! В общем, много вокруг тогда было умных людей, наверное, благодаря ним и в голове что-то осталось".
В то же время, впечатление от обучения оставалось, по его словам, несколько странным. Студенты, записывающие спецтехнологии в засекреченных тетрадях, которые потом сдавали под запись в первый отдел, даже на четвертом курсе не вполне представляли себе, зачем они это учат, и где, в конце концов, будут работать. "То ли с графитом, то ли с какой-то химией", -говорили они между собой.
Впоследствии, став опытным атомщиком, защитив докторскую, Хандорин решил восполнить для сегодняшних студентов тот пробел, который мешал ему в юности. Сейчас он читает для студентов ФТФ ТПУ курс "Введение в технологию и экономику атомной отрасли", чтобы дать им понять, что такое атомная отрасль в целом, и в каком месте технологической цепочки находится то или иное предприятие.
А вот практики, по мнению Геннадия Петровича, были тогда организованы очень хорошо, подход к ним был серьезным. Преподаватели во главе с тогдашним деканом факультета Владимиром Никоновичем Титовым старались, чтобы студенты лучше узнали разные химические производства. Так, после третьего курса Хандорин с однокашниками оказались в Кемерово, на азотнотуковом заводе. Здесь они познакомились с "большой химией", ходили в смены, и днем, и ночью, стояли на рабочих местах. Геннадия один из аппаратчиков взял под свою опеку, рассказывал все, даже давал "вентиля покрутить".
Вторая практика проходила в Горловке, в Донбассе, также на азотно-туковом комбинате. Но ситуация была другой - тем летом он стоял на ремонте. Практиканты были задействованы на вспомогательных работах по ремонту, посмотрели оборудование изнутри. На комбинате остались довольны студентами, и в конце практики даже организовали им выезд к Азовскому морю. Приехали поздно, ночевали в каком-то парке, но эти свои юношеские впечатления о Мариуполе Геннадий Петрович до сих пор вспоминает с нежностью.
А преддипломная практика пришлась на Армению. На химкомбинате в Кировокане почти готовые молодые специалисты изучали технологию и оборудование производства "тяжелой воды", в которой вместо двух атомов водорода находятся два атома дейтерия. "Тяжелую воду" используют как замедлитель нейтронов в процессах разного рода.
С "тяжелой водой" была связана и дипломная работа Хандорина. Весь 6 курс был посвящен дипломному проектированию, и за это время Геннадий сделал расчет оборудования для целого цеха по производству "тяжелой воды". "Тогда практически не было такого понятия - "дипломная работа", только "дипломный проект", - говорит Геннадий Петрович. - Конечно, по нашим проектам никто ничего не строил, но в процессе работы мы приобретали необходимые навыки. Тогда считалось, что инженер должен уметь проектировать, без этого он - не инженер. На мой взгляд, это правильно".
Проект Хандорина понравился профессору Курину, он даже предложил Геннадию выступить с докладом перед преподавателями и аспирантами кафедры - познакомить с технологией, о которой тогда знали далеко не все.
Перст судьбы
23 февраля 1956 года состоялась защита диплома и первое знакомство с людьми, представлявшими "Почтовый ящик № 153" - предприятие, которое теперь называется Сибирский химический комбинат. Председателя ГЭК Александра Семеновича Леонтичука, тогдашнего главного инженера комбината, в этот день, правда, не было. С ним Геннадию Хандорину выпало познакомиться позже. Зато его заместитель, Борис Вениаминович Громов, произвел на без пяти минут инженеров колоссальное впечатление. В этот день они впервые увидели человека со звездой Героя Соцтруда на одном лацкане пиджака и с медалью лауреата Сталинской премии на другом. В общем, увидели, "делать жизнь с кого". Впоследствии он стал одним из людей, сыгравших большую роль в жизни будущего генерального директора СХК. Хандорин до сих пор вспоминает о нем, как о своем Учителе. А тогда, в 1956 году, Геннадий еще не знал, что будет работать на комбинате. Ему, отлично защитившемуся и получившему "красный" диплом, можно было самостоятельно выбирать место будущей работы. Из списка, который ему предложили, как-то ни одно место ему не приглянулось. И вместе со своим однокашником он поехал в Новосибирск искать работу наудачу. Не получилось - видимо, нити судьбы опять натянулись и не дали Хандорину оказаться не в том месте, в котором он был нужен. Вернувшись, он узнал, что два его одногрупника - Александр Долгих и Валентин Хорин - уже работают на П/я№153.
П/я №153 (Сибирского химического комбината) в списке распределения не было. Уже тогда на СХК существовал другой принцип подбора кадров: не молодые специалисты выбирали предприятие, а предприятие выбирало себе подходящие кадры. Осенью 1955 года на факультет приезжал кадровик с комбината, знакомился с выпускниками и на тех, кто ему приглянулся, были составлены персональные заявки. Будущий гендиректор представителю СХК, видимо, не "показался". Кстати, Хандорин оказался незлопамятным, и уже в годы его директорства у него были вполне хорошие отношения с этим когда-то забраковавшим его кадровиком.
А тогда для устройства на работу нашлись другие пути: встретил в институте Громова, который запомнил его хорошую защиту, пошел в филиал отдела кадров комбината, расположенный в Томске...
В апреле 1956 года он попал на строящийся 15 объект, ныне радиохимический завод, где вместе с другими эксплуатационниками вел приемку оборудования, следил за монтажными работами. Через несколько месяцев, когда РХЗ уже стал знакомым и близким, начальник группы велел Хандорину идти в отдел кадров - его, мол, хотят перевести на другой объект. "Мне и здесь нравится", - сказал Геннадий, и не пошел. Через два дня за ним приехал лично начальник отдела кадров Никулин. Интересно, что приехал он на серой "Победе" главного инженера Леонтичука, за рулем которой сидел Владимир Николаевич Карпачев. Прошли годы, и он стал водителем генерального директора Геннадия Петровича Хандорина, и оба вспомнили эту поездку. А в 1956 году, когда молодому специалисту пришлось покориться и сесть в машину, его привезли на 10 объект (сублиматный завод), директором которого и был Борис Вениаминович Громов.
Конечно, Геннадию Хандорину было "не к лицу и не по летам" стремиться в друзья своему начальнику. Но тот сам заметил молодого инженера, увидел в нем что-то симпатичное, обнаружил схожесть вкусов, и даже приглашал его к себе домой - например, послушать новую запись классической музыки, обсудить концерт Святослава Рихтера... Кстати, называл он своего подчиненного всегда по имени-отчеству - многим современным руководителям стоило бы поучиться такой интеллигентности. Впрочем, интеллигентности научиться нельзя. К сожалению.
Диссертация - сублиматный завод
Именно на 10 объекте начала складываться карьера Геннадия Хандорина: инженер, начальник смены, начальник производства фтора, начальник цеха производства гексафторида урана... Вот только главным инженером 10 объекта побыть не довелось - с должности начальника цеха Хандорина сразу назначили директором завода. По словам самого Геннадия Петровича, никаких усилий для карьерного роста ему прилагать не приходилось - все решало начальство, ему было нужно только не отказываться.
Впрочем, такое начальство, как Громов, побуждало стремиться к самосовершенствованию. Геннадий Петрович вспоминает такой случай: "Когда я работал начальником производства фтора, потребовалось увеличить уровень его мощности, поставить дополнительные аппараты. Все это надо было сделать срочно. Приходит в цех Громов: "Ну, как дела?" - "Да никак, проекта нет, работы остановились", - отвечаю. - "А вы на что?" - "Но я же не проектная организация". - "Вы - инженер! Садитесь за кульман, и чтобы проект был готов!" Вот как понимали слово "инженер" в те времена! И я, действительно, пошел в свой закуток, сел за чертежную доску и нарисовал планировку и какие-то еще чертежи. По этим чертежам всю планировку и сделали, хотя, по большому счету, они никакой критики не выдерживали. Но монтажникам было достаточно, чтобы эти несколько аппаратов поставить". Производство на сублиматном заводе в те годы было несовершенным. Если честно, оно было ужасным. Аппаратура, технологии, особенности - были еще настолько не изучены, что весь процесс (превращение тетрафторида урана в гексафторид) приходилось изучать на собственном опыте и здоровье. Достаточно сказать, что противогаз являлся необходимой частью униформы работников.
Зато и возможностей для приложения сил было немало. Усилия молодых инженеров не пропали даром - завод, как говорит сам Хандорин, в конце концов, превратился "в конфетку". В 70-ых годах на сублиматный пригласили наших ученых, которые, обойдя его, заявили: "Вот теперь завод можно показывать иностранцам".
Немалую роль в этом превращении сыграл и сам Хандорин. В 1961 году он получил свой первый орден - Трудового Красного Знамени. "За "кузькину мать", - шутит он сейчас.
Кандидатскую диссертацию Хандорин защищал в 1969 году на тему совершенствования существующей на 10 объекте технологии и аппаратуры. А следующим этапом реконструкции сублиматного завода стало создание нового производства, технология которого была разработана Хандориным совместно с главным инженером сублиматного Александром Ивановичем Карелиным и директором комбината Степаном Ивановичем Зайцевым и легла в основу докторской диссертации Геннадия Петровича, защищенной им в 1974 году. "Для меня, да и, думаю, для всех инженеров, - считает Хандорин, - должно быть правилом - не бояться нового и неожиданного, и над любой технологией думать: "А почему процесс идет именно так, что будет, если вести его по-другому?" Одно из самых важных качеств инженера - любопытство". Именно это качество, присущее самому Геннадию Петровичу, и легло в основу его докторской диссертации: он предложил схему получения гексафторида урана, минуя стадию тетрафторида, прямо из оксидов. Схема была короче, удобнее, экономичнее. Из-за этой идеи был даже закрыт завод в Кирово-Чепецке, построенный по старой технологии.
Теперь, когда ему приходится проезжать со знакомыми мимо 10 объекта, он иногда говорит, показывая на построенный тогда корпус: "Вот моя докторская диссертация стоит..."
На 10 объекте Геннадий Петрович Хандорин проработал 16 лет, с 1956 по 1972 годы.
Поворот в судьбе - Химико-металлургический завод
В 1961 году был запущен 25 объект, ныне - химико-металлургический завод. Достаточно сложный завод - и по технологии, и, как оказалось, по чисто человеческим отношениям. К 1972 году там образовалось противостояние между группой работников и руководством - директором завода, Всеволодом Степановичем Некрашевичем, и главным инженером, Борисом Николаевичем Лоскутовым. Нашлись люди (их фамилии Геннадию Петровичу, по его собственному выражению, просто не очень приятно вспоминать), которые писали во всякие инстанции, дошли даже до секретарей ЦК партии. Коллектив раскололся, обстановка была напряженной, и директор СХК Степан Иванович Зайцев решил, что лучшим решением в такой ситуации будет поменять директора завода. На Геннадия Петровича Хандорина.
"Нужен был человек со стороны", - так оценивает эту ситуацию сам Хандорин. По словам Геннадия Петровича, "новый человек" определился сразу: к назначенному вместо Лоскутова главным инженером бывшему начальнику цеха Михаилу Ивановичу Кузнецову он быстро проникся доверием, и тут же это всем продемонстрировал. В конце концов, после того, как самых отчаянных "революционеров" рассортировали по разным объектам, и ХМЗ "вошел в колею". Он вновь стал отлично работать. А сам Хандорин уже в XXI веке говорил: "Несмотря ни на что, самые счастливые годы моей трудовой биографии (с апреля 1972 года по ноябрь 1980 года) прошли на этом заводе".
Счастье для него отнюдь не было синонимом безмятежности. Эти годы, по его признанию, были трудными. И все-таки... Воплотились, по словам самого Геннадия Петровича, его нереализованные мечты о военной службе. Это была работа на благо Государства - ведь этот завод выдавал конечный продукт, необходимый для нашей "оборонки". Там тоже удалось ввести много усовершенствований, новых процессов, и неоднократно наградой для Хандорина были речи Брежнева, в которых намеками сообщалось советскому народу, а также представителям капстран, каких вершин достигли наши ученые.
Но все-таки, если говорить о ХМЗ, для директора очень важным было живое представление о порученном ему коллективе. Уже в апреле 1972 года, на вечере самодеятельности новоназначенный директор мог сказать, что порученный ему коллектив совершенно здоров - хотя бы потому, что его интересы не замыкаются только на производстве. "Дай бог это сохранить!" -подумал тогда новый директор. Но его ждали и другие испытания, в которых ему лучшими помощниками были увлеченные люди с ХМЗ. Это случилось впервые в СССР. Однажды осенью один из работников его завода вместе с сыном и своим приятелем поехал в лес за грибами. У его сынишки болела нога, и он остался в машине. А когда отец вернулся, мальчика он уже не нашел. Потом выяснилось, что это было похищение ребенка с целью получения выкупа - преступление, о котором никто в Союзе тогда даже не слышал. Говорят, даже Политбюро поставили в известность, подняты были все инстанции. Прошла целая страшно напряженная неделя, в течение которой мальчика искали представители милиции, КГБ, солдаты, и, конечно, заводские товарищи его отца.
В первый вечер же позвонили Хандорину домой (все случилось в выходной день), и он помог поднять людей на поиски. С утра и до вечера взрослые прочесывали лес, а туристы-экстремалы, работавшие на ХМЗ и к тому времени исходившие Север, горы и реки, разбили в лесу лагерь, в котором оставались и на ночь - вдруг мальчик увидит огонь и сумеет выйти к костру. Каждый день на место поисков приезжал и директор, который спать не мог, представляя себе всякие ужасы, которые могли случиться с мальчишкой. Парнишка, слава богу, нашелся - оказывается, похитители держали его в землянке немного в стороне от места похищения, обращались с ним нормально, кормили. А потом, видимо, отвлекшись на звонки его родителям, надолго задержались в городе. Оголодав, ребенок решил спасаться самостоятельно, сумел выбраться из землянки, осмотрел окрестности и, в конце концов, вышел на дорогу. Двух студентов, которые таким образом решили "заработать" себе на машину, потом, конечно, нашли. И осудили, несмотря на то, что даже статьи, предусматривающей ответственность за похищение человека, тогда в Уголовном кодексе не было. Этот ли случай сплотил коллектив завода, или просто народ постепенно проникся доверием к новому директору, но работа на ХМЗ вошла в нормальную колею, жизнь наладилась.
В этот период Хандорину приходилось осваивать много нового, внедрять новые технологии, оборудование, а главное, за что он до сих пор благодарен судьбе, в бытность директором ХМЗ, он познакомился и подружился со многими интересными людьми. Одним из них был главный инженер завода Михаил Иванович Кузнецов. Он оканчивал Военно-механический институт в Ленинграде, был очень способным человеком, талантливым металлургом, работал на ленинградском заводе "Светлана", потом в качестве советника был направлен в тогда еще "братский" Китай, затем работал в Красноярске. В Томск-7 Кузнецов приехал уже сложившимся, опытным инженером. Еще одним заметным человеком был Владимир Михайлович Кондаков - хороший специалист и руководитель, ушедший на пенсию с должности главного инженера СХК. Кроме своих, комбинатских товарищей, Геннадию Петровичу в те годы довелось познакомиться с будущим атомным министром Рябевым, с конструкторами-оружейниками Литвиновым, Фишманом, Негиным, Харитоном и многими другими.
