«Российский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»
| Вид материала | Автореферат диссертации |
СодержаниеРезультаты исследования и их обсуждение |
- «Российский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению, 568.86kb.
- «Российский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению, 975.58kb.
- «Российский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению, 545.1kb.
- «Сибирский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению, 927.55kb.
- Кубанский государственный медицинский университет федерального агентства по здравоохранению, 821.27kb.
- «Казанский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению, 863.64kb.
- «Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского Федерального, 378.09kb.
- Гепатопротекторные свойства флавоноидов (фармакодинамика и перспективы клинического, 671.3kb.
- «ультразвуковая диагностика кишечной непроходимости» 14. 00. 27 хирургия, 401.81kb.
- «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова Федерального, 241.22kb.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для выполнения поставленных задач было изучено состояния ВОПТ у детей в зависимости от массы тела, возраста, пола и роста. Физическое развитие является показателем состояния здоровья и отражает процессы роста и созревания детского организма. В обеих группах среди мальчиков и девочек преобладали дети среднего и высокого роста, больше половины основной группы составили высокие дети, результаты оценки физического развития детей обеих групп представлены в таблице 3.
Таблица 3
Физическое развитие детей основной группы (n=187)
и группы сравнения (n=129), кол-во (%)
| Группа | Основная | Сравнения | |||
| Пол | М (n=121) | Д (n=66) | М (n=71) | Д (n=58) | |
| Гармоничное развитие | Низкое | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 6 (8 %) | 4 (7 %) |
| Ниже среднего | 0 (0 %) | 0 (0 %) | 5 (7 %) | 6 (10 %) | |
| Среднее | 3 (3 %) | 1 (2 %) | 34 (48 %) | 25 (43 %) | |
| Выше среднего | 17 (14 %) | 12 (18 %) | 13 (18 %) | 5 (9 %) | |
| Высокое | 5 (4 %) | 4 (6 %) | 7 (10 %) | 7 (12 %) | |
| Дисгармоничное развитие | По избытку массы тела | По дефициту массы тела | |||
| 96 (79 %) | 49 (74 %) | 6 (8 %) | 11 (19 %) |
Оценка гармоничности физического развития выявила преобладание детей с дисгармоничным развитием (по избытку массы тела) 74-79% среди детей основной группы, в тоже время у детей группы сравнения дисгармоничное развитие (по дефициту массы тела) определялось у мальчиков в 8%, у девочек в 19%.
Следующим этапом исследования был анализ клинического течения и структуры заболеваний ВОПТ в зависимости от возраста, пола, массы тела и роста детей. Сводные данные, характеризующие абдоминальный синдром в зависимости от массы тела, представлены в таблице 4.
Частота локализации и характер самостоятельных болей были однотипными среди детей обеих групп и не зависели от их массы тела и роста. Дети жаловались на редкие (75-78%) приступообразные (63-67%) боли после еды (59-66%), локализующиеся в эпигастрии (66-69%) и вокруг пупка (52-66%). С возрастом, в целом, наблюдалось уменьшение частоты абдоминального синдрома среди детей обеих групп, но в основной группе частота редких болей была постоянной по мере взросления детей. Не отмечали связь абдоминального синдрома с приемом пищи 22-26% детей не зависимо от массы тела. Анализ частоты болей в правой и левой подвздошной области выявил четкие гендерные различия, наиболее выраженные в обеих группах в младшем школьном возрасте (у 20% девочек и 5% мальчиков), что вероятнее всего связано с ростом и созреванием яичников и матки. Частота жалоб у девочек на редкие, приступообразные, голодные, ночные боли в животе, а также отсутствие взаимосвязи абдоминалгий с едой увеличивалась с возрастом, не зависела от массы тела и роста; девочки жаловались чаще, чем мальчики.
Таблица 4.
Характеристика абдоминального синдрома у детей
основной группы (n=187) и группы сравнения (n=129), кол-во (%)
| Группа | Основная | Сравнения | р |
| Редкие | 140 (75 %) | 101 (78 %) | > 0,05 |
| В эпигастрии | 129 (69 %) | 85 (66 %) | < 0,005 |
| После еды | 124 (66 %) | 76 (59 %) | < 0,005 |
| Приступообразные | 117 (63 %) | 86 (67 %) | > 0,05 |
| Около пупка | 98 (52 %) | 85 (66 %) | < 0,005 |
| Тупые | 65 (35 %) | 42 (33 %) | < 0,002 |
| Через 1 час после еды | 55 (29 %) | 40 (31 %) | < 0,005 |
| В левом подреберье | 44 (24 %) | 41 (32 %) | < 0,005 |
| Голодные | 43 (23%) | 35 (27 %) | < 0,005 |
| Нет связи с едой | 41 (22 %) | 33 (26 %) | > 0,05 |
| В правом подреберье | 40 (21 %) | 36 (28 %) | < 0,005 |
| Постоянные | 19 (10 %) | 19 (15 %) | > 0,05 |
| В правой подвздошной области | 14 (7 %) | 12 (9 %) | > 0,05 |
| В левой подвздошной области | 11 (6 %) | 12 (9 %) | < 0,005 |
| Ночные | 4 (2 %) | 7 (5 %) | < 0,01 |
При пальпации живота боли определялись у подавляющего большинства детей независимо от возраста, пола, роста и массы тела. Наличие болей, выявляемых при пальпации, значительно отличалось от частоты самостоятельных болей, оцененных самими детьми. Болезненность в пилородуоденальной зоне выявлялась в 81-84%, в то время как жаловались на боли в этой области 66-69% детей. Болезненность при пальпации в области проекции хвоста поджелудочной железы и проекции желчного пузыря обнаруживалась в 2 раза чаще, чем жаловались дети обеих групп. Наоборот, боли в околопупочной области беспокоили более половины обследованных детей обеих групп, но при пальпации болезненность определялась лишь в 12-17%. Эти факты подтверждают субъективность восприятия боли детьми независимо от возраста, пола и массы тела.
Частота симптомов диспепсии в целом была близка в обеих группах, убывала с возрастом, независимо от пола, роста и массы тела, что обусловлено анатомо-физиологическими особенностями – ростом и созреванием органов ВОПТ, и в немалой степени стабилизацией психоэмоционального фона ребенка и подростка (табл. 5).
Таблица 5.
Частота симптомов диспепсии у детей
основной группы (n=187) и группы сравнения (n=129), кол-во (%)
| Группа | Основная | Сравнения | р |
| Тошнота | 91 (49 %) | 76 (59 %) | > 0,05 |
| Отрыжка воздухом | 91 (49 %) | 67 (52 %) | > 0,05 |
| Рвота пищей | 48 (26 %) | 48 (37 %) | < 0,03 |
| Изжога | 45 (24 %) | 17 (13 %) | < 0,02 |
| Отрыжка кислым | 32 (17 %) | 15 (12 %) | > 0,05 |
| Боли за грудиной | 15 (8 %) | 10 (8 %) | > 0,05 |
Тошнота и отрыжка являлись постоянными симптомами поражения ВОПТ у половины детей и не зависели от возраста и массы тела, что указывает на сохраняющуюся несостоятельность нижнего пищеводного сфинктера, нарушение аккомодации желудка и повышенное интрагастральное давление. На изжогу дети основной группы жалуются в 2 раза чаще, чем группы сравнения (24% и 13%, р < 0,02). Отрыжка кислым, как и изжога, являясь клиническим эквивалентом рефлюкса, чаще встречалась у детей основной группы (17%), чем в группе сравнения (12%) независимо от возраста, пола и роста, имела тенденцию к незначительному снижению частоты с возрастом. Рвота пищей встречалась у ¼ детей основной группы и у 1/3 детей группы сравнения (р < 0,03), частота ее выявления не зависела от роста детей, существенно уменьшалась с возрастом у всех детей обеих групп, отражая созревание центральной нервной системы.
Проведя анализ абдоминального и диспепсического синдромов, мы не выявили различий в частоте симптомов у детей в зависимости от массы тела, роста, возраста и пола. Все же необходимо отметить, что среди детей основной группы боли в эпигастрии, после еды, изжога и отрыжка кислым встречались несколько чаще, чем у детей группы сравнения независимо от возраста, пола и роста, имели тенденцию к незначительному снижению частоты симптомов по мере взросления детей. Сохраняющиеся жалобы свидетельствуют об имеющихся функциональных нарушениях, которые в дальнейшем могут привести к формированию эндоскопически негативной ГЭРБ, недостаточности кардии, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.
Структура поражений ВОПТ в целом была практически одинакова и не зависела от роста и массы тела детей (табл. 6). Наиболее часто диагностировался гастродуоденит (73-78%), частота его выявления в целом не зависела от возраста, пола, массы тела и роста детей, тем не менее в старшем школьном возрасте у мальчиков группы сравнения гастродуоденит обнаруживался в 1,2 раза чаще, чем у мальчиков основной группы (р < 0,01).
Таблица 6.
Воспалительные и деструктивные поражения ВОПТ у детей
основной группы (n=187) и группы сравнения (n=129), кол-во (%), р > 0,05
| Группа | Основная | Сравнения |
| Эзофагит | 105 (56 %) | 86 (67 %) |
| Эрозивный эзофагит | 17 (9 %) | 9 (7 %) |
| Полип кардии | 14 (7 %) | 10 (8 %) |
| Гастрит | 36 (19 %) | 18 (14 %) |
| Эрозивный гастрит | 11 (6 %) | 11 (9 %) |
| Гастродуоденит | 136 (73 %) | 100 (78 %) |
| Бульбит | 6 (3 %) | 4 (3 %) |
| Эрозивный бульбит | 11 (6 %) | 6 (5 %) |
| Дуоденит | 27 (14 %) | 20 (16 %) |
| Эрозивный дуоденит | 0 (0 %) | 1 (1 %) |
| Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки | 8 (4 %) | 12 (9 %) |
| Еюнит | 7 (4 %) | 3 (2 %) |
На втором месте по частоте обнаружения оказался эзофагит (56-67%), который диагностировался у детей группы сравнения чаще, чем у детей основной группы не зависимо от возраста, пола и роста (р > 0,05). Но у мальчиков старшего школьного возраста группы сравнения эзофагит диагностировался статистически значимо чаще, чем в основной группе (72% и 57% соответственно, р < 0,01). Эндоскопические признаки эзофагита выявляются у половины детей независимо от пола и массы тела уже в младшем школьном возрасте, что с одной стороны указывает на имеющиеся погрешности питания, а с другой стороны отражают проблемы периодов роста ребенка. Известно, что в возрасте 8-9 лет наблюдается окончание периода 1го физиологического вытяжения, когда выявляется наибольшая диспропорция между ростом организма ребёнка в целом и его внутренних органов.
Частота обнаружения полипа кардии (7-8%), непосредственной причиной формирования которого считается гастроэзофагеальный рефлюкс, не имела тенденции к снижению с возрастом детей, не зависела от массы тела и роста детей, у мальчиков была выше, чем у девочек. Гастрит и дуоденит диагностировались у 14-19% детей, их выявляемость в целом не зависела от возраста, пола, массы тела и роста ребенка.
Частота обнаружения эрозивно-язвенных поражений ВОПТ среди детей обеих групп составляла менее чем 10% и не зависела от массы тела и роста детей, но обнаружила негативную тенденцию увеличиваться с возрастом детей (рис.1). В младшем школьном возрасте среди детей основной группы эрозивный эзофагит встречался чаще, чем у детей группы сравнения (7% и 4% соответственно, р > 0,05), а у мальчиков группы сравнения - только в старшем возрасте. Частота выявления эрозивного эзофагита увеличивалась с возрастом детей независимо от массы тела. Эрозивный гастрит у мальчиков обнаруживался чаще, чем у девочек независимо от возраста, роста и массы тела (р > 0,05), выявляемость его увеличивалась с возрастом детей. Достаточно частое выявление эрозивного эзофагита среди детей основной группы в младшем школьном возрасте совпадает со средним возрастом резкой прибавки массы тела детей основной группы - 7 лет, причиной которой 40% детей считали начало школьного обучения. При этом следует заметить, что не только стресс, связанный с трудностями обучения и школьной адаптацией, но и серьезные нарушения режима и качества питания вносят свой вклад в увеличение массы тела.
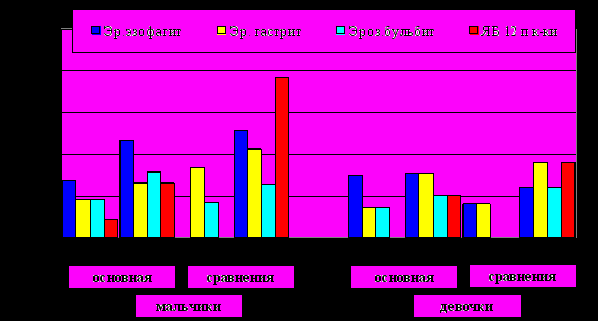
Рис. 1. Динамика развития эрозивно-язвенных поражений ВОПТ в зависимости от возраста, пола и массы тела детей.
ЯБДК в группе сравнения выявлялась чаще, чем в основной группе независимо от пола и роста детей, что косвенно указывает на различные способы совладания со стрессом у детей в зависимости от массы тела. Среди детей младшего школьного возраста ЯБДК была диагностирована только у 1 мальчика основной группы, среди детей старшего школьного возраста обеих исследуемых групп частота ее выявления резко увеличилась, достигая среди мальчиков статистически значимых различий (6% и 19%, соответственно, р < 0,01). Клинический интерес представляет развитие ЯБДК в старшем школьном возрасте у детей обеих групп, что может быть обусловлено реализацией совокупности наследственных и стрессовых факторов на фоне диетических погрешностей. Наши данные соответствуют среднестатистическим показателям доли ЯБДК в структуре заболеваний ВОПТ, которые составляют 7,2%, и согласуются с современным состоянием проблемы. Тем не менее, более низкая частота развития ЯБДК в основной группе может быть обусловлена привычкой «заедать» стресс.
В тоже время ЯБ желудка не выявлялась среди исследуемых детей. Эрозивный бульбит обнаруживался редко (4-8%), преимущественно среди детей среднего роста независимо от массы тела, частота его выявления имела тенденцию увеличиваться с возрастом (p > 0,05).
Нарушения моторики ВОПТ в среднем встречались у 1/3 детей, несколько чаще среди детей среднего роста и в группе сравнения (рис.2).
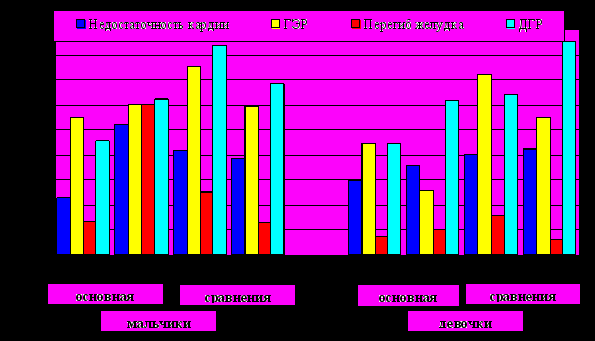
Рис.2 Динамика развития моторно-эвакуаторных нарушений ВОПТ в зависимости от возраста, пола и массы тела детей.
Недостаточность кардии и ГЭР среди детей младшего школьного возраста диагностировались в группе сравнения чаще, чем в основной группе (р > 0,05). С возрастом частота обнаружения недостаточности кардии в основной группе возрастала, особенно среди мальчиков, при этом частота ГЭР среди мальчиков основной группы оставалась практически неизменной, в группе сравнения снижалась и составляла 30% независимо от массы тела детей. По результатам рентгенологического исследования ВОПТ с бариевой взвесью ГЭР не был получен у 22 детей (32%) основной группы и у 13 детей (25%) группы сравнения, у остальных детей заброс бариевой взвеси определялся на различном протяжении (табл. 7). ГЭР в нижнюю треть пищевода обнаруживался у детей группы сравнения в 2 раза чаще, чем у детей основной группы (р < 0,01), в то же время рефлюкс в верхнюю треть пищевода диагностировался у детей основной группы почти в 3 раза чаще, чем у детей группы сравнения (р < 0,04). Рефлюксы в среднюю и верхнюю треть пищевода преобладали у детей основной группы, а в нижнюю и среднюю треть пищевода - у детей группы сравнения.
Таблица 7.
Частота выявления гастроэзофагеального рефлюкса при рентгенологическом исследовании у детей основной группы (n=46) и группы сравнения (n=40), кол-во (%)
| Группа | Основная | Сравнения | р |
| В нижнюю треть | 11 (24 %) | 20 (50 %) | < 0,01 |
| В среднюю треть | 16 (35 %) | 14 (35 %) | > 0,05 |
| В верхнюю треть | 19 (41 %) | 6 (15 %) | < 0,04 |
Недостаточность кардии и ГЭР преобладали среди детей среднего роста основной группы и высоких детей группы сравнения (р > 0,05).
Перегиб желудка почти в 2 раза чаще диагностировался у детей основной группы (р < 0,005), частота его выявления увеличивалась с возрастом среди детей основной группы, достигая у мальчиков статистически значимых различий. В старшем школьном возрасте в основной группе перегиб желудка у мальчиков выявляется в 6 раз чаще, чем у девочек (р < 0,01). Перегиб желудка преобладал среди детей основной группы независимо от роста, а среди высоких мальчиков основной группы выявлялся в 4 раза чаще, чем среди высоких девочек (р < 0,03). Эта патология, по-видимому, обусловлена избытком висцерального жира, вызывающего нарушения положения желудка у детей основной группы.
ДГР и дискинезия двенадцатиперстной кишки чаще диагностировались у детей группы сравнения независимо от пола и возраста (р > 0,05), у детей основной группы частота их выявления нарастала с возрастом, у детей группы сравнения оставалась неизменной. В основной группе ДГР преобладал у детей среднего роста, а в группе сравнения – у высоких детей, достигая статистически значимых величин у мальчиков (р < 0,01). Дискинезия двенадцатиперстной кишки чаще встречалась у мальчиков среднего роста основной группы и у высоких детей группы сравнения, у мальчиков группы сравнения чаще, чем у девочек (р < 0,04).
Анализ моторно-эвакуаторных нарушений ВОПТ у детей с различной массой тела и ростом показал, что в группе сравнения частота их обнаружения зависела от роста детей, косвенно подтверждая функциональный характер изучаемых симптомов. Наоборот, в основной группе частота моторно-эвакуаторных нарушений не зависела от роста детей и увеличивалась с их возрастом, что свидетельствовало о стойких привычках питания и образе жизни ребенка.
Таким образом, проведя тщательный анализ клинических симптомов, структуры воспалительных и эрозивно-язвенных поражений ВОПТ, а также моторно-эвакуаторных нарушений, мы можем сделать вывод об отсутствии статистически значимых различий у детей в зависимости от возраста, пола, роста и массы тела. Обнаруживаемые поражения ВОПТ у взрослых с ожирением вероятнее всего обусловлены длительным наличием избыточной массы тела и нарушениями питания, что в конечном итоге приводит к трансформации функциональных нарушений ВОПТ в органическую патологию.
При эндоскопическом исследовании эзофагит был диагностирован у 56% детей основной группы и у 67% детей группы сравнения. Дистрофические изменения СО пищевода (вакуолизация эпителия, баллонные клетки, полиморфизм ядер, расширение межэпителиальных контактов) носили распространенный характер, обнаруживались у 56-96% детей и не зависели от массы тела. Дисрегенераторные изменения СО пищевода (расширение базального слоя, увеличение и удлинение сосочков) выявлялись у 48-85% детей обеих групп, признаки хронического воспаления (повышение уровня внутриэпителиальных лимфоцитов, инфильтрация стромы, лимфоидные фолликулы) встречались в 5-56%, в целом менее чем у половины детей, и частота их также не зависела от массы тела ребенка. Частота всех изученных изменений СО пищевода убывала в проксимальном направлении и была максимальной в непосредственной близости к нижнему пищеводному сфинктеру (табл.8).
Таблица 8.
Частота изменений слизистой оболочки пищевода на уровне 1 см выше Z линии у детей основной группы (n=27) и группы сравнения (n=21), кол-во (%), p > 0,05
| Группа | Основная | Сравнения |
| Вакуолизация эпителия | 26 (96%) | 19 (90%) |
| Полиморфизм ядер | 23 (85%) | 19 (90%) |
| Удлинение сосочков | 23 (85%) | 16 (76%) |
| Расширение базального слоя | 20 (74%) | 14 (67%) |
| Баллонные клетки | 18 (67%) | 12 (57%) |
| Расширение межэпителиальных контактов | 15 (56%) | 12 (57%) |
| Повышение уровня внутриэпителиальных лимфоцитов | 15 (56%) | 10 (48%) |
| Увеличение сосочков | 14 (52%) | 10 (48%) |
| Инфильтрация стромы | 12 (44%) | 7 (33%) |
| Кровяные озера | 8 (30%) | 8 (38%) |
| Лимфоидные фолликулы | 6 (22 %) | 1 (5 %) |
| Крупные гранулы кератогиалина | 5 (19 %) | 7 (33%) |
| Появление эозинофильных лейкоцитов | 4 (15 %) | 2 (10 %) |
| Язвы | 1 (4 %) | 1 (5 %) |
| Эрозии | 0 (0 %) | 0 (0 %) |
Таким образом, обнаруженные нами морфологические признаки свидетельствовали о наличии постоянного невысокого рефлюкса желудочного содержимого в просвет пищевода у детей обеих групп, что находило свое отражение в преобладании дистрофических и дисрегенераторных процессов над воспалительными. Мы можем утверждать, что в дистальном отделе пищевода редко встречались характерные признаки острого воспалительного процесса, вблизи нижнего пищеводного сфинктера выявлялась тенденция к более частому обнаружению изучаемых признаков у детей основной группы, чем в группе сравнения (различия статистически незначимы).
Проведенное иммуногистохимическое исследование воспалительных и эрозивных изменений СО пищевода показало статистически значимое повышение количества Т лимфоцитов в эпителиальном слое дистального отдела пищевода, соответствующем месту поражения. К сожалению, существует очень мало публикаций, содержащих абсолютные количественные данные, только в единичных приводится площадь подсчета, а в остальных она не оговаривается, что делает невозможным сравнительный анализ представленных результатов исследований, тем не менее в литературе поддерживается точка зрения об увеличении количества Т-клеток при хроническом воспалении СО пищевода у детей. Также непосредственно вблизи месторасположения полипа и/или эрозивного дефекта СО пищевода увеличивалась плотность инфильтрата антигенпрезентирующих клеток Лангерганса. При рутинном гистологическом исследовании повышение количества внутриэпителиальных лимфоцитов обнаруживалось лишь у 1/3 детей с воспалительными и эрозивными поражениями СО пищевода. Полученные результаты подтверждают существование хронического воспаления при наличии полипов и/или эрозии СО пищевода и позволяют рекомендовать обязательное иммуногистохимическое исследование биоптатов полипов и эрозий с целью определения интенсивности воспалительного процесса.
У детей с избыточной массой тела морфологические признаки рефлюкс-эзофагита обнаруживались в 1,5 чаще, чем у детей с нормальной массой тела (78 и 52% соответственно, различия статистически не значимы), что в дальнейшем может трансформироваться в ГЭРБ у взрослых с ожирением. Наши результаты близки с данными Elitsur Y с соавт., 2009, выявившими среди 738 детей отсутствие связи между ГЭРБ, возрастом и SDS ИМТ, при этом морфологические признаки рефлюкс-эзофагита одинаково часто встречались у детей с нормальной, избыточной массой тела и ожирением (65%, 69% и 68% детей соответственно, p > 0.05).
В работах последних лет показано, что наличие избыточной массы тела является отягчающим фактором развития деструктивных процессов в СО ВОПТ, обусловленных нарушениями микроциркуляции и гемостаза на фоне инсулинорезистентности и гиперлипидемии (Кравчук Ю.А. 2001, Нилова Т.В., 2002, Гриневич В.Б., 2003. Попутчикова Е.А. 2003). Анализ уровня в сыворотке крови конечных стабильных метаболитов оксида азота (NO) как показателя функциональной активности сосудистого эндотелия не выявил различий между детьми обеих сравниваемых групп, их концентрация оставалась в пределах установленных норм (Метельская В.А., 2005). Обнаруженная сохранная функция эндотелия свидетельствует об отсутствии нарушений микроциркуляции у детей не зависимо от массы тела, что вероятнее всего обусловлено коротким анамнезом заболевания (табл.9).
Таблица 9.
Суммарные метаболиты NO в сыворотке крови детей с заболеваниями ВОПТ, Ме и ДИ
| Группы | Основная (n=32) | Сравнения (n=24) | р |
| Значения, мкМ | 64 (51,1-91,3) | 67,5 (51-109,2) | > 0,05 |
Важную роль в формировании хронического воспалительного процесса и атеросклероза играют метаболиты жировой ткани. У детей с патологией ВОПТ были выявлены существенные различия концентрации в сыворотке крови метаболитов жировой ткани в зависимости от массы тела. У детей с избыточной массой тела нарушения обмена лептина отражались в десятикратном увеличении его концентрации в сыворотке крови по сравнению с детьми, имеющими нормальную массу тела (16,8 и 1,24 нг/мл соответственно, p < 0,01). Физиологический половой диморфизм концентрации лептина в сыворотке крови детей основной группы отсутствовал, в то время как у детей группы сравнения был сохранен. Поскольку у девочек и мальчиков состав тела в период пубертата изменяется неодинаково, уровень лептина отражает эти половые отличия и наши результаты согласуются с данными литературы, свидетельствующими о том, что среди детей с нормальной массой тела у мальчиков уровень лептина статистически значимо ниже, чем у девочек.
В основной группе обнаруживалась корреляционная зависимость между степенью превышения массы тела и уровнем лептина (r = 0,73) не зависимо от пола детей. Наши результаты также согласуются с мнением, что у детей с избыточной массой тела концентрация лептина статистически значимо выше, чем у детей с нормальной массой тела. Обращает на себя внимание тот факт, что обнаруженный нами уровень лептина в сыворотке крови у детей с избыточной массой тела был практически равен уровню лептина в сыворотке крови у детей с ожирением (по литературным данным). Это свидетельствует о раннем развитии гиперлептинемии уже у детей с избыточной массой тела при достижении «критического уровня» жировой ткани, продуцирующей лептин. Однако нами не было выявлено связи между частотой морфологических признаков рефлюкс эзофагита и уровнем лептина и адипонектина в сыворотке крови детей обеих групп. Таким образом, можно предположить, что у детей на органном уровне воздействие адипокинов еще не проявляется.
Концентрация адипонектина в сыворотке крови у детей обеих групп не выходила за пределы существующих норм, тем не менее, у детей основной группы уровень адипонектина был статистически значимо снижен (8,7 против 11,1 мкг/мл). В работах последних лет, посвященных изучению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у страдающих ожирением детей и подростков, снижение уровня адипонектина рассматривается как независимый предиктор метаболического синдрома и фактор высокого риска развития кардио-васкулярной патологии.
У детей основной группы величина отношения лептин/адипонектин, отражающего функциональную активность жировой ткани, была статистически значимо в 10 раз выше, чем у детей группы сравнения (2,24∙10-3 против 0,12∙10-3). Учитывая про- и анти-атерогенные свойства лептина и адипонектина, коэффициент лептин/адипонектин в настоящее время рассматривается как новый маркер атеросклероза и дополнительный признак метаболического синдрома при тяжелом ожирении у взрослых пациентов.
Доказано, что наличие ожирения у детей и подростков ухудшает состояние здоровья во взрослом возрасте (Koletzko B., 2002), приводит к развитию метаболического синдрома, и формированию таких жизнеугрожающих заболеваний как сахарный диабет, гипертоническая болезнь и другие сердечно-сосудистые заболевания.
В настоящее время для детей в возрасте 10-16 лет Международной Диабетической Федерацией (2007) утверждены следующие критерии метаболического синдрома: повышение в сыворотке крови уровня триглицеридов (ТГ) ≥ 1,7 ммоль/л, снижение уровня холестерина (ХС) липопротеидов высокой плотности (ЛВП) <1,03 ммоль/л, повышение уровня глюкозы ≥ 5,6 ммоль/л.
Изучение липидного обмена обнаружило следующие особенности. Среди детей обеих групп показатели липидного спектра не превышали значений, принятых за норму для детей соответствующего возраста и пола. Тем не менее, у детей основной группы, прослеживалась тенденция к более высоким показателям триглицеридов, ХС ЛНП и коэффициента атерогенности при статистически значимом снижении уровня ХС ЛВП по сравнению с детьми группы сравнения. Среди детей основной группы корреляция между степенью превышения массы тела (SDS) и уровнями триглицеридов и ХС ЛНП отсутствовала (r=0,3 и r=-0,2 соответственно). В связи с этим, клинический интерес представлял анализ частоты повышенных относительно нормы показателей спектра липопротеидов у детей с поражениями ВОПТ в зависимости от массы тела (табл. 10).
Таблица 10
Частота превышения показателей спектра липопротеидов
сыворотки крови у детей с поражениями ВОПТ, р > 0,05
| Показатели | Основная группа N=41 | Группа сравнения N=27 |
| Холестерин > 5,23 ммоль/л | 6 (15%) | 4 (15%) |
| Триглицериды > 1,48 ммоль/л | 5 (12%) | 1 (4%) |
| ХС ЛВП < 0,93 ммоль/л | 12 (29%) | 3 (11%) |
| ХС ЛНП > 3,52 ммоль/л | 7 (17%) | 3 (11%) |
| Коэффициент атерогенности >3 | 18 (44%) | 7 (26%) |
Как видно из таблицы частота повышения уровня холестерина и ХС ЛНП одинакова среди детей обеих групп. Существенно чаще у детей основной группы обнаруживалось повышение уровня триглицеридов и коэффициента атерогенности, а также снижение ХС ЛВП (различия статистически не значимы), что свидетельствовало о наличии атерогенных нарушений спектра липопротеидов. Неполные признаки метаболического синдрома - сочетание повышения уровня триглицеридов и снижение уровня холестерина ХС ЛВП - выявлялись у 5% детей основной группы и не обнаруживались у детей группы сравнения.
Нарушения углеводного обмена у детей с поражениями ВОПТ имели сходные черты с изменениями липидного обмена, и зависели от массы тела и возраста детей (рис. 3).
Несмотря на то, что натощак уровни глюкозы и базального инсулина, а также индекс инсулинорезистентности находились в пределах нормы, у детей основной группы уровень инсулина крови натощак был выше в 1,9 раз, индекс НОМА - в 1,7 раз, чем у детей группы сравнения (различия статистически значимы). У детей основной группы гиперинсулинемия по базальному инсулину и инсулинорезистентность выявлялись чаще, чем у детей группы сравнения (37% и 4%, 49% и 8%, p < 0,01).
В раннем школьном возрасте инсулинорезистентность была диагностирована уже у 35% детей основной группы, в то время как у детей группы сравнения этот показатель обнаружен не был. С возрастом частота инсулинорезистентности увеличивалась и в старшем школьном возрасте у детей основной группы выявлялась более чем у половины детей.
Корреляционная связь между степенью превышения массы тела и уровнем базального инсулина, а также индексом HOMA была расценена как очень слабая (r=0,3), что может быть обусловлено возрастом детей.
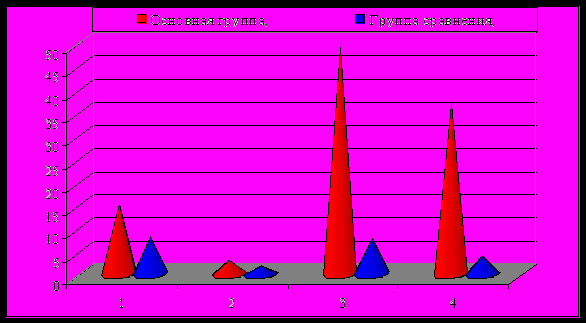
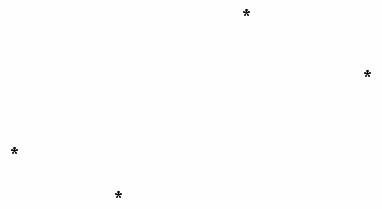
Рис.3. Показатели углеводного обмена у детей с поражениями ВОПТ в зависимости от массы тела: 1 - уровень базального инсулина (мкЕД/мл), 2 - индекс инсулинорезистентности НОМА, 3 - гиперинсулинемия по базальному инсулину (%), 4 - инсулинорезистентность (%); * - р< 0,01
Нарушения углеводного обмена у детей основной группы могут отягощать течение заболеваний ВОПТ, поскольку хорошо известно, что ухудшение микроциркуляции, обусловленное гиперинсулинемией, оказывает негативное влияние на состояние СО ВОПТ, нарушает процессы регенерации и способствует развитию эрозивно-язвенных поражений (Федорченко Ю.Л., 2007; Витько Л.Г., 2008). Дистрофические, дисрегенераторные и воспалительные изменения СО ВОПТ у детей с избыточной массой тела могут поддерживаться формирующейся артериальной гипертензией и сопутствующими ей микроциркуляторными нарушениями.
Исследование В.Б.Розанова, 2007 показало, что в случае сочетания повышенного АД с избыточной массой тела риск появления АГ во взрослом возрасте увеличивается у мальчиков в 7,5, у девочек – в 5 раз по сравнению с их сверстниками без этих факторов риска. Избыточная масса тела является независимым фактором риска развития АГ, в том числе и у детей и подростков (Мычка B.Б., 2008).
Показатели АД у детей основной группы имели существенные отличия, как между детьми группы сравнения, так и внутри группы в разные возрастные периоды (рис.4).
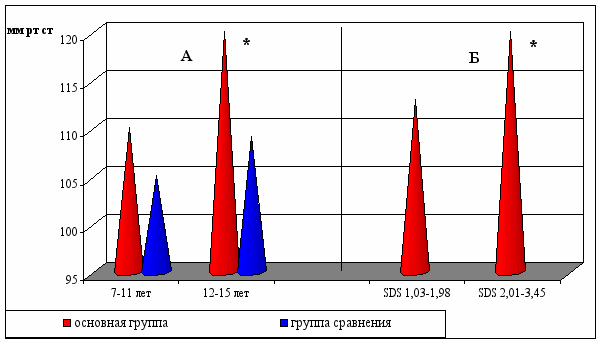
Рис.4. Возрастная динамика САД на левой руке у детей обеих групп (А) и различия САД от SDS у детей основной группы (Б); * - р< 0,01
Несмотря на тот факт, что показатели артериального давления и ЧСС у детей обеих групп не превышали возрастных норм, у детей основной группы показатели САД на обеих руках, а также ЧСС были статистически значимо выше, чем у детей группы сравнения, и с возрастом наблюдалась отчетливая тенденция к повышению АД. У детей группы сравнения подобные изменения не выявлены.
У детей основной группы были обнаружены статистически значимые различия САД на обеих руках в зависимости от степени превышения массы тела. Тем не менее, корреляция между SDS и показателями АД не была установлена как в группе детей с избыточной массой тела (r = 0,1), так и в группе детей с ожирением (r = 0,3), что могло быть обусловлено молодым возрастом больных и косвенно указывало на обратимый характер повышения АД.
Таким образом, отсутствие взаимосвязи между степенью избытка массы тела и изменением показателей АД, липидного и углеводного обмена позволяет предполагать обратимость нарушений, обусловленную, вероятнее всего, молодым возрастом. Именно этот факт обосновывает потенциальную эффективность лечебно-профилактических мероприятий у детей, направленных на нормализацию массы тела. Полученные данные позволяют нам рассматривать детей основной группы как группу риска по развитию метаболического синдрома и доказывают приоритетную роль снижения массы тела у детей с поражениями ВОПТ в профилактике развития метаболического синдрома и социально-значимых заболеваний.
Несомненный вклад в развитие поражений ВОПТ и формирование избыточной массы тела вносил наследственный фактор, но не меньшее значение имело наличие внешнесредовых факторов, таких как интенсивное физическое развитие на первом году жизни, привычки питания и психологические особенности детей с избыточной массой тела. При сравнительном анализе динамики антропометрических показателей детей обеих групп, измеренные при рождении и в возрасте 1 года, были выявлены следующие особенности (табл. 11).
Таблица 11
Антропометрические показатели при рождении и в возрасте 1 года
детей основной группы (N = 65) и группы сравнения (N = 48), Ме и ДИ
| Группа | Основная | Сравнения | p |
| Вес при рождении, г | 3400 (3200-3590) | 3350 (3230-3500) | > 0,05 |
| Рост при рождении, см | 52 (51-52) | 51 (51-52) | > 0,05 |
| Вес в 1 год, г | 11000 (10900-11000) | 10550 (10300-10800) | < 0,02 |
| Рост в 1 год, см | 78 (78-79) | 78 (78-79) | > 0,05 |
У детей обеих групп антропометрические показатели при рождении не имели отличий, однако к возрасту 1 года дети основной группы стали статистически значимо тяжелее на 450 г своих сверстников из группы сравнения. В противовес общепринятому мнению о том, что грудное вскармливание предотвращает развитие ожирения, средняя продолжительность грудного вскармливания у детей обеих групп оказалась одинаковая 4,4 мес, что согласуется с данными долговременного контролируемого исследования практики вскармливания 17000 здоровых доношенных детей в Белоруссии, которые показали, что длительность периода грудного вскармливания не снижает риск развития ожирения у детей в возрасте 6,5 лет. Частота искусственного вскармливания также была одинаковая (13%-15%), что отражает современное состояние проблемы грудного вскармливания в России.
При анализе физического развития детей обеих групп на протяжении их жизни обнаруживались следующие характерные особенности (рис.5). Интенсивность развития у детей основной группы на первом году жизни была значительно выше; однако при рождении у 14% детей выявлялось дисгармоничное развитие по дефициту массы тела, нивелировавшееся к концу первого года жизни, когда физическое развитие выше среднего и высокое выявлялось более чем у 60% детей. Частота дисгармоничного развития по избытку массы тела возрастала к 1 году жизни в 3 раза, а к моменту обследования - в 15 раз по сравнению с моментом рождения.
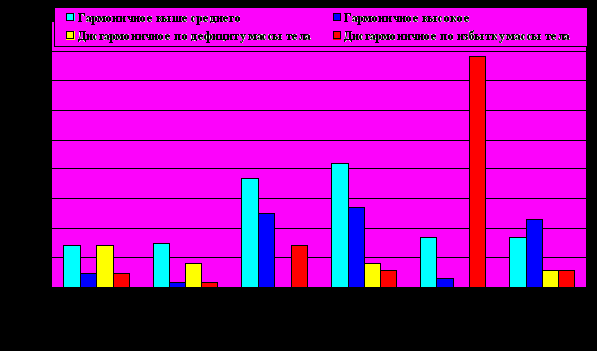
Рис.5 Физическое развитие детей основной группы (n=65) и группы сравнения (n=48) на протяжении 1 года жизни и на момент наблюдения, %
Трансформация высокого гармоничного развития в дисгармоничное развитие (по избытку массы) обнаруживалась у половины детей основной группы, в то время как в группе сравнения только у 4% детей (p < 0,01) (рис. 6). Наши данные демонстрируют прогностическую значимость ранней прибавки массы тела. Причиной интенсивного роста в первом полугодии первого года жизни вероятнее всего является перекорм ребенка, особенно учитывая режим свободного вскармливания, когда число кормлений не регламентировано и может достигать 10-12 раз в сутки. Часто на любое беспокойство ребенка мать предлагает ему грудь или смесь (при искусственном вскармливании). Во втором полугодии перекорм вероятнее всего обусловлен привычками родителей кормить ребенка большими объемами пищи и заставлять все съедать, особенно в семьях с избыточной массой тела, формируя тем самым нездоровые привычки питания.
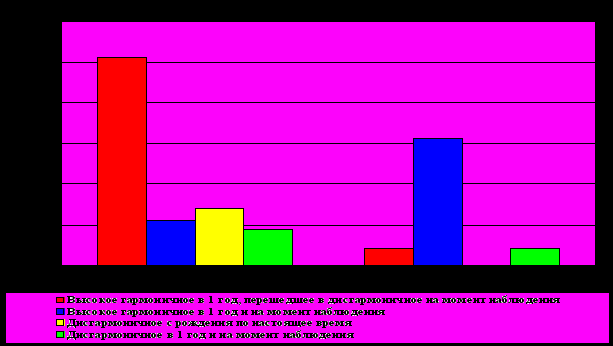
Рис.6. Динамика физического развития детей основной группы (n=65) и группы сравнения (n=48) на протяжении 1 года жизни и на момент наблюдения, %
Высокое гармоничное развитие детей первого года жизни из семей с отягощенной наследственностью по ожирению следует трактовать как ранний предиктор ожирения. Физическое развитие должно анализироваться ежемесячно на первом году жизни, что позволит прослеживать тенденции формирования избыточной массы тела и даст возможность своевременно скорректировать режим питания, сохраняя суточные нормы потребления макро и микронутриентов, увеличить физическую активность ребенка и сконцентрировать внимание матери на формирующейся проблеме ожирения у ее ребенка.
Изучение наследственных факторов у детей обеих групп, вносящих свой вклад в формирование заболеваний пищеварительной системы, ожирения, а также сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета, показало следующие результаты (табл. 12).
Таблица 12.
Частота отягощенной наследственности
у детей основной группы (n=187) и группы сравнения (n=129), кол-во (%)
| Группа | Основная | Сравнения | р |
| По заболеваниям сердечно-сосудистой системы | 143 (76 %) | 74 (57 %) | < 0,01 |
| По заболеваниям пищеварительной системы | 136 (73 %) | 85 (66 %) | > 0,05 |
| По ожирению | 113 (60 %) | 10 (8 %) | < 0,01 |
| По сахарному диабету | 45 (24 %) | 24 (19 %) | > 0,05 |
Анализ данных показал, что основной вклад в состояние здоровья детей с поражениями ВОПТ вносит не столько наследственность по заболеваниям пищеварительной системы, которая встречается у 2/3 детей обеих групп, а такие социально значимые болезни как ожирение и заболевания сердечно-сосудистой системы.
У детей основной группы наследственность по ожирению обнаруживалась в 7,5 раз чаще, а по заболеваниям сердечно-сосудистой системы в 1,3 раза чаще чем у детей группы сравнения (60% и 8%, 76% и 57%, р < 0,01). Именно эти заболевания во многом обусловлены стилем жизни в семьях с отягощенной наследственностью, сформированными стойкими поведенческими стереотипами и привычками питания. Тем не менее, 40% детей основной группы не имели наследственности по ожирению, что предполагает возможность моделирования стиля жизни, поведенческих стереотипов и привычек питания, которые вносят важный вклад в состояние здоровья детей (рис.7).
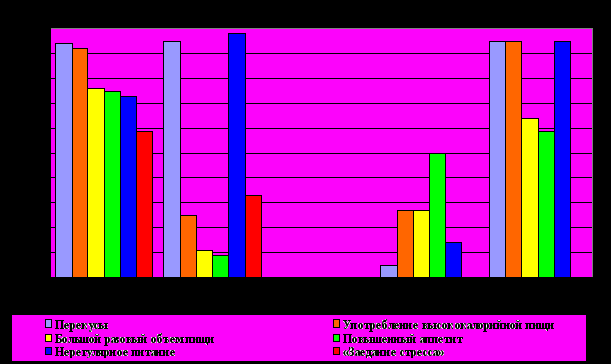
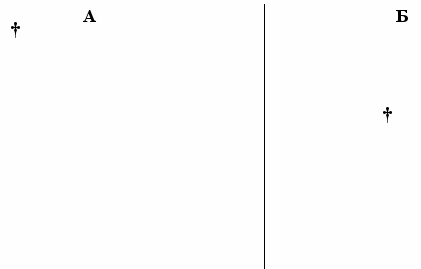
Рис.7. Частота привычек питания детей обеих групп (А) и совместная оценка привычек питания детьми основной группы и их родителями (Б), %, р < 0,01; † - р > 0,05
У детей основной группы статистически значимо чаще по сравнению с детьми группы сравнения выявлялось употребление высококалорийной пищи большими разовыми объемами, повышенный аппетит и «заедание» стресса, при этом перекусы и нерегулярное несбалансированное питание обнаруживались у подавляющего большинства детей обеих групп, что играло немаловажную роль в поддержание хронического течения заболеваний пищеварительного тракта. На повышенный аппетит одинаково часто обращали внимание около половины опрошенных детей и их родителей. А высокие статистически значимые различия по всем остальным привычкам питания, свидетельствуют о том, что родители не знали и не интересовались тем, как и чем питается их ребенок. По результатам анкетирования всего 14% родителей отмечали поздний прием пищи как неправильную привычку питания. Дети, среди родителей которых проводилось анкетирование, имели среднее SDS 1,81, но только 7% их родителей расценивали ожирение как болезнь, а 68% родителей считали своего ребенка здоровым.
Привычки питания детей являлись во многих случаях непосредственной причиной возникновения и персистирования абдоминального синдрома (табл. 13).
Таблица 13.
Характеристика самостоятельных болей у детей
основной группы (n=187) и группы сравнения (n=129), кол-во (%)
| Группа | Основная | Сравнения | р |
| После употребления жирной пищи | 103 (55 %) | 46 (36 %) | < 0,005 |
| После употребления кондитерских изделий | 95 (51 %) | 48 (37 %) | < 0,02 |
| Исчезают при соблюдении диеты | 102 (55 %) | 50 (39 %) | < 0,01 |
Самостоятельные боли после погрешностей в диете возникали у половины детей основной группы и встречались в 1,5 раза чаще, чем у детей группы сравнения, но при этом проведение диетотерапии у детей основной группы было в 1,5 раза эффективнее, чем у детей группы сравнения. Результаты исследования демонстрируют первостепенную роль привычек питания в формировании и поддержании патологии ВОПТ у детей с избыточной массой тела, особенно из семей с отягощенной наследственностью по ожирению. Сохраняющиеся привычки питания в дальнейшем будут с большой долей вероятности приводить к развитию таких заболеваний ВОПТ, как ГЭРБ и недостаточность кардии, особенно учитывая уже имеющиеся морфологические признаки рефлюкс-эзофагита у большинства детей основной группы, а также частоту обнаружения у них перегиба желудка. Эти факты определяют направление лечебно профилактических мероприятий, прежде всего, ориентированных на изменение образа жизни и сопутствующего ему снижения массы тела.
Трудности терапии поражений ВОПТ у детей с избыточной массой тела и ожирением определили актуальность изучения психологических особенностей этой группы детей. Оказалось, что качество жизни, связанное со здоровьем, у детей с поражениями ВОПТ было одинаковым и не зависело от массы тела, при этом 84% детей основной группы не рассматривали свое состояние как болезнь и такой же точки зрения придерживались 100% их родителей. Наши данные не согласуются с результатами других исследований в которых у подростков с ожирением определялось сниженное качество жизни. Возможно, различия в полученных данных зависят от того, что мы опрашивали детей преимущественно с избыточной массой тела, а оппоненты – с ожирением. Интерпретация результатов оценки качества жизни достаточно неоднозначна, особенно с учетом внешнесредовых факторов и национальных приоритетов, в частности в отношении здоровья, которое в России у детей и подростков имеет низкий рейтинг (Журавлева И.В., 2002).
Дети основной группы отвечали на вопросник TACQOL вместе со своими родителями. При сравнительном анализе детских и родительских форм вопросника оказалось, что оценка родителями качества жизни своих детей существенно отличалась от оценки качества жизни, выполненной самими детьми (рис.8).

Рисунок 8. Оценка качества жизни, связанного со здоровьем, выполненная детьми и их родителями. 1 - высокое качество жизни; 2 - среднее качество жизни; 3 - низкое качество жизни.
Качество жизни своих детей как высокое расценивали 27,3% родителей, как среднее - 72,7% родителей. В это же время 60,6% их детей качество своей жизни оценивали как высокое и 24,2 % детей как среднее. Обращает на себя внимание тот факт, что родители не отмечали вообще у своих детей низкого качества жизни, в то время как 15,2% детей его расценивали как низкое. В целом родители существенно занижали качество жизни своих детей.
При изучении частоты нарушений процессов воспитания в семьях детей основной группы был обнаружены типы воспитания доминирующей гиперпротекции с повышенным контролем за ребенком в 57% семей, неустойчивый тип воспитания - в 62 % семей и только в 6% семей установлен гармоничный тип воспитания.
Тест цветовых выборов М. Люшера показал, что эмоциональное состояние, расцениваемое как «хорошее», не было выявлено ни у одного ребенка. У 33 % детей состояние было расценено как «удовлетворительное», а у 67% - как «плохое». Оценка типов темперамента у 49 детей основной группы (тест Айзенка) выявила холерический темперамент с высокими показателями нейротизма, эмоциональной лабильности у 65% детей, смешанный тип темперамента с высоким нейротизмом - у 20% детей, в то же время эмоционально устойчивые флегматики или сангвиники составляли лишь 15% детей. Эти результаты отражали существующие личностные и семейные проблемы, одним из простых путей их разрешения являлся прием пищи.
Изучая пищевые стереотипы, было обращено внимание на то, что дети основной группы употребляли термин «заедание стресса» почти в 2 раза чаще, чем дети группы сравнения (р < 0,01). Привычка «заедать стресс» воспроизводит тип реагирования на отрицательные эмоции, унаследованные от родителей (в основном материнский) и расценивается как неадаптивный вариант копинг-поведения (совладания со стрессом).
Анализ психологических особенностей выявил статистически значимые различия по частоте их нарушений в зависимости от массы тела (табл.14).
Таблица 14
Частота психологических особенностей детей основной группы (n=97)
и группы сравнения (n=53), кол-во (%)
| Группа | Основная | Сравнения | p |
| Повышенный уровень тревожности | 57 (59%) | 21 (40%) | < 0,03 |
| Сложные детско-родительские отношения | 35 (36%) | 8 (15%) | < 0,01 |
| Страхи | 32 (33%) | 9 (17%) | < 0,04 |
Повышенный уровень тревожности обнаруживался среди детей основной группы в 1,5 раза чаще, сложные детско-родительские отношения и страхи - в 2 раза чаще, чем в группе сравнения, что совпадает с литературными данными. Интересно, что страхи (в основном связанные со школой), которые могли быть причиной «заедания стресса» встречались у 33% детей с избыточной массой тела и 17 % детей с нормальной массой тела. В это же самое время дети обеих групп называли при опросе стресс как причину повышенного аппетита в 2 раза чаще (59 и 33% соответственно).
И если в основной группе 2/3 детей заедали стресс и имели избыточную массу тела, то в группе сравнения 1/3 детей таким же образом справлялась со стрессом, при этом сохраняя нормальную массу тела. С одной стороны эти факты подтверждают роль наследственности в формировании избыточной массы тела, а с другой стороны, такие привычки питания у детей с нормальной массой тела могут в юношеском и взрослом возрасте привести к увеличению массы тела и развитию ожирения, а также к нарастанию частоты поражений ВОПТ.
Продолжительное сохранение синдрома абдоминалгии и диспепсии на фоне постоянных нарушений диеты во многом было обусловлено степенью ответственности (уровнем контроля) ребенка за свое здоровье и родителей за его здоровье, которая в основной группе отсутствовала у 74% детей и 65% их матерей. Полученные результаты подтверждают значимость проведения семейной психотерапии с целью формирования устойчивой комплаентности у детей с поражением ВОПТ и избыточной массой тела. Эффективность воздействия на внешнесредовые факторы определяет возможности профилактики развития избыточной массы тела и поражения ВОПТ. Именно разрушение пищевых стереотипов и является главной целью психолога, гастроэнтеролога и педиатра. Психологическое консультирование должно проводиться со всеми членами семьи, поскольку родители определяют рацион ребенка, соблюдение диеты всей семьей позволяет добиться желаемого результата.
С целью повышения эффективности индивидуальных лечебных программ у детей с различными поражениями верхних отделов пищеварительного тракта и избыточной массой тела необходимо учитывать клинические признаки заболевания, эндоскопические и морфологические критерии, метаболические нарушения и психологические особенности детей.
