Особенности структуры эстетического поля денотативного класса (на материале русской поэзии XVIII-XX вв.) 10. 02. 01 Русский язык
| Вид материала | Автореферат диссертации |
- Особенности выражения чувственного, рационального и прагматического компонентов в единицах, 301.02kb.
- Особенности функционирования категории числа имён существительных с потенциально полной, 340.8kb.
- Русский язык Зачет №1, 92.42kb.
- Тюркские лексические элементы в русской лингвографии XVIII xx веков 10. 02. 01 русский, 971.75kb.
- Русский язык 11-б класс, 9.64kb.
- Киянова ольга Николаевна Заведующая кафедрой, 27.74kb.
- Языковые средства выражения времени в поэзии бориса пастернака, 333.31kb.
- Сочинение Никитиной Анны, ученицы 5 «Б» класса «Мои предложения по реформированию русского, 29.59kb.
- Задания для учащихся 8а класса. Учитель Орлова И. В. Русский язык, 7.47kb.
- Задание по русскому языку и литературе для обучающихся 12 класса за 1 полугодие. Русский, 20.15kb.
На правах рукописи
Осколкова Наталья Васильевна
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
ДЕНОТАТИВНОГО КЛАССА <ВЕТЕР>
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ XVIII–XX ВВ.)
10.02.01 – РУССКИЙ ЯЗЫК
Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук
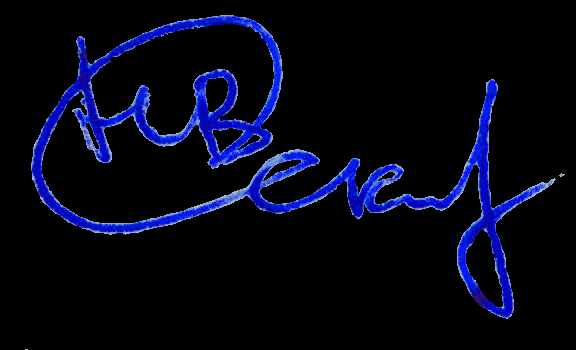
Архангельск – 2004
Работа выполнена на кафедре языкознания Северодвинского филиала
государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
Научный руководитель: доктор филологических наук, профессор
Симашко Татьяна Васильевна
Официальные оппоненты: доктор филологических наук, профессор
Лекант Павел Александрович
кандидат филологических наук
Нефедова Светлана Николаевна
Ведущая организация: Уральский государственный педагогический
университет
Защита состоится 2 октября 2004 г. в 1000 часов на заседании диссертацион-ного совета КМ 212.191.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата филологических наук при Поморском государственном университете имени М.В. Ломоносова по адресу: 164520, Архангельская область, г. Северо-двинск, ул. Торцева, 6, ауд. 21.
С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Поморского государственного университета имени М.В. Ломоносова по адресу: 163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 4.
Автореферат разослан «___» августа 2004 г.
У
 ченый секретарь
ченый секретарьдиссертационного совета
кандидат филологических наук,
профессор Э.Я. Фесенко
Поэтическая гносеология изучает образ мира, который воссоздается при функционировании языка в эстетической сфере. Эстетическая составляющая проблемы художественного познания действительности давно привлекает внимание филологов (А. Белый, Д.Д. Благой, В.В. Виноградов, В.П. Григорьев, Б.А. Ларин, Д.С. Лихачев, Л.А. Новиков, А.А. Потебня, В.П. Тимофеев, М.Б. Храпченко, А.В. Чичерин, М.Н. Эпштейн и др.). Гносеологический компонент образного освоения мира до недавнего времени анализировался только с философской точки зрения (С.Р. Вартазарян, Г.Л. Ермаш, А.Я. Зись, А.М. Коршунов, Т.Б. Кудряшова, Л.С. Пе-стрякова, В.А. Разумный, В.И. Самохвалова, А.В. Славин, Г.М. Юламанова и др.). Актуальным направлением современной лингвистики является исследование особенностей индивидуального поэтического мировидения. Рассматриваются стили, идиостили, идиолекты, поэтические модели мира отдельных авторов (Ю.М. Валиева, С.Б. Виноградова, И.Ю. Гаврикова, В.П. Григорьев, И.А. Гулова, И.И. Ковтунова, Н.А. Кожевникова, В.В. Леденева, Е.Г. Малышева, Е.А. Некрасова, С.Н. Нефедова, С.Г. Носовец, З.Ю. Петрова, Н.А. Туранина, Н.А. Фатеева, В.К. Харченко, О.В. Шульская, Л.Г. Яцкевич и др.). Учеными осознается необходимость обращения к описанию общепоэтического, которое представляет не индивидуальную, а национальную специфику образного познания. Между тем методика выявления особенностей эстетического освоения мира остается мало разработанной.
Теоретически существуют два пути изучения принципов эстетического познания действительности. Первый из них состоит в обобщении накопленного опыта исследования множества индивидуально-авторских моделей мира. Практически он вряд ли достижим, так как исследователи используют различные методики, вследствие чего возникают трудности при обобщении результатов. Второй путь предполагает выявление эстетической специфики на фоне обыденно-практического освоения мира. Он представляется весьма перспективным, поскольку обыденно-практическое познание является основой образного освоения действительности и активно изучается в аспекте языковой картины мира (Л.Г. Бабенко, В.Б. Борщев, Г.А. Брутян, Т.В. Булыгина, А. Вежбицкая, Т.И. Вендина, К.И. Деми-дова, О.А. Корнилов, С.А. Курбатова, С.Е. Никитина, М.В. Пименова, М.Б. Сани-на, Т.В. Симашко, Е.В. Урысон, А.Д. Шмелев, Е.С. Яковлева и др.).
Второй путь предполагает выделение отдельных фрагментов мира, существенных как для обыденного, так и для художественного познания. Мы можем найти объективные основания для этого, обратившись к концепции фрагментации языковой картины мира на основе денотативного класса, эксплицирующей взаимосвязь обыденного и эстетического познания [Симашко 1998]. Денотативный класс включает единицы, фиксирующие результаты познания человеком свойств определенного объекта. Его центр – базовый фонд – отражает многовековой опыт людей в обыденном освоении данного объекта. Периферию денотативного класса составляют единицы, фиксирующие результаты иных способов познания действительности – научного и эстетического. Итак, денотативный класс является однородным, так как все его единицы отражают свойства одного и того же объекта, и неоднородным в силу закрепления результатов различных способов освоения мира. Т.В. Симашко проанализировано семантическое пространство «человек – природа»; индуктивно (путем отбора и систематизации языковых единиц с одним и тем же денотативным компонентом, извлеченных из национальных словарей) установлен денотативный класс <ветер>; очерчен состав его базового фонда; определены основные направления концептуализации природных объектов в русском языке. Это сформировало необходимую базу нашего исследования. Имя денотативного класса послужило ориентиром для извлечения из художественных текстов единиц эстетической периферии (высказываний, характеризующих денотат <ветер>). Выделенные направления концептуализации задали логику анализа материала.
Таким образом, актуальность диссертационного исследования определяется неразработанностью методики выявления особенностей эстетического освоения фрагмента мира, учитывающей взаимосвязь обыденного и образного познания действительности.
В качестве гипотезы исследования было принято то положение, что существуют индивидуальные поэтические образы и образные универсалии. Последние, будучи устойчивыми стереотипами отражения мира, различны для разных периодов развития русского поэтического языка и могут свидетельствовать об эволюции способов эстетического освоения действительности.
Цель нашей работы состоит в выявлении особенностей образного познания ветра в русском поэтическом языке. Исследователи отмечают значимость данного явления природы для русского сознания (В.С. Баевский, Г.Д. Гачев, В.П. Григорьев, Т.В. Симашко). Кроме того, выбор элемента реальности, минимально подверженного изменению, позволяет четко отграничить изменения в интерпретации явления от изменений, происходящих с самим явлением.
Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи:
1. Обосновать необходимость введения нового понятия «эстетическое поле денотативного класса», эксплицировать структуру эстетического поля.
2. Определить пути формирования эстетического поля в поэтическом языке.
3. Выявить закономерности чувственного отражения ветра в русской поэзии, а также типичные эмоции и оценки, вызываемые данным явлением природы, которые зафиксированы в поэтических текстах.
4. Проанализировать частотные тропы, включающие единицы денотативного класса <ветер>; выявить устойчивые принципы образной концептуализации ветра с помощью изобразительно-выразительных средств.
5. Разработать методику описания эстетических особенностей определенного фрагмента языковой картины мира.
Объектом исследования послужили русские поэтические тексты XVIII– XX вв. Как неоднократно упоминалось в научной литературе, язык поэзии в своих поисках и экспериментах в сфере новых средств эстетической гносеологии, как правило, обгоняет язык прозы (В.П. Григорьев, В.М. Жирмунский, В.В. Кожинов, А.А. Потебня, В.П. Тимофеев). Поэзия XVIII в. – самое начало русского авторского творчества. Это период активного формирования норм литературного языка, а значит, и складывания изобразительно-выразительных средств, развития способов передачи результатов эстетического познания действительности. Общепринятое деление поэтического языка на периоды (XVIII, XIX и XX вв.) можно считать условным, но оно достаточно для целей нашего исследования, так как отражает серьезные изменения принципов образной интерпретации мира.
Предметом исследования является изучение особенностей эстетического освоения ветра (движения воздушных масс), представленных в русской поэзии.
Материалом исследования послужили поэтические высказывания более 100 авторов, реализующие образ ветра (около 6,5 тысяч единиц).
В ходе исследования был использован комплекс методов. Сбор материала осуществлялся методом сплошной выборки, без деления авторов, как это часто делается, на поэтов «первого», «второго» ряда. Основной метод исследования – моделирование объекта, обладающего эволюционными свойствами. При его описании использовалась полевая методика. При обобщении, систематизации и интерпретации результатов наблюдений применялся описательный метод. Кроме того, были использованы элементы семантико-стилистического, контекстуального и количественного методов анализа, а также общенаучные методы наблюдения, обобщения и сопоставления. Современная интегральная парадигма научного знания делает необходимым привлечение не только собственно лингвистических, но и литературоведческих, философских, семиотических, психологических данных.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Эстетическое поле денотативного класса является моделью эстетического освоения фрагмента мира. Со статической точки зрения оно представляет собой совокупность единиц, фиксирующих результаты образного познания мира на определенном этапе развития поэтического языка, с динамической точки зрения эстетическое поле является схемой процесса образного познания действительности.
2. Эстетическое поле – часть денотативного класса, в котором оно находится на периферии. Это обусловливает неоднородность маргиналий эстетического поля как ключевую особенность его структуры. В эстетическом поле выделяются: ядро, представляющее собой устойчивые способы поэтического освоения фрагмента мира (образные универсалии); центр, состоящий из поэтических формул, характерных для отдельных периодов развития поэтического языка; индивидуально-авторская маргиналия (от лат. margo, inis – край), в которую входят нетипичные (для отдельных периодов или для поэтического языка в целом) образы; маргиналия, граничащая с базовым фондом денотативного класса.
3. Существует две стратегии образного познания мира: автологическая (заимствованная из базового фонда денотативного класса) и металогическая (специфическая для поэтического освоения мира). Это связано с включением в эстетическое поле как общенародных, так и индивидуально-авторских языковых единиц, а также с появлением различных типов поэтических формул: поэтических формул, основанных на перцептивных образах ветра, и поэтических формул, воплощенных с помощью изобразительно-выразительных средств.
4. Принципы чувственного отражения фрагмента мира, которые лежат в основе эмоциональных и оценочных компонентов образа ветра в русском поэтическом языке, можно рассматривать как устойчивые в рамках отдельных периодов развития поэтического языка. Сопоставление различных периодов способствует выявлению их исторической изменчивости, свидетельствующей об эволюции образного освоения фрагмента мира.
5. Изобразительно-выразительные средства являются специальными приемами образной концептуализации. Специфика познаваемого фрагмента мира предопределяет выбор способов его эстетического освоения, что позволяет говорить об их устойчивости. Образы ветра во все периоды развития поэтического языка создаются с помощью олицетворений, эпитетов, сравнений и метафор. Основные направления эволюции эстетического освоения природного объекта <ветер> проявляются в увеличении арсенала средств олицетворения, в расширении числа эпитетов к единицам денотативного класса <ветер> и в появлении новых объектов, сопоставляющихся с ветром в рамках компаративных тропов.
Научная новизна настоящего исследования заключается в том, что в нем показана возможность системного выявления особенностей эстетического освоения фрагмента мира, учитывающая результаты его обыденного познания. Впервые описывается образ ветра в русской поэзии XVIII–XX вв. Выявлены особенности образной концептуализации ветра в русском поэтическом языке. Структурирована эстетическая периферия денотативного класса, показана ее динамика.
Теоретическая значимость исследования состоит в выявлении структуры и динамики эстетического поля определенного денотативного класса, в разработке методики описания эстетической составляющей фрагмента языковой картины мира. Продемонстрирована возможность взаимосвязанного описания результатов эстетического и обыденно-практического познания. Представлен целостный образ ветра как компонент русской поэтической модели мира.
Практическая ценность работы определяется тем, что методика выявления особенностей образного познания фрагмента мира может быть применена при описании эстетического освоения других объектов действительности. Привлекаемый к исследованию материал может быть использован при составлении словаря денотативного класса <ветер>. Материалы, наблюдения и результаты работы могут найти применение при чтении вузовских курсов «Лингвистический анализ художественного текста», «Теория языка», «История русского литературного языка», «История русской литературы», при подготовке спецкурсов.
Апробация работы. По материалам исследования были сделаны доклады и сообщения на Международных научных конференциях (Северодвинск, май 2002; Архангельск, сентябрь 2002; Кемерово, октябрь 2002), Всероссийских научных и научно-практических конференциях (Северодвинск, сентябрь 2003; Пенза, февраль 2004; Соликамск, февраль 2004); Межрегиональных научных конференциях (Кемерово, февраль 2003; Смоленск, май 2004); внутривузовских научно-практических конференциях, проводимых в рамках Ломоносовских чтений (Северодвинск, ноябрь 2001, 2002), на Ломоносовских чтениях аспирантов и студентов (Архангельск, апрель 2002, 2003). Основные положения работы обсуждались на заседаниях кафедры языкознания (2003–2004 гг.) и на совместном заседании кафедр русского языка и языкознания (2004 г.), а также на семинарах аспирантов кафедры языкознания (2002–2004 гг.). По теме исследования имеется 9 публикаций общим объемом 2, 4 печатных листа.
Диссертационное исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования РФ: конкурс грантов 2003 года Минобразования России на соискание грантов для поддержки научно-исследовательской работы аспирантов вузов Минобразования России, проект АОЗ–1.5–284 «Особенности структуры эстетического поля денотативного класса <ветер> (на материале русской поэзии XVIII–XX вв.)».
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и списка источников.
Основное содержание работы
Во введении к диссертации обосновывается актуальность, новизна и практическая значимость работы, формулируются ее цель и задачи, излагается гипотеза исследования, определяются объект, предмет и методы исследования, формулируются положения, выносимые на защиту, кратко характеризуются используемые в работе понятия денотативного класса, его базового фонда и периферий.
Глава 1 «Эстетическое поле денотативного класса как основа описания особенностей образного освоения фрагмента мира» посвящена обоснованию предлагаемого подхода к моделированию поэтического языка. В 1.1 анализируются дискуссионные вопросы системного описания поэтического языка. Рассмотрены различные концепции: поэтическое слово как экспрессема (В.П. Григорьев), парадигма образов (Н.В. Павлович), образная парадигма (Н.Н. Иванова), ассоциативно-семантическое поле (Н.А. Илюхина).
В концепции В.П. Григорьева нам близка идея сопоставления поэтического слова с другими его употреблениями в поэтической речи (то есть выявление общепоэтической нормы словоупотребления). Интересен предлагаемый ученым подход к структурированию экспрессемы. Ее центр образуют наиболее эстетически значимые элементы – яркие, узнаваемые индивидуально-авторские образы («основной контекстный фонд»), а на периферию оттесняются все устойчивые, частотные образы как представляющие меньшую эстетическую ценность [Григорьев 1979]. Такой подход вполне закономерен с учетом поставленной цели – выявления эстетического «приращения смысла». Однако для исследования гносеологического потенциала поэтического языка этот путь не подходит.
Теория Н.В. Павлович базируется на положении, что каждый поэтический образ существует в ряду других, сходных с ним образов, реализующих определенную парадигму [Павлович 1995, 1999]. С одной стороны, такой взгляд позволяет выявлять эволюцию отдельных образов, анализировать основные направления развития поэтического языка в целом. С другой стороны, он отрицает наличие индивидуально-авторских образов, которые невозможно включить ни в одну парадигму (если только не сформулировать парадигмы очень широко, что, в свою очередь, поставит вопрос о целесообразности подобных отвлеченных обобщений). Н.В. Павлович полагает, что новую парадигму придумать невозможно (то есть все они уже «открыты» поэтами). Свидетельствует ли это об исчерпанности ресурсов образного познания?
Исследования Н.Н. Ивановой и Н.А. Илюхиной направлены на выявление специфики образной интерпретации денотатов. Это созвучно цели нашей работы. Подход Н.Н. Ивановой близок концепции В.П. Григорьева в том отношении, что объектом анализа выступают поэтические номинации, имеющие в поэзии особый эстетический смысл, специфическую семантическую и экспрессивную нагруженность [Иванова 1990, 2004]. Однако констатация номинативных рядов не позволяет ответить на следующие существенные вопросы: Какие свойства денотата являются наиболее существенными для его образного обозначения? Как соотносятся различные ряды, характеризующие один и тот же денотат? Иначе говоря, образные парадигмы не направлены на представление результатов эстетического освоения объекта. Их цель – выявление эволюции образных средств поэзии.
Н.А. Илюхина использует полевую методику. Это позволяет включать в ассоциативно-семантическое поле разноструктурные единицы, воплощающие образ определенного денотата. Для данной концепции характерны направленность на выявление результатов познавательной деятельности человека, закрепленных в образных комплексах, учет внутренней системности образов [Илюхина 1999]. Однако в ней отсутствует необходимая для нашего исследования проекция на обыденное освоение действительности, не ясны основания предлагаемой фрагментации языковой картины мира.
Итак, отсутствие концепции, которая могла бы обеспечить достижение цели данного исследования, предопределило разработку новой методики описания особенностей эстетического освоения мира и введение понятия «эстетическое поле денотативного класса».
Эстетическое поле, с одной стороны, представляет собой совокупность образов, отражающих прямо или косвенно свойства изучаемого фрагмента действительности. Иначе говоря, оно фиксирует результаты образного освоения денотата, обозначенного именем денотативного класса. Следовательно, эстетическое поле имеет гносеологическую направленность. Принципиально важно, что охватить все единицы эстетического поля невозможно не столько в связи с огромным количеством фактического материала, сколько вследствие его постоянного производства. Поэтому, с другой стороны, эстетическое поле рассматривается как модель, схематично представляющая основной принцип группировки единиц. Экспликация структуры поля и типичные примеры из различных его «зон» демонстрируют особенности образного освоения фрагмента мира. Структура эстетического поля денотативного класса анализируется в 1.2. Выделены три основные «зоны»: 1) центр (включающий ядро); 2) индивидуально-авторская маргиналия; 3) маргиналия, граничащая с базовым фондом денотативного класса.
Центр эстетического поля составляют поэтические формулы. Это частотные образы, которые, несмотря на многочисленные воспроизведения, не утрачивают свой эстетический потенциал. Они осознаются как принадлежность поэтического языка. Например, в центр эстетического поля денотативного класса <ветер> в различные периоды развития поэтического языка входят следующие образы: зефир целует цветы (XVIII в.); конь как вихрь (XIX в.); черный ветер (XX в.).
В центре эстетического поля можно выделить ядро, образы которого являются своеобразными «образными универсалиями» русского поэтического языка. Они частотны во все рассмотренные нами периоды его развития. Например: крылья ветра; ветер играет в волосах; ветер колышет растения; голос ветра.
Как и любое полевое образование, эстетическое поле включает не только центр, но и маргиналии. Его маргиналии не являются однородными. Одна из них максимально удалена от базового фонда денотативного класса и представлена индивидуально-авторскими образами денотата, например: Пусть ветер, рябину занянчив, / Пугает ее перед сном (Пастернак) или Грузный ветер окаянно воет (Ахматова). Другая маргиналия, напротив, находится на границе с базовым фондом и представлена единицами, встречающимися и в обыденной речи, например: Ветер с моря тучи гонит (Кузмин) или По Дунаю дует ветер (Багрицкий).
В эстетическом поле взаимодействие индивидуально-авторского и традиционно-поэтического неизбежно. Граница между центром и индивидуально-авторской маргиналией является нечеткой, размытой, что создает переходную зону, в которую входят трансформированные поэтические формулы. Например, отталкиваясь от поэтической формулы крылья ветра, поэты создают такие образы: Ленивый ветр в листах осины / Трепещет пойманным крылом (Тургенев); Не ветру ль штопают крыло, / Как ласты мельнице (Клюев); … сгоняет твой туман / Поток ветров, крылато дующих (Есенин); Как этот вечер грузен, не крылат! (Гуми-лев). У авторов XX в. встречаются образы крылья метели и руки ветра, которые также можно рассматривать как развитие традиционного образа: Пожар метели белокрылой (Блок); И доставали плеча твоего / Крылья метели (Кушнер); И ветра хладная рука / Покров суровый обнажала (Хлебников); Волну и не гладят ветровы пальчики (Маяковский); Ветер упирал ладони в грудь (Асеев).
Формирование эстетического поля обусловлено индивидуально-авторским творчеством поэтов, использующих любые ресурсы языка. В связи с этим можно говорить о разных типах отношений как между базовым фондом денотативного класса и эстетическим полем, так и между отдельными зонами последнего. Индивидуально-авторская маргиналия может считаться основным источником эстетического поля, так как даже поэтические формулы первоначально были авторскими образами. К примеру, упоминавшаяся выше поэтическая формула крылья ветра в XVIII в. встречается в основном у М. Ломоносова. Авторы XIX–XX вв. часто обращаются к этому образу, в том числе и в трансформированном виде. Таким образом, индивидуально-авторский образ может превратиться в поэтическую формулу и перейти в центр эстетического поля. Дальнейшая «депоэтизация» и утрата эстетического потенциала приводит к перемещению единицы на границу с базовым фондом или даже к ее переходу в базовый фонд денотативного класса (злой ветер, вой ветра).
В свою очередь, базовый фонд денотативного класса может стать источником формирования эстетического поля. Переход единиц из базового фонда в эстетическое поле сопровождается развитием у них эстетического значения, которое, отталкиваясь от их общеязыкового значения, или полностью преобразует его, или осложняется в контексте за счет семантической многоплановости, обрастает ассоциативными смыслами. В первом случае такая преобразованная единица включается в состав индивидуально-авторской маргиналии эстетического поля, во втором – пополняет состав маргиналии, граничащей с базовым фондом. Регулярное воспроизведение отдельных образов, генетически восходящих к обыденной речи, приводит к их превращению в поэтические формулы и к переходу в центр эстетического поля денотативного класса. Примерами являются частотные зрительные образы воздействия ветра на воду, флаг, листья, пыль: Осенний ветер бушевал / И волны вскидывал высоко (Суриков); И вьются полосаты флаги… (Державин); Зачем крутится ветр в овраге, / Подъемлет лист и пыль несет… (Пушкин).
Постоянное пополнение эстетического поля неизбежно, так как образное освоение значимых объектов вряд ли может полностью завершиться. Искусство непрерывно обогащается новыми способами освоения мира.
Глава 2 «Образ ветра в русской поэзии XVIII–XX вв.» посвящена автологической стратегии образного познания. Данная стратегия обусловлена тем, что эстетическое поле находится на периферии денотативного класса. Выделившись в ходе исторического развития и дифференциации когнитивных практик из базового фонда, оно неизбежно заимствует отдельные способы освоения мира, присущие обыденному сознанию. Среди наиболее существенных сторон человеческого знания о мире – концептуализация физических свойств объекта, а также оценка свойств объекта и проявление к ним эмоций со стороны субъекта [Симашко 1998].
В 2.1 анализируются устойчивые принципы чувственного отражения ветра в русской поэзии. Основное внимание сосредоточено на физических свойствах этого явления природы. Результаты освоения любого объекта зависят от особенностей познающего субъекта. В связи с этим поэтические образы ветра рассмотрены с учетом модуса перцепции (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус).
Зрительные образы ветра наиболее частотны в русской поэзии. Ветер доступен зрительному восприятию только опосредованно. Поэтому все зрительные образы ветра классифицированы по объектам, которые испытывают его воздействие. Интересно, что число этих объектов, в принципе бесконечное, в поэтических текстах весьма ограниченно. Выделено три основные группы эстетически значимых на протяжении XVIII–XX вв. ситуаций: ветер воздействует 1) на растения; 2) на воду; 3) на человека и артефакты. Они охватывают примерно 70 % проанализированных зрительных образов ветра. Ряд устойчивых образов входит в употребление только в XIX в. Они изображают воздействие ветра на: I. Объекты неживой природы: 1) пыль, песок, снег; 2) облака, туман, дым, пар. II. Объекты живой природы: 1) животные; 2) птицы. С помощью зрительных образов могут быть переданы разнообразные физические свойства ветра (наличие или отсутствие ветра; скорость, направление, характер движения ветра; сила ветра, температура перемещаемых масс воздуха и др.). Наиболее частотны указания на силу ветра. Разнообразие объектов, подвергающихся воздействию ветра, позволяет фиксировать ее довольно дифференцированно.
Слуховые образы ветра разделены на две группы: 1) звуки ветра; 2) звуки, издаваемые объектами под влиянием ветра. Описания звуков ветра характеризуются различной степенью определенности. Распространены обобщенные наименования (голос ветра, шум ветра). Конкретизация описаний звуков ветра достигается сопоставлением со звуками, издаваемыми животными (вой, рев, визг) или человеком (пение, плач, смех, вздох, крик, шепот). Привлекаются и звуки неживой природы: шелест, шорох, грохот. Установлено, что поэты XVIII в. чаще используют звучания, ориентированные на животных: … от северной страны борей ревет (Сумароков); Унывно ветр меж сосен воет (Капнист). В XIX в. в описаниях ветра преобладают звучания, характерные для человека. Наиболее частотными являются шепот, пение и плач: шепот кроткого зефира (Трилунный (Струйский)); Ветер что-то насмешливо пел (Некрасов); Рыдает метель как живая (Симборский). У поэтов XX в. звук ветра чаще всего определяется как пение, свист или вой. Слово свист, обозначающее ‘звук, возникающий при прохождении через узкое отверстие струи воздуха’, является редким примером прямого наименования звука ветра: Ветер свищет в щель (Белый). Однако возможны и метафорические переосмысления, основанные на сопоставлении звука ветра со свистом птицы, человека или звучанием музыкального инструмента, например: Свищет сокол-ветер (Есенин); В два пальца, по-боцмански, ветер свистит (Багрицкий); … ветры свистали, как в дыры кларнетов (Вознесенский).
Отмечена тенденция к формированию устойчивых корреляций между отдельными природными явлениями и характером их слуховых образов: буря – бас: Буря басит (Маяковский), Спокойно слушая басок / Сбирающейся на ночь бури… (Клычков); метель, вьюга – визг: И мы пошли под визг метели (Есенин), В песне вьюги, в шальных ее визгах (Антокольский).
Образы ветра, описывающие звуки, издаваемые объектами под его влиянием, являются производными от соответствующих зрительных образов. В связи с этим частотны описания звуков, производимых под воздействием ветра растениями, водой, артефактами. Например: … колосья под ветром звенят (Блок); Море воет (Давыдов); … знамя / Над крышею клекочет и свистит (Берггольц).
Осязательные образы ветра разбиты на следующие группы: образы, констатирующие наличие ветра; образы, фиксирующие степень тепла воздушных масс, переносимых ветром; образы, фиксирующие силу ветра; образы, фиксирующие другие физические параметры ветра (влажность, характер движения, плотность переносимого воздуха). В основном они создаются с помощью соответствующих определений, преобладают прямые номинации: теплый, холодный, прохладный; тихий, сильный; влажный, сухой; порывистый, ровный; упругий, тугой. К числу ярких индивидуальных образов относятся образы В. Луговского, основанные на осязательных впечатлениях от тканей: жизнерадостный шелковый бриз; Ветер стелется в ущелье / Теплым брюхом шерстяным.
Обонятельные образы ветра реализуют его способность переносить запахи. В поэзии XVIII–XIX вв. преобладают обобщенные указания на приятный запах, приносимый ветром: По ветрам легким, благовонным… (Державин); … ветр долин благоуханный (Полежаев); В душистом ветерке… (Барыкова). Менее частотны образы, включающие наименования источника запаха (цветы, скошенная трава, ароматы с полей). У поэтов XX в. преобладают обозначения конкретных запахов, переносимых ветром. Чаще всего встречаются описания запахов моря (соленый, запах рыбы, смолы) и растений. Появляются описания «неприродных» запахов, например: Древний новгородский ветер, / Пахнущий колокольной медью и дымом бурлацких костров (Клюев), а также запахов неприятных: Этот ветер <…> Принесет вам только запах тленья… (Ахматова).
Отсутствие в поэзии XVIII–XIX вв. вкусовых образов ветра представляется вполне закономерным, если учесть специфику данного природного явления (встречающиеся сочетания типа сладкие зефиры выражают не значение ‘обладающий вкусом как у сахара’, а оценку ‘приятный как сахар’). В лирике XX в. упоминается вкус ветра, однако его конкретные определения единичны. Так, Э. Багрицкий и В. Луговской называют ветер горьким, М. Алигер – терпким. Подобные характеристики, вероятно, не столько фиксируют собственно вкусовые ощущения, сколько призваны выразить дополнительные контекстные смыслы.
Итак, основные свойства ветра концептуализируются с помощью зрительных и осязательных образов. Низкочастотные обонятельные и вкусовые образы ветра служат базой для символического осмысления этого природного явления. Образы ветра, частотные во все рассмотренные периоды, входят в ядро эстетического поля денотативного класса <ветер>. Большинство из них относится к зрительным образам. Наиболее устойчивы образы, рисующие воздействие ветра на растения и на волосы человека. «Формульность» таких образов ощущалась поэтами XX в.: Старый ветер / Нивой старой / Исстари летит (Белый); Все тихо. Даже ветер в волосах / Устал от вековечных повторений (Инбер). Некоторые частотные образы ветра зафиксированы нами только в поэзии XIX–XX вв. Они образуют в эстетическом поле центры соответствующих периодов.
В 2.2 описывается эмоционально-оценочный компонент образа ветра в русской поэзии. Данный прагматический компонент опирается на перцептивные образы ветра и неразрывно с ними связан. Разнообразие физических свойств и качеств ветра обусловливает появление целой гаммы эмоций и оценок.
Выделены два типа образов ветра, содержащих эмоциональный компонент. Первый представлен контекстами, указывающими, какие эмоции вызывает ветер у человека. В поэзии XVIII в. основной эмоциональной реакцией человека на данное природное явление выступает страх. У поэтов XIX–XX вв. преобладающими эмоциями становятся тоска, грусть, печаль, тревога. Образы второго типа описывают ветер как субъекта (носителя) эмоционального состояния. В поэзии XVIII–XIX вв. эмоциями наделяются главным образом холодные сильные ветры. Они предстают гневными, яростными, злыми, сердитыми. Менее частотны появившиеся в XIX в. образы плачущего, жалующегося ветра. В лирике XX в. доминируют описания положительных эмоций ветра (радость, веселье).
Основными физическими характеристиками ветра, оцениваемыми в поэтических текстах, являются сила проявления ветра и степень тепла переносимых им воздушных масс. Традиционно-поэтическая оппозиция, противопоставляющая приятный зефир (несильный, теплый ветер) неприятному борею (холодному ветру, имеющему значительную силу проявления), сформировалась уже в поэзии XVIII в. В поэзии XIX–XX вв. она постепенно разрушается. Уже в начале XIX в. ее однозначность оспаривается А. Востоковым: Дохни, Борей, на нас сурово / И влажный осуши эфир. / С тобою Русакам здорово. / А ты, обманчивый Зефир, / Что веешь к нам с Варяжска моря! / Ты нам теперь причиной горя: / Ведь дождь и слякоть от тебя; / Поди ж и дуй своим Поэтам, / Которы, и зимой и летом / Тебе похвальну песнь трубя, / Бесстыдно лгут пред целым светом.
Сильный, разрушительный ветер оценивается положительно в случае приобретения им символического значения, соотнесенного с явлением, несущим коренные социальные изменения. Особенно последовательно данная тенденция проявляется в творчестве поэтов-демократов, например: Привет тебе, буря, скорее лети, / Покрепче тряхни головой, / Высокие башни разрушь на пути / И лес размечи вековой (Тан (Богораз)). Оценке подвергаются практически все свойства ветра, однако устойчивые корреляции между параметром ветра и его оценкой не образуются. Так, звук, производимый ветром, оценивается по-разному: Как мне любо слушать / Вьюжную свирель! (Блок); Люблю… / Бродяги-ветра звон кудрявый / Среди серебряных берез (Орешин) и Несносный ветер, ты не вой зимою: / И без тебя я сам не свой зимою! (Кузмин); Развылся ветер гадкий (Маяковский). Представляется, что отсутствие общепринятых оценок многих качеств ветра отражает значимость субъективного компонента для эстетического познания мира.
Рассмотрены также утилитарные и эстетические оценки ветра. С утилитарной точки зрения ветер оценивается в основном отрицательно, например: Ветер точит зерно! (Кольцов). Встречаются образы ветра, фиксирующие амбивалентную оценку данного природного явления: Ветер дует затем, / чтоб приводить корабли к пристани дальней / и чтоб песком засыпать караваны (Кузмин).
С эстетической точки зрения ветер оценивается положительно (как «прекрасное»): Следил я легкую кудрей ее игру: / Дыханьем полночи их тихо волновало / И с милого чела красиво отдувало (Фет); Как прекрасен и грозен немой ее (бури. – Н.О.) лик! (Надсон); И в диком совершенстве бури / Цветет пернатая луна (Антокольский); Изнанка листьев такова, / Что нет красивей тополиных / Рядов серебряных, старинных, / Чья ветром вздыблена листва (Кушнер).
Глава 3 «Специфика образного познания мира» посвящена металогической стратегии освоения мира. Эстетическая информация не исчерпывается содержащимися в ней перцептивными и прагматическими компонентами. Искусство не только заимствует приемы освоения мира у обыденного познания, но и вырабатывает новые, специфические способы концептуализации. Ими являются изобразительно-выразительные средства. Они сочетают два характерных признака поэтической речи – изобразительность и выразительность, которые определяют гносеологическую функцию поэтических текстов. Эти особенности поэтического языка концентрированно проявляются в тропеизме художественного слова.
В работе обосновывается целесообразность отграничения олицетворения от метафоры. В их основе лежит один механизм сопоставления, однако они различаются с генетической и функциональной точек зрения. Олицетворение – более древнее изобразительно-выразительное средство (А.Н. Афанасьев, А.Н. Веселовский, С.Н. Бройтман). Вероятно, это обусловливает и функциональное различие. Оно удачно сформулировано Е.А. Некрасовой: «При метафоре денотат переназывается, а при олицетворении домысливается», то есть происходит расширение «его контуров ориентацией на живое существо» [Некрасова 1991]. В 3.1 анализируются олицетворения. Выделены две стадии поэтического освоения ветра с их помощью. Первая – мифопоэтическая – связана с мифологическим мышлением. Ей соответствуют персонифицированные образы ветра. Они представляют его как условное, нереалистичное существо. Русская поэзия, следуя традициям классицизма, опирается главным образом на античные представления: ветер рисуется как существо с крыльями на голове и плечах, с открытым ртом и вздутыми щеками. Рассмотрены особенности создания образов, использующих данные элементы, в различные периоды развития поэтического языка. К числу поэтических формул относятся следующие образы: крылья ветра; дыханье ветерка (ветер дышит). Вторая стадия олицетворения ветра связана с собственно поэтическим мышлением. Она характеризуется сравнением ветра с реальными живыми существами и объединяет образы двух типов: зооморфные и антропоморфные. Конкретные приемы, создающие при этом эффект олицетворения ветра, во многом совпадают. Это 1) сопоставление шума ветра со звуками живых существ; 2) описание «действий» ветра по аналогии с действиями человека или животных; 3) образы, приписывающие ветру телесные характеристики. Собственно антропоморфными являются образы, рисующие психические реакции (характер) ветра. Приведем примеры поэтических формул указанных типов: ветер плачет, стонет; ветер целует, играет, гуляет, порхает, рыщет; сон ветра; руки ветра; безумный ветер. Наи-большее количество способов олицетворения ветра зафиксировано в поэзии XX в.
В 3.2 рассмотрены тропы как способы образной концептуализации. Тропы являются результатом поэтической логики, отражающей преобразовательные процессы на уровне сознания (Дж. Вико). Проанализированы эпитет, сравнение и метафора – самые частотные изобразительно-выразительные средства, с помощью которых в поэтических текстах фиксируются сведения о ветре. Выявлены типичные и индивидуально-авторские образные средства.
Типичные для различных периодов поэтического языка эпитеты к существительным денотативного класса <ветер> связаны с эволюцией поэтического стиля (А.Н. Веселовский, В.М. Жирмунский). Поэтические стили формировали типичные пейзажи, в том числе включающие ветер. Для классицизма и предромантизма (XVIII в.) характерно противопоставление идеального и бурного пейзажей [Эпштейн 1990]. Им соответствуют две группы типичных эпитетов ветра: 1) теплый, весенний, нежный, тихий, легкий, свежий, способный, приятный; 2) свирепый, зимний, осенний, лютый, ужасный, сильный, бурный, шумный, ревущий, буйный, мрачный. Отдельные эпитеты данных групп могут быть соотнесены (например, легкий – сильный, тихий – шумный), однако в целом эти группы несопоставимы, так как первые преимущественно фиксируют осязательные характеристики ветра, а вторые – звуковые и зрительные.
В XIX в., в период становления реалистической художественной системы, пейзаж России осмысляется как северный и как равнинный [Кожуховская 1998]. Это влияет и на выбор эпитетов к существительным денотативного класса <ветер>: преобладают определения холодный, ночной, сильный, яростный, мощный, пугающий, враждебный, вечный (как элемент северного пейзажа) и эпитеты перелетный, летучий, бродячий, вольный, мимолетный (как элемент равнинного пейзажа). Другие характеристики оттесняются на периферию эстетического поля.
В поэзии XX в. примерно половина образов ветра создается при помощи традиционных эпитетов, в том числе трансформированных, созданных на их основе. Так, влиянием равнинного пейзажа объясняется появление образов, развивающих представления о значительных «размерах» ветра: За безмерною зырянской вьюгой… (Клюев); широкий ветер марта (Луговской); Длинный ветер с залива пришел (Берггольц); на высоком ветру (Алигер); размашистой метелью (Боков); Великие ветры / пронзают лопатки (Вознесенский).
Для лирики XX в. типичны экзистенциальные (потусторонний, душный, смертный, загробный), цветовые и световые (черный, темный, мутный, серый, сумрачный, тусклый; голубая, белая, синяя, серебряная) эпитеты. В поэзии второй половины XX в. много эпитетов, связанных с военной темой, например: свинцовый ветер (Асадов); дымные ветры (Берггольц); военные ветры (Боков).
Расширение круга эпитетов к единицам денотативного класса <ветер> демонстрирует эволюцию поэтического освоения данной реалии в русской поэзии.
Компаративные тропы рассмотрены с позиции их когнитивного потенциала. В основе этого подхода лежит точка зрения Аристотеля, указавшего на возможность употребления метафоры не только в качестве языкового украшения, но и как единственного средства языка, способного выразить «невыразимое». Со времен Аристотеля берет начало и традиция совместного рассмотрения метафоры и сравнения, обусловленная взглядом на метафору как на эллиптическое (сжатое) сравнение. Многие современные лингвисты не разделяют данную точку зрения, однако связь между данными тропами не отрицает никто. Это позволило рассматривать сравнение и метафору как сходные приемы концептуализации, в основе которых лежит сопоставление объектов окружающей действительности.
В поэзии ветер сравнивается 1) с животными, 2) с человеком, 3) с орудиями.
1) Единичные сравнения с животными встречаются уже в текстах XVIII в.: у М. Хераскова вихрь сопоставляется с птицей, а у Г. Державина – с вихрепламенным змеем. У поэтов XIX–XX вв. сравнения ветра с птицами нерегулярны. Они сопоставляют ветер с различными птицами по разным основаниям: Как орел, вскружась до звезд / И бросаясь с небосклона / Вихорь волны бьет с разгона (Подолинский); Там ветер молочный поет петухом (Клюев); Мокрой цаплей по лужам полей бороздя, / Ветер заставил все живое, / Как жаб по их гнездам скрыться (Есенин); Сперва постукивал, как дятел (о ветре. – Н.О.) (Мартынов). Более частотны сравнения ветра с животными. В поэзии XIX в. преимущественно используется родовое название: И ветр, как дикий зверь, в пустыне завывал (Тепляков); И воет ветер, будто зверь (Лермонтов). В XX в. преобладают сравнения ветра с конем, что объясняется, вероятно, высокой частотностью «обратного» образа (сравнения коня с ветром) в предшествующие периоды развития поэтического языка: Только ветер по полю, / Словно кони, топает, / Свищет (Есенин); Промчится ли ветра буйный конь (Кузмин). Появляются сравнения ветра с домашними животными, чаще всего с собакой. Основанием сближения двух явлений служит звук и характер движения: Ветер – битая собака – / Нашим песням / Выл не в лад (Васильев); Рысью разбегались листья. / По пятам, как сенбернар, / Прыгал ветер в желтом плисе / Оголившихся чинар (Пастернак).
2) Сравнения ветра с человеком в поэзии XVIII–XIX вв. единичны, они ограничиваются сферой личностных отношений. Например: Ветер, моря / Кроткий любовник… (Станкевич); … буря, вихрь и град, / Кипят, теснятся и спешат, / Как гости к браку на зазывный / Торжественный и светлый пир… (Глинка). В поэзии XX в. распространены сопоставления ветра с человеком определенного рода занятий. Самые частотные – сравнения ветра с пастухом (погонщиком), которые описывают воздействие ветра на облака и воду. Например: Ветер – пастух божьих очей (об облаках. – Н.О.) (Хлебников); … туда, где блещет моря блюдо, / сырой погонщик гнал устало / Невы горбатого верблюда (Маяковский).
3) Сравнения ветра с различными орудиями зафиксированы только в поэзии XX в., причем как наиболее частотные. Чаще всего ветер режет (пронизывает), хлещет (бьет) или метет, поэтому сравнивается в первом случае с мечом, саблей, бритвой, ножом, клинком и т.п., во втором – с плетью, бичом, кнутом, хлыстом, в третьем – с метлой. Приведем примеры: На ветра скрещенных саблях / сложил свою голову снег… (Асеев); Бритвой ветра перья обрей (Маяковский); Огромную гонит волну / Ветров бесноватая плеть (Карим); Летели скворцы <…> Весна их гнала из-за черных скал / Бичами морских ветров (Багрицкий); Подметайте метлой, ветры буйные… (Луговской).
В русском поэтическом языке сопоставления с ветром многочисленны и разнообразны. В поэзии XVIII–XIX вв. преобладают тропы, включающие те единицы денотативного класса, которые обозначают ветер значительной силы (вихрь, буря). В XVIII в. с ними сравниваются социальные катаклизмы (война, мятеж), а в XIX в. – личные переживания. Это приводит к возникновению таких устойчивых образов, как: военные бури, житейские (земные) бури, вихрь страстей. К числу формульных в данный период относятся сравнения коня (либо героя на коне) с вихрем. Для лирики XIX в. характерно сопоставление танца (преимущественно вальса) с единицами денотативного класса <ветер> (чаще всего с вихрем): вихрь танца, буря вальса, вихорь вальса и т.п.
Примерно половина образов поэзии XX в. является трансформированными (или неизмененными) поэтическими формулами. Некоторые тропы, типичные для поэтического языка XVIII–XIX вв., в поэзии XX в. немногочисленны или единичны. Представляется, что потеря актуальности отдельными видами сопоставлений является следствием экстралингвистических причин. Так, например, становится невостребованным сравнение героя, мчащегося на коне, с вихрем, а сопоставление вальса с вихрем – значительно менее частотным.
В поэзии XX в. разнообразны сравнения человека с ветром. В отличие от традиционных поэтических сопоставлений, с ветром сравнивается не человек в целом, а отдельные его «составляющие»: внешний облик (волосы, глаза, брови, рука, голос, походка, смех); эмоции; мысли, память. Приведем примеры реализации поэтической формулы волосы как ветер с различными единицами денотативного класса: Тела их серебрились, / Волос рассыпав вьюгу (Хлебников); Буря спутанных волос (Блок); Раскудрявьтесь, кудри-вихори (Клюев); Над синими безумными очами, / как вьюга, бились белые власы (Евтушенко).
Устойчивыми в поэзии XX в. являются сравнения с метелью, вьюгой, пургой. Для поэтических формул данного периода характерно разнообразие воплощения. Так, поэтическая формула метель на сердце, сопоставляющая эмоции, чувства человека с метелью, реализуется в следующих образах: … утихают сердечные вьюги (Соловьев); У меня на сердце без тебя метель; Сердце метелит твоя улыбка (Есенин); сердце, смятое метелью; Я сердце вьюгой закрутил (Блок); … вот что / и на стеклах вагонных нальдело, / и на сердце / вьюга в полях нанесла (Асеев); Подошли метели / К сердцу моему. / Подошли метели, / Сердце замели (Межиров): Дунет в сердце ветер-снеговей (Асадов); Такая пала на душу ме-тель… (Ахмадулина).
Анализ компаративных тропов обнажает механизм сопоставления, лежащий в основе всех видов мышления. Особенности поэтического сопоставления связаны с возможностью сравнения практически «всего со всем». Тем не менее существуют устойчивые сопоставления, связанные с национальной спецификой видения мира.
В заключении подводятся итоги и освещаются перспективы исследования. Отмечается, что эстетическое поле отражает связь обыденного и эстетического познания, взаимодействие индивидуально-авторского и общепоэтического. Предлагаемая модель поэтического языка позволяет по-новому взглянуть на некоторые традиционные вопросы теории художественной речи.
Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:
1. (Под фамилией Дьячкова Н.В.) Указание направления движения ветра в поэтических текстах XVIII века // С именем Ломоносова. Сборник науч. статей и тезисов докладов / Отв. ред. А.О. Подоплекин. – Архангельск: Поморск. гос. ун-т, 2000. – С. 151–153.
2. (Под фамилией Дьячкова Н.В.) Особенности эстетического освоения ветра в поэтических текстах XVIII века // Проблемы концептуализации действительности и моделирования языковой картины мира: Материалы Междунар. науч. конф. / Отв. ред. Т.В. Симашко. – Архангельск: Поморск. гос. ун-т, 2002. – С. 162–163.
3. К вопросу о выявлении специфики образного познания мира (на материале русской поэзии XVIII–XIX веков) // Sprache. Kultur. Mensch. Ethnie / Hrsg. von M.V. Pimenova. – Landau: Verlag Empirische Pädagogik, 2002. – S. 201–204.
4. Сопоставительный анализ образа ветра в русской поэзии XVIII–XIX вв. // Славянское слово в литературе и языке: Материалы Междунар. науч. конф. / Отв. ред. А.В. Петров. – Архангельск: Поморск. гос. ун-т, 2003. – С. 164–171.
5. Функционирование единиц денотативного класса <ветер> в поэтических текстах XVIII в. // Проблемы культуры, языка, воспитания: Сборник науч. трудов. Вып. 5 / Науч. ред. Т.В. Симашко. – Архангельск: Поморск. гос. ун-т, 2003. – С. 55–58.
6. К определению понятия «эстетическое поле денотативного класса» // Язык. Миф. Этнокультура: Материалы Межрегион. науч. конф. / Отв. ред. Л.А. Шарико-ва. – Кемерово: ИПК «Графика», 2003. – С. 156–159.
7. Специфика перцептивных образов ветра в русской поэзии XX века // Проблемы литературы XX века: в поисках истины: Материалы Всероссийск. науч. конф. / Сост. и отв. ред. Э.Я. Фесенко. – Архангельск: Поморск. гос. ун-т, 2003. – С. 299–306.
8. Обращение к эстетическому полю при переводе художественных текстов // Вопросы теории и практики перевода: Материалы Всероссийск. науч.-практич. конф. / Отв. ред. А.П. Тимонина. – Пенза: ПДЗ, 2004. – С. 145–147.
9. Оценочный компонент образа ветра в русской поэзии // Культура как текст. Сборник науч. трудов. Вып. 4. / Отв. ред. Л.М. Борисенкова. – Смоленск: Изд-во «Универсум», 2004. – С. 258–265.
