Мишель фуко слова и вещи micel foucault les mots et les choses
| Вид материала | Документы |
Содержание8. Желание и представление |
- Введение к: «что такое метафизика?» перевод Бибихина, 225.33kb.
- Tte espèce d’orgueil qui fait avouer avec la même indifférence les bonnes comme les, 1354.18kb.
- Pétri de vanité IL avait encore plus de cette espèce d'orgueil qui fait avouer avec, 1033.77kb.
- Лекция 27. Основные философские положения структурализма, 76.37kb.
- Мишель Фуко Интеллектуалы и власть (Избранные политические статьи, выступления и интервью), 3971.51kb.
- М. Фуко и его "онтология дискурса", 106.1kb.
- Мишель Фуко. Ницше, Фрейд, Маркс, 283.12kb.
- Организатор: ЭкспоМедиаГруппа «Старая Крепость», журнал «Les Nouvelles Esthetiques»,, 37.75kb.
- Книга «Мишель Фуко», 192.79kb.
- Les geants, 2187.76kb.
8. ЖЕЛАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Люди XVII и XVIII веков думают о богатстве, природе или языках, не используя наследие, оставленное им предыдущими эпохами, и не в направлении того, что вскоре будет открыто; они осмысливают их, исходя из общей структуры, которая предписывает им не только понятия и методы, но на более глубоком уровне определяет способ бытия языка, природных особей, объектов потребности и желания; этот способ бытия есть способ бытия представления. Отсюда возникает та общая почва, где история наук выступает как какое-то поверхностное явление. Это не означает, что отныне ее можно оставить в стороне; • но это означает, что рефлексия историчности знания не может больше довольствоваться прослеживанием движения познаний сквозь временную последовательность; действительно, они не представляют собой проявлений наследования или традиции; мы ничего не говорим о том, что их сделало возможными, высказывая то, что было известно до них, и то, что, как говорится, они «внесли нового». История знания может быть построена, исходя лишь из того, что было современным для него, и, конечно, не в понятиях взаимного влияния, а в понятиях условий и полагаемых во времени априори. Именно в этом смысле археология может засвидетельствовать существование всеобщей грамматики, естественной истории и анализа богатств и расчистить, таким образом, пространство без разрывов, в котором история наук, история идей и мнений смогут, если они того хотят, резвиться.
Если анализы представления, языка, природных порядков и богатств являются вполне связными и однородными по отношению друг к другу, то все же существует и глубокая не-
235
устойчивость всей системы. Дело в том. что представление определяет способ бытия языка, особей, природы и самой потребности. Таким образом, анализ представления имеет определяющее значение для всех эмпирических областей. Вся классическая система порядка, вся эта грандиозная таксономия, позволяющая познавать вещи благодаря системе их тождеств, развертывается в открытом внутри себя пространстве посредством представления, когда оно представляет само себя: бытие и тождество находят здесь свое место. Язык есть не что иное, как представление слов, природа — представление существ, а потребность — представление потребности. Конец классического мышления — и этой эпистемы, сделавшей возможными всеобщую грамматику, естественную историю и науку о богатствах, — совпадает с устранением представления или же, скорее, с освобождением, в отношении представления, языка, живой природы и потребности. Непросвещенный, но упорный ум народа, который говорит, необузданность жизни и ее неутомимый напор, глухая сила потребностей ускользнут от способа бытия представления. Представление станет удвоенным, ограниченным, может быть, мистифицированным, во всяком случае управляемым извне благодаря грандиозному порыву свободы, или желания, или воли, которые предстанут как метафизическая изнанка сознания. В современной практике возникнет нечто вроде воли или силы, возможно, конституирующей ее, указывающей, во всяком случае, что классическая эпоха только что завершилась и вместе с ней окончилось царство дискурсии, в ее соотнесенности с представлениями, династия представления, означающего самого себя и высказывающего в последовательности своих слов спящий порядок вещей.
Маркиз де Сад — современник этого переворота. Точнее, его неиссякаемое творчество обнаруживает хрупкое равновесие между беззаконным законом желания и тщательной упорядоченностью дискурсивного представления. Порядок дискурсии находит здесь свой Предел и свой Закон, хотя он все еще сохраняет силу сосуществовать с тем, что им управляет. Несомненно, в этом состоит принцип того «распутства», которое было последним словом западного мира (затем начинается эра сексуальности): распутник — это тот, кто, подчиняясь всем прихотям желания и всем его неистовствам, не только может, но и должен осветить его малейшее движение светом ясного и сознательно используемого представления. У распутной жизни имеется строгий порядок: каждое представление должно сразу же одушевляться в живой плоти желания, а любое желание должно выражаться в чистом свете дискурсии-представления. Отсюда происходит строгая последовательность «сцен» (у Сада сцена — это упорядоченный беспорядок представления), причем внутри сцен имеется тщательно поддерживаемое равнове-
236
сие между комбинаторикой тел и сцеплением причин. Возможно, что «Жюстина» и «Жюльетта» занимают то же ключевое место у колыбели современной культуры, которое занимает «Дон Кихот» между Возрождением и классицизмом. Герой Сервантеса, интерпретируя связи мира и языка так, как это делали в XVI веке, расшифровывая единственно лишь при помощи игры сходства трактиры как замки, а крестьянок как дам, замыкался, сам того не ведая, в модусе чистого представления; однако поскольку это представление имело в качестве закона лишь подобие, то оно не могло избежать своего появления в комической форме бреда. Но во второй части романа Дон Кихот извлек из этого представленного мира свою истину и свой закон; ему ничего другого не оставалось, как ожидать от этой книги, в которой он был рожден, которую он не читал, но за которой он должен был следовать, судьбы, отныне навязанной ему другими. Ему было достаточно жить в замке, где он сам, захваченный своим наваждением в мире чистого представления, стал в конце концов чистым и простым персонажем в инструментарии представления. Герои Сада перекликаются с ним с другого конца классической эпохи, то есть в момент ее упадка. Это не ироническое торжество представления над сходством, а темная навязчивая сила желания, разрывающая пределы представления. «Жюстина» где-то соответствует второй части «Дон Кихота»; она представляет собой постоянный объект желания, чистым источником которого она является, как Дон Кихот поневоле является объектом представления, которое и есть он сам в своей глубокой сути. В Жюстине желание и представление соединяются исключительно при посредстве Другого, представляющего себе героиню как объект желания, в то время как она сама знакома с желанием лишь слегка, в его отстраненной, внешней и застывшей форме представления. В этом ее несчастье: ее невинность пребывает всегда между желанием и представлением как посредник. Жюльетта представляет собой не что иное, как носительницу всевозможных желаний, но все эти желания без остатка воспроизводятся в представлении, которое разумно их обосновывает в дискурсии и сознательно превращает их в сцены. Так эпическое повествование о жизни Жюльетты, разворачивая историю желаний, насилий, зверств и смерти, создает мерцающую картину представления. Но эта картина столь тонка, столь прозрачна по отношению к любым фигурам желания, неустанно собирающимся в ней и приумножающимся единственно лишь силой их комбинаторики, что она столь же безрассудна, сколь и картина, представляющая Дон Кихота, когда он, идя от подобия к подобию, верил, что движется по запутанным дорогам мира и книг, хотя лишь углублялся в лабиринт своих собственных представлений. «Жюльетта» прореживает эти заросли представлений для того, чтобы в них открылись без малейшего
237
изъяна, без всяких недомолвок, без какой бы то ни было завесы все возможности желания.
Поэтому это повествование замыкает классическую эпоху, в то время как «Дон Кихот» ее открывал. И если верно то, что в нем живет еще язык Руссо и Расина, если верно, что это — последний дискурс, предназначенный «представлять», то есть именовать, то хорошо известно, что он сводит этот ритуал к максимально лаконичному выражению (он называет вещи их точными именами, уничтожая тем самым все пространство риторики) и до бесконечности растягивает этот ритуал (называя все, не забывая ничтожнейшей из возможностей, так как они все рассматриваются в соответствии с Универсальной характеристикой Желания). Сад достигает предела классической дискурсии и классического мышления. Его царство у их границ. Начиная с него, насилие, жизнь и смерть, желания и сексуальность развернут под покровом представления бесконечное темное пространство, которое мы теперь пытаемся в меру своих способностей включить в нашу речь, в нашу свободу, в наше мышление. Но наша мысль так коротка, наша свобода так покорна, а наша речь настолько набила оскомину, что нам необходимо учитывать, что, по сути дела, эта сокрытая тень необъятна. Успех «Жюльетты» — это во все большей степени успех у одиночек. И этому успеху не поставлен предел.
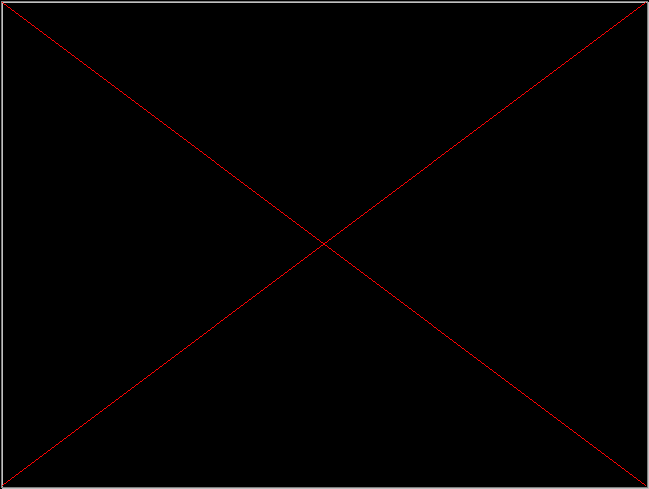
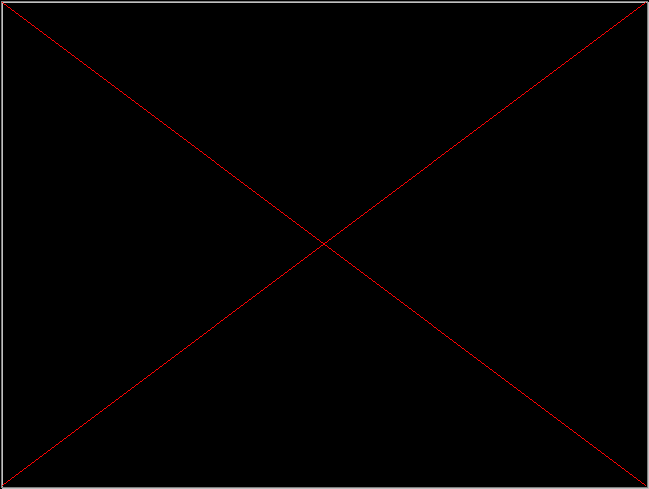
239
