Антология мировой философии в четырех томах том з
| Вид материала | Документы |
- Философское Наследие антология мировой философии в четырех томах том, 11944.29kb.
- Антология мировой философии: Античность, 10550.63kb.
- Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах:, 241.84kb.
- Собрание сочинений в четырех томах ~Том Стихотворения. Рассказы, 42.25kb.
- Собрание сочинений в четырех томах. Том М., Правда, 1981 г. Ocr бычков, 4951.49kb.
- Книга первая (А), 8161.89kb.
- Джордж Гордон Байрон. Корсар, 677.55kb.
- Антология мировой детской литературы., 509.42kb.
- Собрание сочинений в пяти томах том четвертый, 3549.32kb.
- Готфрид вильгельм лейбниц сочинения в четырех томах том , 8259.23kb.
513
17 Антология, т. 3.
йить промышленники и ученые, каждый в своей естественной роли. Вместо этого во главе революции стали леги-сты; они дали ей направление в соответствии с доктринами метафизиков. Излишне напоминать, какой ужасный разброд произошел вследствие этого и какие несчастия явились в результате этого разброда (II, стр. 8—11).
Простой здравый смысл руководит лучше, чем ложные научные построения. Если бы коммуны сами занялись рассмотрением своих интересов, они не были бы вовлечены в метафизические рассуждения о правах человека; они ограничились бы руководством своего собственного политического опыта (II, стр. 45).
РАССУЖДЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНЫЕ, ФИЛОСОФСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ
Философия есть наука об общих понятиях. Основная задача философов заключается в том, чтобы постигнуть наилучшую для данной эпохи систему общественного устройства, чтобы побудить управляемых и правящих принять ее, чтобы усовершенствовать эту систему, поскольку она способна к совершенствованию, чтобы отвергнуть ее, когда она дойдет до крайних пределов своего совершенства, и построить из нее новую при помощи материалов, собранных учеными — специалистами в каждой отдельной области (II, стр. 273—274).
Лучшее общественное устройство — это то, которое делает жизнь людей, составляющих большинство общества, наиболее счастливой, предоставляя им максимум средств и возможностей для удовлетворения их важнейших потребностей.
Это такое общественное устройство, при котором достойнейшие люди, истинная ценность которых наиболее велика, располагают наибольшей возможностью достичь высшего положения независимо от того, куда их поместила случайность рождения.
Это, затем, такое общественное устройство, которое объединяет в одном обществе наиболее многочисленное население и предоставляет в его распоряжение максимум средств для сопротивления иноземцам.
Это, наконец, такое общественное устройство, которое приводит в результате покровительствуемых им трудов к наиболее важным открытиям и к наибольшему прогрессу цивилизации и просвещения (II, стр. 277).
ФУРЬЕ
Великий социалист-утопист Шарль Фурье (Fourier, 1772— 1837) вырос в семье торговца. Ему не дали возможности получить систематическое образование, и большую часть жизни ему приходилось зарабатывать на существование в качестве служащего в
514
торговой конторе, урывками пополняя свои знания путем беспорядочного чтения. Свое учение он изложил в большом цикле работ, и прежде всего в книгах «Теория четырех движений и всеобщих судеб» («Theorie des quatre mouvements et des destinees generates», 1808) и «Новый хозяйственный и социетарный мир» («Le Nouveau Monde industriel et societaire», 1829), к которым примыкают многочисленные статьи и заметки.
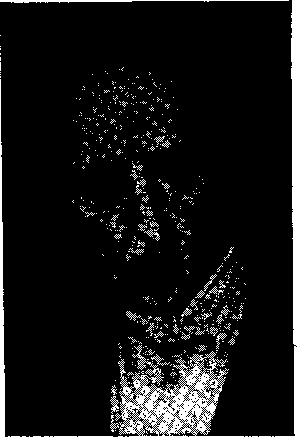
Философское мировоззрение Фурье, заимствованное им из популярных книжек разных идеалистов-мистиков, не представляет интереса. Согласно его взглядам, в мироздании действуют три главные причины — бог, материя и «математика», положенная в основу структурного единства материальной действительности. Соответственно, социальной жизни людей при-сущи свои упорядочивающие законы, которые, однако, пока далёко не все осуществляются, так как их надо еще открыть, чтобы им следовать. Но они составляют стройное единство, своего рода кодекс прав, обязанностей и средств их реализации. В основе их — динамика страстей, используя которую и удастся привести общество к гармоничному состоянию.
Идеальными ячейками этого состояния станут ассоциации, или фаланги, члены которых будут совместно жить и работать в помещениях, называемых фаланстерами. Доход от коллективного труда будет распределяться по «труду, капиталу и таланту»,
поскольку имелось в виду, что путчем мирной пропаганды идей социализма и увлекательным примером удастсся избежатъ капиталистов вступить в фаланги. Ассоциации по возможности будут удовлетворять все свои потребности, но между ними Фурье допускал и отношения обмена. Кроме того, он разработал целую систему мер, позволяющую использовать в общих интересах различные симпатии, антипатии и естественные склонности индивидов (в том числе стремление «соревноваться», вражду к однообразию, любовь к игре и т. д.), а также их возрастные и половые особенности.
Большой интерес представляют отдельные фрагменты философии истории Ш. Фурье с ее идеей противоречивого развития от «земного рая» раннего состояния через эпохи столкновения страстей вплоть до современного строя «цивилизации» к установлению в будущем новой гармонии на более высоком уровне. Здесь мы встречаем немало материалистических догадок и своеобразную стихийную диалектику перехода в противоположное, отрицание
515
отрицания, двойственной социальной функции индивидуальных страстей и эмоций и т. д. Эта диалектика обнаруживается и в яркой критике Фурье социальной дезорганизации и острейших про-тиворечий «цивилизации», т. е. капитализма. Маркс и Энгельс высоко оценивали замечательные предвидкния Фуръе в отношении будущего социалистического строя: об уничтожений разделения труда в прежнем его виде, а также противоположности между го~ родом и деревней, о всесторонней эмансипации женщин и т. д.
В 30-х годах XIX в. учение Фурье приобрело значительную известность, в том числе и в других странах (Польше, России, Германии, США). Стали регулярно выходить фуръеристские журналы, были предприняты попытки организации фаланстеров. Но все они окончились полной неудачей, а у эпигонов фурьеризма (В. Консидеран и др.) это учение превратилось в разновидность мелкобуржуазного либерализма.
Извлечения из произведений Фурье подобраны и отредактированы И. П. Немановым по кн.: 1) Ш. Φ у p ь е. Избранные сочинения. Перевод И. И. Зильберфарба, т. I—IV. М. — Л., 1951, 1954; 2) И. И. Зилъберфарб. Социальная философия Шарля Фурье. М., 1964.
ТЕОРИЯ ЧЕТЫРЕХ ДВИЖЕНИЙ И ВСЕОБЩИХ СУДЕБ1. ОТКРЫТИЕ ВСЕОБЩИХ ЗАКОНОВ ДВИЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ
В начале, как и в конце этого произведения, я привлекаю внимание к истине, совершенно новой для. людей периода цивилизации: она состоит в том, что теория четырех движений — еоциального, животного, органического и материального — была единственным исследованием, которое должен был иметь в виду разум. Это — исследование всеобщей системы природы; это — проблема, которую бог ставит на разрешение перед всеми планетами; и их обитатели могут достигнуть счастья лишь после того, как они ее разрешат.
До сих пор вы не решили и даже не изучили ее; вы затронули лишь четвертую и последнюю ветвь этой теории — теорию материального движения, законы которого открыли вам Ньютон и Лейбниц. Мне придется не раз ставить вам в упрек это отставание человеческого ума.
[...] Поскольку возвещенное мной открытие само по себе более важно, чем все научные работы, сделанные с тех пор, как существует род человеческий, один лишь спор должен отныне занимать людей периода цивилизации: это спор с целью удостовериться, действительно ли я открыл теорию четырех движений; ибо в случае подтверждения
516
следует бросить в огонь все политические, моральные и экономические теории и готовиться к самому изумительному, самому счастливому событию, какое может иметь место на этом земном шаре и на всех планетах,— к внезапному переходу от социального хаоса квсемирной гармонии.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
.[Теория всеобщих судеб] представляет ключ ко всем изобретениям, постижимым для человеческого ума; она нас введет внезапно в познания, которые могли бы стоить еще десяти тысяч лет исследовательской работы при медлительности современных методов.
Провозвещение этой теории должно прежде всего возбудить недоверие из-за одного обещания поднять людей к познанию судеб. Поэтому я полагаю уместным ознакомить с указаниями, приведшими меня на этот путь. Это пояснение докажет, что открытие не требовало никакого научного усилия и что самые незначительные ученые могли бы прийти к нему до меня, если бы у них было требуемое для этого исследования качество — отсутствие предубеждения. Именно в этом отношении у меня были для исчисления судеб такие данные, каких не имели философы, поддерживающие и превозносящие предрассудки, в то же время делая вид, будто они борются против них.
Под именем философов я понимаю здесь только авторов неопределенных наук — политиков, моралистов, экономистов и прочих, теории которых несовместимы с опытом и почитают за правило лишь фантазию авторов. Пусть же помнят, что, когда я буду говорить о философах, я имею в виду только философов неопределенного разряда, но не творцов определенных наук.
I. УКАЗАНИЯ И МЕТОДЫ, ПРИВЕДШИЕ К ВОЗВЕЩЕННОМУ ОТКРЫТИЮ
С тех пор как философы доказали свою несостоятельность при первом их опыте— французской революции, всяк согласен рассматривать их науку как заблуждение человеческого духа; потоки политического и морального просвещения стали представляться с тех пор лишь потоками иллюзий. [...]
517
После катастрофы 1793 г. иллюзии рассеялись; политические и моральные науки были опозорены и безвозвратно утратили доверие. Отныне следовало предвидеть, что от всех приобретенных познаний не приходится ждать счастья, что социального благоденствия надо искать в какой-то новой науке и проложить новые пути политическому духу; ибо было очевидно, что ни философы, ни их соперники не знают средств от социальных страданий и что под прикрытием догм тех и других вечно продолжались бы самые позорные, бедствия, в том числе и нищета. [...]
Я находил поощрение в многочисленных показателях заблуждений разума, и особенно в зрелище бедствий, которые претерпевает общественное хозяйство: нищеты, безработицы, успехов плутни, морского пиратства, торговой монополии, увода в рабство, наконец, многих других несчастий, перечисление которых я опускаю и которые заставляют подозревать, не является ли хозяйственный порядок строя цивилизации общественным бедствием, придуманным богом с целью наказать род человеческий. Отсюда я пришел к предположению, что в этом хозяйственном порядке заключалось некое ниспровержение естественного порядка; что он действовал, быть может, противоречащим божественным видам образом; что стойкость стольких бедствий могла быть приписана отсутствию некоторых мероприятий, угодных богу и неведомых нашим ученым. Наконец, я подумал, что если человеческие общества поражены, согласно мнению Монтескье, «болезнью изнеможения, внутренним пороком, тайным и скрытым ядом», то можно было бы найти средство исцеления, уклоняясь от путей, которыми следуют наши неопределенные науки, не находившие этого средства на протяжении стольких столетий. Поэтому я принял за правило в своих изысканиях абсолютное сомнение и абсолютное уклонение.
[...] Что может быть более несовершенного, чем этот строй цивилизации, который влечет за собой все бедствия? Что может быть более сомнительного, чем его необходимость и увековечение его на будущее? Разве не вероятно, что он является лишь ступенью на пути общественного развития? Если ему предшествовали три других строя общества — дикость, патриархат и варварство, то следует ли из этого, что он будет последним потому, что является
518
Четвертым? Не смогут ли народиться отсюда еще другие, и не увидим ли мы пятый, шестой, седьмой общественные порядки, которые будут, может быть, менее бедственными, чем строй цивилизации, и которые оставались неизвестными потому, что никогда не стремились к открытию их? [...] Я избегал всякого изыскания о том, что касалось интересов престола или алтаря, которыми философы занимались беспрерывно с самого возникновения их науки: они всегда искали общественного блага в административных или религиозных нововведениях; я же, наоборот, прилагал все усилия к тому, чтобы искать блага только в действиях, не имеющих никакого отношения ни к администрации, ни к священству, в действиях, зиждущихся только на мероприятиях хозяйственных или бытовых и совместимых со всяким правительством, без надобности в его вмешательстве (1, I, стр. 81, 83—93).
II. О ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ
Решение этой столь пренебрегаемой проблемы вело к решению всех политических проблем. Известно, что иногда достаточно самых малых средств, чтобы произвести самые большие дела: при помощи металлической иглы управляют молнией и ведут судно сквозь бурю и мрак; при помощи столь же простого средства можно положить предел всем общественным бедствиям; и в то время как строй цивилизации плавает в крови, чтоб утолить торговое соперничество, узнают, без сомнения, с интересом, что одно хозяйственное мероприятие покончит с ним навсегда без всякой борьбы и что морская держава, до сих пор столь страшная, будет повержена в абсолютное ничтожество благодаря действию земледельческой ассоциации.
Это мероприятие не было применимо в древности из-за рабства земледельцев: греки и римляне продавали землепашца как вьючное животное с согласия философов, которые никогда не возражали против этого противного обычая. Эти ученые имеют обыкновение считать невозможным все то, чего они не видели: они воображали, что невозможно освободить земледельцев без ниспровержения общественного порядка; однако их освобождения добились, а общественный порядок от этого лишь лучше организован. У философов еще остается в отношении к земледельческой ассоциации такое же предубеждение, какое было
519
У них по отношению к рабству: они считают ее невозможной потому, что она никогда не существовала; видя, как сельские семьи работают разобщенно, они думают, что нет никакого средства объединить их в ассоциацию, или же делают вид, что так думают; ибо по этому вопросу, как и по всякому другому, они заинтересованы в том, чтобы представить неразрешимой любую проблему, разрешить которую они не умеют.
Между тем не раз уже предполагалось, что неисчислимые сбережения и улучшения могли бы произойти, если бы стало возможным объединить в производственное сообщество жителей каждого селения, объединить в ассоциацию с учетом их капитала и их труда две-три сотни семейств неравного достатка, обрабатывающих землю кантона.
Эта идея на первый взгляд кажется гигантской и неосуществимой из-за препятствия, которое такому объединению противопоставляют страсти, препятствия тем более отпугивающего, что их невозможно понемногу преодолеть. Едва ли возможно объединить в земледельческое общество двадцать, тридцать, сорок человек или даже пятьдесят; нужно по крайней мере восемьсот, чтобы образовать ассоциацию природосообразную, или привлекательную. Я понимаю под этими словами общество, члены которого будут вовлечены в трудовую деятельность соревнованием, самолюбием и иными движущими силами, совместимыми с движущей силой выгоды: порядок, о котором идет речь, вызовет у нас страсть к земледелию, ныне столь отталкивающему, что им занимаются только по необходимости и из страха умереть от голода. [...]
Земледельческая ассоциация, если предположить, что она охватит около тысячи человек, представляет для хозяйства столь огромные благодеяния, что трудно объяснить беззаботность современных людей в этом отношении; существует же разряд ученых-экономистов, посвятивших себя специально расчетам усовершенствования хозяйства. Их пренебрежение исследованием метода ассоциации тем более непонятно, что они сами указали на некоторые выгоды, которые произошли бы от этого: например, они признали, и всякий мог признать это, как и они, что триста семейств ассоциированных селян имели бы лишь один единственный амбар, хорошо содержимый, вместо трехсот
520
плохо устроенных амбаров; одну-единственную чановую вместо трех сотен чанов, содержимых большей частью с крайним незнанием дела; что у них было бы в разных случаях, а особенно летом, лишь три или четыре больших очага вместо трехсот; что они посылали бы в город только одну молочницу с бочкой молока на рессорной повозке, что сберегло бы сотню полудней, потерянных сотней молочниц, которые таскают сотню кувшинов молока. Вот некоторые виды экономии, которые предвидели различные наблюдатели, но все же они не указали и двадцатой доли выгод, какие были бы порождены земледельческой ассоциацией (1,. I, стр. 95—98).
Страсти, которые считали врагами согласия и против которых писали столько тысяч томов, которые скоро падут в небытие, — страсти, говорю я, стремятся только к согласию, только к социальному единству, от которого мы считали их столь отдаленными; но они могут приходить к гармонии только по мере того, как они правильно развиваются в прогрессивных сериях, или сериях групп. Вне этого механизма страсти — это только сорвавшиеся с цепи тигры, непонятные загадки; это-то и побуждает философов говорить, что следовало бы подавлять их, — мнение вдвойне нелепое: потому что невозможно подавить страсти и потому что, если бы каждый их подавлял, состояние цивилизованности склонилось бы быстро к ущербу и пало бы обратно к состоянию кочевничества, при котором страсти были бы еще столь же зловредны, какими их можно видеть среди нас; ибо я верю в добродетели пастухов не больше, чем в добродетели их защитников.
Социетарный порядок, который придет на смену бессвязности строя цивилизации, не допускает ни умеренности, ни уравнительства, ничего предусматриваемого философами; он хочет страстей пылких и утонченных: как только ассоциация образована, страсти приходят к согласию тем легче, чем они живее и многочисленнее (1, I, стр. 100-101).[...]
Когда отцы увидят этот новый порядок, они найдут, что их дети достойны обожания в сериях и отвратительны в бессвязных семьях. Когда они, далее, заметят, что в резиденции фаланги (таково наименование, которое я дал ассоциации, обрабатывающей кантон) держат столь чудесный стол, что за одну треть расходов, которых стоит
521
питание в семье, в сериях находят обслуживание втрое более тонкое и более обильное, так что там можно питаться втрое лучше, расходуя на это втрое меньше, чем в семье, да еще избегать затруднений по приобретению продуктов и приготовлению; когда они увидят, наконец, что во взаимоотношениях серий никогда не терпят никакого обмана и что народ, столь лживый и столь грубый при строе цивилизации, в сериях становится сверкающим правдивостью и учтивостью, они проникнутся отвращением к этому семейному быту, к этим городам, к этой цивилизации, которые являются предметом их нынешней привязанности; они захотят ассоциироваться в фаланге серий и жить в ее здании (1, I, стр. 103).
НОВЫЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ И СОЦИЕТАРНЫИ МИР, ИЛИ ОТКРЫТИЕ СПОСОБА ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО
И ПРИРОДОСООБРАЗНОГО ТРУДА, РАСПРЕДЕЛЕННОГО В СЕРИЯХ ПО СТРАСТИ
. АНАЛИЗ ПРИТЯЖЕНИЯ ПО СТРАСТИ
[...] Притяжение по страсти — это побудительная сила, данная природой раньше способности рассуждать, и упорная, несмотря на противодействие разума, долга, предрассудка и пр. (1, III, стр. 5, 113).
Серия по страсти — это союз различных групп, расположенных ступенями в восходящем и нисходящем порядке, объединенных по страсти тождеством вкуса к какой-либо деятельности, например к разведению какого-нибудь плода, с определением особой группы для каждой разновидности работы, какую заключает в себе предмет, которым данная серия занимается. Если она разводит гиацинты или картофель, она должна организовать столько групп, сколько есть среди гиацинтов разновидностей, разводимых на ее почве, и так же в отношении разновидностей картофеля.
Это распределение должно руководствоваться притяжением; всякая группа должна составляться только из сектариев, вовлеченных по страсти, не прибегая к движущим силам необходимости, морали, рассудка, долга и принуждения.
[...] Для механизма серий по страсти разногласия нужны так же, как и согласия: они используют расхождения характеров, вку-сов, инстинктов, состояний, притязаний, образования и пр. Серия питается только контрастными и расположенными по ступеням неравенствами; она столь же требует противоположностей, или антипатий, как и согласий, или симпатий, точно так же как в музыке аккорд образуют, лишь исключая столько же нот, сколько их вводят. [...]
Кроме своих математических свойств в деле распределения доходов объединение серий по страсти обладает великолепными свойствами в отношении социальной гармониии, такими, как со-
522
ревнование, справедливость, правдивость, прямое согласие, обратное согласие, единство.
Соревнование, поднимающее всякую продукцию на наивысшую ступень по качеству и количеству.
Справедливость — средство удовлетворять каждого в притязаниях па продвижение вперед, на восхваление, на поддержку.
Правдивость, осуществляемая по страсти и к тому же обязательная в силу неприменимости обмана.
Прямое согласие — благодаря связи тождеств и противоположностей.
Обратное согласие, или поглощение индивидуальных антипатий притязательными силами коллектива.
Единство действия, содействие всех серий мероприятиям, ведущим к единству.
Строй цивилизации обладает всеми противоположными свойствами: обессиленностью, несправедливостью, плутней, раздором, двойственностью.
Механизм серий по страсти никогда не покоится на обмане чувств (1, III, стр. 123—126).
[ПОДЛИННЫЕ ПЕРВОНАЧАЛА ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ]
[1...] Мы утверждаем, что этим основным началом является производство, что преоразование производства — неприменный путь ко всякому благотворному преобразованию иного рода [...]. Подъем, будь то к какому-либо социальному периоду, будь то к более высокой фазе периода, в котором мы находимся, всегда отмечен обстоятельствами, увеличивающими количество производимых благ и влекущими за собой лучшее, более общее их распределение [...]. Прогресс гораздо лучше и чаще пролагал себе путь при посредстве едва заметных орудий производства [...]. Непрерывное действие этих заурядных орудий [...] определило в большей мере, нежели вообще думают, быстрое движение, какое обрели человеческие общества, и даже формы, в какие они облеклись, вплоть до их религиозных и политических верхушек (2, стр. 95-96).
[2.] Революции следуют, все возрастая; все больше и больше видно, как они назревают вдали, при отсутствии какого-либо средства избежать их, и их неизбежность доказывает, что политика никогда не имела ни малейшего понятия о преобразованиях, каким может подвергнуться порядок цивилизации. Революции возвещают об усталости и нетерпении природы: она находится в состоянии возбуждения, чтоб избавиться от строя цивилизации и варварства.
[...] Вулкан, открывшийся в [17]89 г. под влиянием философии, совершил только первое свое извержение; второе не так уж далеко. Успех Франдузской революции побуждает к новым революциям. Война бедного против богатого имела успех в столь полной мере, что интриганы всех стран только и стремятся к тому, чтобы возобновить ее, и разве можно сомневаться в том, что в столь бурный век случай приведет вскоре к новым возможностям для агитаторов [...] (2, стр. 101).
[3.] Поскольку сущностью порядка цивилизации является ко-
523
варство, этот порядок должен породить зародыш другого, как только коварство станет утонченным и будет доведено до высшей степени. Вы подходите к апогею коварства из-за торгашеского духа, приведшего к промышленному феодализму компаний и к нового рода ужасам [...]. Они вскоре возбудят всеобщее возмущение против торгашеских заговоров и поощряющих их отвратительных наук. Необходимость обрушиться на торговцев и подавить их привела бы к методам хозяйственной гарантии [...], и эта революция недалека (2, стр. 101).
[4] Крайности сходятся, и, чем больше возрастает торговая анархия, тем больше мы приближаемся ко всемирной привилегии. Такова судьба строя цивилизации [...]. Мы увидели бы возрождение феодализма обратного порядка, основанного на торговых союзах вместо союзов знати (2, стр. 99).
[5] Ошибка людей нового времени заключается в том, что они хотят получить кусочек за кусочком все те блага, которые следует ввести коллективно и одновременно путем ассоциации. [...]
Впрочем, цивилизация занимает в лестнице движения важное место, ибо именно она создает движущие силы, необходимые, чтоб открыть путь к ассоциации: она создает крупное производство, высокие науки и изящные искусства. Нужно использовать эти средства, чтобы подняться выше по социальной лестнице (2, стр. 100—101).
[6] Каждый общественный строй несет в себе возможность породить строй, который за ним последует. Достигнув полноты [развития] своих существенных характерных особенностей, он приходит к моменту родов [...].
Использовать разногласия, поскольку доказано, что невозможно их уничтожить [...].
Свобода иллюзорна, если она не является всеобщей; лишь гнет царит там, где свободный порыв страстей ограничен, предоставлен только крайнему меньшинству [...].
Строй цивилизации с его производственными успехами и потоками ложного просвещения не может гарантировать народу труд и хлеб [...].
Денежные сундуки — вот что самое уважаемое при строе цивилизации [...].
Строй цивилизации слишком беден, порок нейтрализует все его попытки к совершенствованию и его мечтания о свободе [...].
Все порочно в этой системе хозяйствования, она во всех смыслах является лишь миром навыворот [...].
Бедность рождается при строе цивилизации из самого изобилия [...].
Порядок, противоположный строю цивилизации [...], может породить лишь такое состояние вещей, результатом которого будет [...] отождествление индивидуального интереса с интересом коллективным таким образом, чтоб индивид мог найти свою выгоду только в действиях, полезных всей массе (2, стр. 87—88).
[7...] Двенадцать обязанностей при методическом изучении, непременных для ученых, если верно, что они ищут истину и что ими руководят пути истины [...].
1°. Исследовать область науки в целом и считать, что ничего не сделано, поскольку еще кое-что остается, что надо сделать [...].
524
2°. Обращаться к опыту и брать его в качестве руководителя [...].
3°. Идти от известного к неизвестному по аналогии [...].
4°. Действовать при помощи анализа и синтеза [...].
5°. Не думать, что природа ограничена известными нам средствами [...].
6°. Сводить к простым движущие силы во всякой механике — материальной или социальной [...].
7°. Присоединяться к опытной истине, принимать только ту истину, которая подтверждена опытом [...].
8°. Идти к согласию с природой [...].
9°. Остерегаться, как бы заблуждения, ставшие предубеждениями, не были взяты в качестве принципов [...].
10°. Наблюдать вещи, которое мы хотим познать, а не воображать их [...].
11°. Избегать, как бы злоупотребление словами, которых не понимают, не было принято за рассуждение [...].
12°. Забыть то, чему мы научились, вернуть ваши идеи к их истокам и проделать заново путь человеческого познания [...].
 Полагать, что все связано в системе мироздания и что между частями его существует единство [...].
Полагать, что все связано в системе мироздания и что между частями его существует единство [...]. Рассчитывать на единство системы. (2, стр. 88—89).
Рассчитывать на единство системы. (2, стр. 88—89).