Карл Бюлер Теория языка Оглавление
| Вид материала | Документы |
Содержание§ 2. МОДЕЛЬ ЯЗЫКА КАК ОРГАНОНА (А) Формы существования конкретных языковых явлений 3. Экспрессия и апелляция как независимые переменные наряду с репрезентацией. Три книги о языке |
- И. А. Кудряшов теория языка учебное пособие, 543.43kb.
- Крупнова Ольга Павловна, учитель русского языка и литературы моу «сош №64» Новокузнецк,, 182.83kb.
- 10. 02. 19 Теория языка, 670kb.
- Программы дисциплин подготовки магистра филологии по направлению 031001. 62 «филология», 474.04kb.
- Специальность 10. 02. 19 Перечень вопросов к кандидатскому экзамену, 28.39kb.
- Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности 10. 02. 19 «Теория языка», 306.52kb.
- Екатерина и ее дети Карл, король Франции, его брат герцог Франсуа Алансонский, 880.21kb.
- Оглавление 1 Теория таможенных тарифов, 422.54kb.
- Программа дисциплины дпп. Ф. 01. Теория языка цели и задачи дисциплины «Теория языка», 256.05kb.
- А. В. Артамошин Карл Шмитт: вехи жизни и творчества, 363.73kb.
§ 2. МОДЕЛЬ ЯЗЫКА КАК ОРГАНОНА (А) Формы существования конкретных языковых явлений
Феномен речи имеет множество разнообразных причин (или мотивов) и занимает значительное место в жизни людей. Даже одинокого путника в пустыне и грезящего во сне он не покидает полностью, но иногда оставляет его онемевшим, причем как в не столь важные, так и в решающие моменты. Этот феномен, разумеется, сопровождает не только размышляющего в одиночестве и действующего молча, он постоянно возникает и в ходе взаимодействия между Я и ТЫ или в объединении МЫ, где это бывает совершенно регулярно. Одинаково далеки от истины закона все слишком обобщенные правила мудрых учителей, которые занимаются этим меняющимся, подобно погоде, явлением человеческой речи. «Если душа заговорит то, увы, говорящее уже более не душа»; ответ из глубины вопрошенного сознания был бы молчанием. Между тем другие придерживаются того мнения, что речь и человеческая сущность сводятся к одному и тому же и формулировки языка (точнее, родного языка) — это среда, в которой нам даются и открываются внешний и внутренний миры; по крайней мере мышление и речь представляют собой одно и то же, а именно Логос, и немое мышление — это лишь неслышимая речь.
В конечном счете мы не хотим вступить в конфликт с мудрыми учителями, а хотим найти модель полного конкретного речевого события в совокупности с жизненными обстоятельствами, в которых оно встречается до некоторой степени регулярно. Я думаю, что высказанная Платоном в диалоге «Кратил» мысль о том, что язык есть organum, служащий для того, чтобы один человек мог сообщить другому нечто о вещи (Ding), удачно схватывает суть дела. В том, что такие сообщения имеют место, нет никаких сомнений, и их привилегированное положение связано с тем, что все другие или большинство других случаев можно добыть из данного основного путем редукции; в самом деле, языковое сообщение в своих основных чертах — это наиболее богатая форма проявления конкретного речевого события. Перечисление один — другому человеку — о вещи называет не менее трех реляционных элементов (Relationsfundamente). Нарисуем схему на бумаге: три точки, сгруппированные в треугольник, четвертая— посередине; теперь поразмышляем о том, что эта схема может символизировать. Четвертая точка в середине символизирует чувственно воспринимаемый, обычно акустический, феномен, который, очевидно, должен состоять в каком-то — прямом или опосредованном — отношении с элементами, помещенными в вершинах. Проведем пунктирные линии от центра к угловым точкам нашей схемы и обдумаем, что символизируют эти пунктирные линии (см. рис. 1).
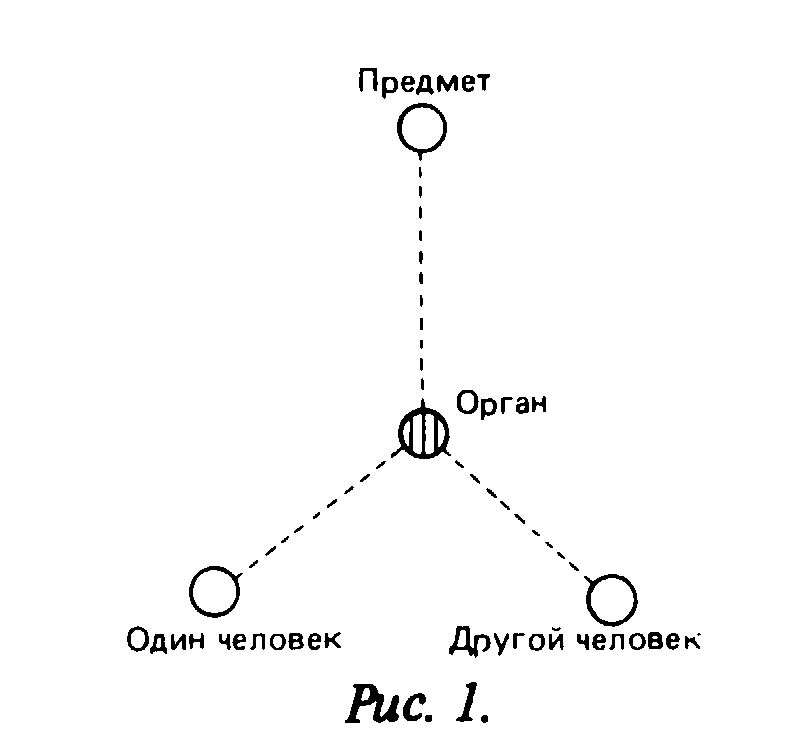
рис. 1
1. Недостаточность каузального подхода
Сегодня всякому непредвзятому истолкователю этой фигуры из точек и линий в первую очередь придет на ум прямой каузальный подход. «Один человек» производит звук, а на «другого» это действует как раздражитель, таким образом, имеются effectus и efficiens1. Для того чтобы придать смысл и третьей пунктирной линии можно поступить по-разному. Простейший способ состоит в указании на нее как на сложную, опосредованную промежуточными элементами каузальную связь событий, сопровождающих речь. Предположительно это выглядит так: произведение звука в говорящем провоцируется с помощью предшествующего по времени чувственного раздражения, которое исходит от некоторого предмета в поле восприятия, и слуховое восприятие звукового феномена стимулирует слушающего обратить взор на этот самый предмет. Вот пример: два человека в комнате один слышит шорох смотрит в окно и говорит: «Идет дождь», — тогда и другой смотрит туда, понуждаемый услышанными словами или взглядом говорящего1. Так все происходит, и при этом круг замыкается наилучшим образом. Тот, кто хочет, может теперь заставить происходящее двигаться дальше по этому замкнутому кругу, как по спирали, без конца. Если вещь или событие все время дает достаточно обильные новые побуждения, которые попеременно воспринимает то один, то другой партнер, если дело глубоко затрагивает обоих, то они уделяют некоторое время его рассмотрению, превращая его в предмет обсуждения в диалоге. Если отойти теперь от иллюстрирующего примера и снова поразмышлять о модели, то, очевидно, рассматривая первичное, еще основанное на слуховом восприятии сообщение, следовало бы придерживаться каузальных цепочек. Что говорит об этом теория языка? Каузальный подход в той или иной форме так же неизбежен в лингвистическом анализе конкретного речевого процесса, как, например, в расследовании какого-нибудь преступления. Судья в уголовном процессе должен квалифицировать не только дело как преступление, но и подсудимого как виновника этого преступления, чтобы его приговорить. Приписывание дела без использования в какой-либо форме идеи каузальности было бы (с логической точки зрения) бессмысленным предприятием. Впрочем, в правовой сфере доведение идеи причинности до конца наталкивается на известные трудности. Я утверждаю, что на трудности такого рода наталкивается и слишком примитивное представление старой психофизики об акте речевого общения (де Соссюр); к тому же это те самые трудности, которые проявляются в самом ядре психологии. Сегодня мы начинаем догадываться, где лежит ошибка в расчетах: системы а и ß в цепи функционируют как весьма автономные позиции. В простейшем случае получение раздражения эквивалентно настоящему «сообщению» (Meldung), а его отправление — это всегда «действие» (Handlung).
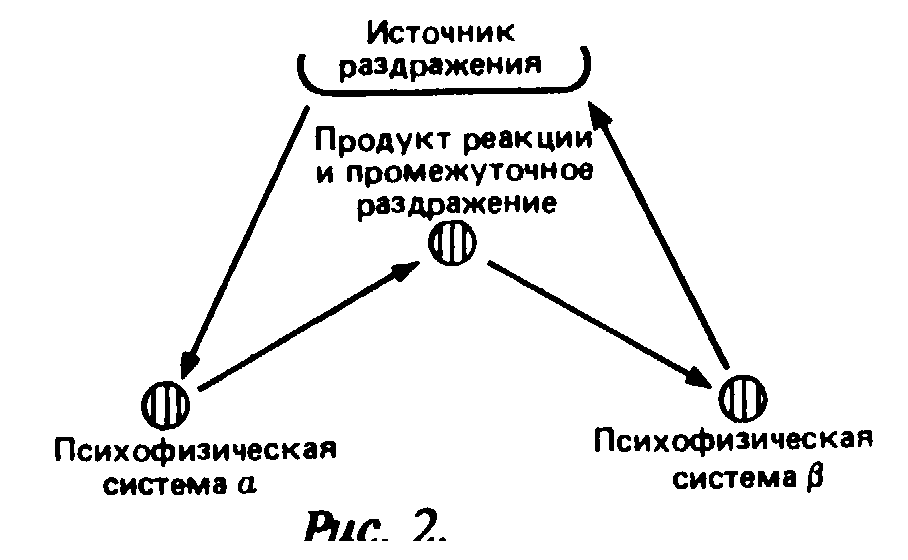
рис. 2
Программа исследования, которую здоровый бихевиоризм с юношеским размахом начинал проверять на животных и грудных младенцах, еще содержит старые формулы и пытается весь процесс растворить в рефлексах; однако сегодня произошел поворот по всей линии. Я формулирую здесь единственное положение, которого достаточно, чтобы и с этой стороны тоже полностью оправдать наше требование извлекать из вещей их истинную суть. Как бы то ни было если посмотреть на такие лучшие, на мой взгляд, работы раннего американского бихевиоризма, как произведения Дженнингса и Торндайка, или новейший итоговый доклад Ихлонского о научных достижениях русских ученых Павлова и Бехтерева или на законченную бихевиористскую теорию языка философа Г. А. де Лагуна, то тому, кто не потерял из виду собственно проблему, сразу бросается в глаза, что исследователи с самого начала и по сей день, по сути дела, были вынуждены отклоняться от первоначальной программы. Они не могли и не могут идти вперед в своих расчетах без основного сематологического понятия — понятия сигнала. Оно было введено Дженнингсом без теоретического обоснования в образ «репрезентирующего раздражения» (наше aliquid stat pro aliquo1, о котором идет речь в нашем постулате В); он появляется снова у Ихлонского, который трактует его в духе формулы нереального сравнения «как будто бы» (alsob-Betrachtung), а в концепции де Лагуна он содержится с самого на чала как непроизводное. И это подлинно знаковое понятие имеет свое логическое место в программе бихевиористов не где-нибудь на периферии исследования а именно в центре, причем оно таково, что, например, фактически входит или должно входить в инвентарь каждого теоретика, который хочет разъяснить факты обучаемости у животных. Ибо там, где оно не встречается, виден пробел или разрыв на том месте, где оно должно стоять. Внимательный взгляд сематологии мог бы заранее предсказать полную застопоренность бихевиористической теории, ее раздробление на большее, чем семь цветов радуги, количество описаний процесса обучения, которым заполнены книги и журналы американских психологов. Но во всяком случае, это очень удобно оказаться прорицателем post festum и, более того, увидеть четкий логический порядок различных мнений о процессе обучения. То, что я скажу здесь, до поры до времени останется без детальных доводов; теория языка должна содержать свою собственную главу о сигнальной функции языка; вот там и будет место для подробностей. Также там должно быть указано, что в недрах биологии как род гегелевского антитезиса к механистическому бихевиоризму возникло направление Икскюля, которое с самого начала сематологически ориентировано на основные понятия «перцептуального знака» («Merkzeichen») и «операционального знака» («Wirkzeichen»). Образцовое воплощение упомянутый мною переворот во взглядах получил в превосходном сочинении Толмена2. Выделенный текст в том виде, в котором он здесь присутствует, не является актуальным для европейского исследователя языка и мог бы отсутствовать; однако представлялось целесообразным в соответствующем месте упомянуть наиболее последовательную атаку на современное материальное мышление и отметить те трудности, на которые она пока наталкивается. Предшественник в психологии и языкознании ушедшего XIX в. — лишь непоследовательное лепечущее дитя по сравнению с программой физикалистского бихевиоризма, который восстанавливает в современной форме flatus-vocis-номинализм начала средневековья. В качестве простейшего и действительно решающего языковедческого аргумента против него может служить, например, положение дел в фонологии. Психологические системы речевых партнеров фактически производят и перерабатывают flatus-vocis совершенно не так, как это предполагает слишком простая старая формула. Психофизические системы-получатели являются селекторами и работают по принципу абстрактивной релевантности. что объясняется аксиомой В, а психофизические системы-отправители являются пунктами формирования. И то и другое относится к механизму обмена сигналами.
2. Новая модель, три семантические функции языковых единиц
Мы учтем эти факты и начертим модель языка как органона второй раз на рис.3. Круг в середине символизирует конкретное языковое явление.
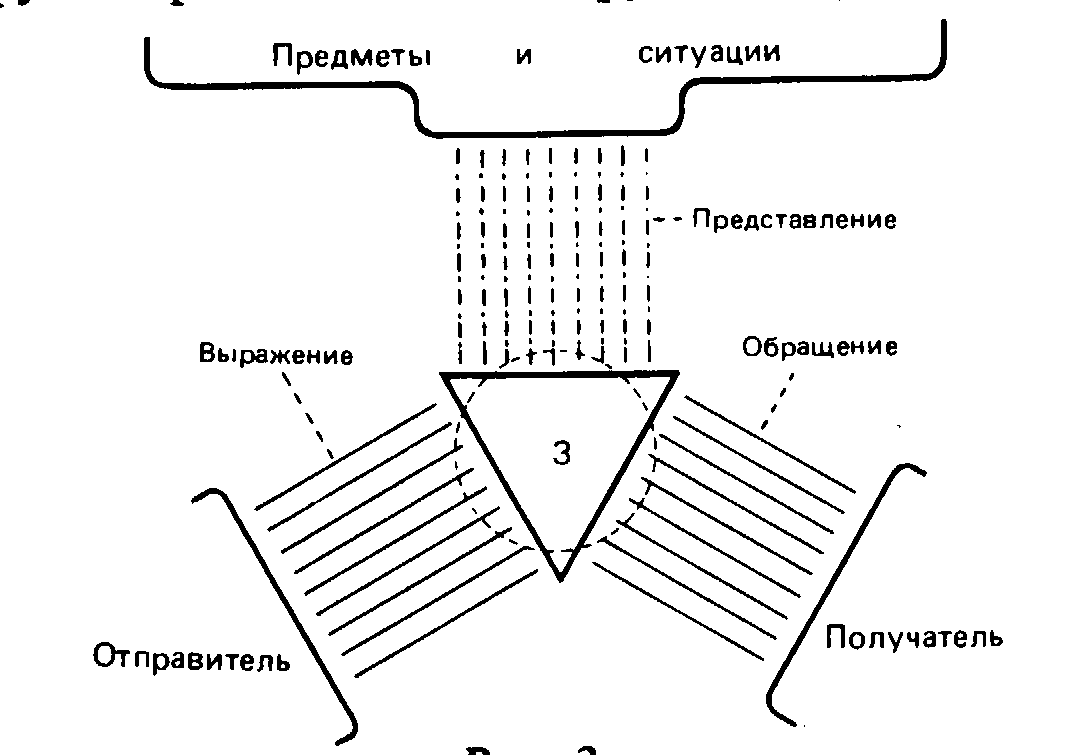
рис. 3
Три переменных фактора призваны поднять его тремя различными способами до ранга знака. Три стороны начерченного треугольника символизируют эти три фактора. Треугольник включает в себя несколько меньше чем круг (принцип абстрактивной релевантности). С другой стороны, он выходит за границы круга, указывая, что чувственно данное всегда дополняется апперцепцией. Множество линий символизирует семантические функции (сложного) языкового знака. Это символ в силу своей соотнесенности с предметами и положением дел; это симптом (примета, индекс) в силу своей зависимости от отправителя, внутреннее состояние которого он выражает, и сигнал в силу своего обращения к слушателю, чьим внешним поведением или внутренним состоянием он управляет так же, как и другие коммуникативные знаки.
Представленная здесь модель органона с тремя абсолютно независимо варьирующимися смысловыми отношениями полностью воспроизводит модель, впервые приведенную в моей работе о предложении (1918), начинающейся словами: «Функция человеческого языка тройственна: изъявление, побуждение и репрезентация». Сегодня я предпочитаю термины: экспрессия, апелляция и репрезентация,— поскольку термин «экспрессия» в кругу теоретиков приобретает все более точное значение и поскольку латинское слово appellare «обращаться» (англ. appeal «обращаться», нем. что-то вроде ansprechen «обращаться к кому-л.») точнее соответствует второму понятию; как теперь знает всякий, имеется sex appeal, рядом с которым Speech appeal1 кажется мне столь же осязаемым фактом.
Но во всяком случае, тот, кто продвигается к пониманию знаковой природы языка, должен следить за гомогенностью своих понятий; все три основных понятия должны быть семантическими. Как и почему надо избегать коктейля понятий, можно пояснить на поучительном примере учения о звуках. Прогресс, достигнутый с развитием фонологии, позволяет по простому термину «фонема», сопровождаемому контекстом или определениями, видеть, является ли то, что мы имеем в виду, звуком-знаком, звуком-признаком, то есть определенной единицей фонологической системы определенного языка, или же это чисто фонетическое явление. Ибо теперь мы знаем, что одна фонема в двух позициях одного и того же языка, в котором она встречается, фонетически «реализуется» по-разному, а единая звуковая материя, которая встречается в двух различных языках, по-разному «оценивается» с точки зрения фонологии. Итак, повторим, первое — в рамках одного и того же языка, а второе — в разных языках. Смешение понятий, частично относящихся к (физикалистскому) каузальному подходу, а частично — к знаковому, должно было бы столь основательно запутать символическое истолкование нашей схемы трех элементов, что никто не смог бы в этом разобраться и возникли бы ложные проблемы. Лозунг «Выступать раздельно!» относится и к само собой разумеющемуся предположению об однородности понятий, которые рассматриваются совместно в реляционной модели. Дополнительный лозунг «И нанести объединенный удар!» — это задача, которая должна быть решена в лоне науки иным способом. А именно следуя лишь четким, дающим соответствующие указания логическим правилам, первоначальное представление о которых дает образцовый пример соотношения фонетики и фонологии.
Итак, что же символизирует множество линий модели органона? Платон пытался истолковать только одну из них, связь «звук — вещь», и в диалоге «Кратил», хотя и подготовившем почву для новых сомнений, все же склонялся в пользу решения nomw или neset1 своего дизъюнктивного вопроса. На этом месте в схеме происходит, говоря языком современной математики, установление соответствия (Zuordnung) между звуковым знаком и предметами и ситуациями. История возникновения этого соответствия неизвестна нынешнему говорящему. Хотя языкознание во многих случаях в состоянии удивительно далеко проникнуть в прошлое, прослеживая и фиксируя это соотношение, но в конце концов нить всегда прерывается. И говорящий и языковед оба признают, что, как бы внимательно ни рассматривали мы «сегодня» звук и вещь, пытаясь увидеть хоть какое-то «подобие» между ними, нам это не удается; в большинстве случаев мы также не знаем, существовало ли оно вообще когда-нибудь и играло ли такое подобие какую-либо роль при первоначальном установлении соответствия. На этом можно закончить, и, собственно говоря, это уже больше, чем нам пока нужно. Потому что соответствия «существуют» в конечном счете, как бы они ни были мотивированы, всегда только в силу некоторой конвенции (соглашения в чисто логическом смысле слова) для определенных ее партнеров2. Короче говоря, в решении Кратила можно оставить следующее: звуковые образы языка соотнесены с вещами, словарь в научном описании языка решает задачу, которая первой возникает из ответа Кратила, а именно систематически представить имена языка (как это там называется) вместе с их соотносительными реляциями к «вещам». То, что в двухразрядной системе репрезентативных средств языка к лексическим соответствиям прибавляются еще и синтаксические конвенции, лишь расширяет сферу соотносительных реляций, которые мы там находим. В том месте схемы, где находится слово «вещи», будет более правильным написать теперь двойное обозначение «предметы и ситуации».
3. Экспрессия и апелляция как независимые переменные наряду с репрезентацией. Три книги о языке
То, что последует далее, пригодно и предназначено лишь для того, чтобы уточнить представление о статусе репрезентативной функции языка, доминирующую роль которой мы не собираемся оспаривать. Неверно, что все, для чего звук является посредническим феноменом, посредником между говорящим и слушающим, охватывается понятием «вещи» или более адекватной понятийной парой «предметы и ситуации». Скорее верно другое, то, что в создании речевой ситуации не только отправитель как деятель процесса говорения, отправитель как субъект речевого акта, но и получатель как тот, к кому обращаются, получатель как адресат речевого акта имеют свои собственные позиции. Они являются не просто частью того, что может быть предметом сообщения, но партнерами по общению, и поэтому в конечном счете возможно, что посреднический звуковой продукт обнаружит свою собственную знаковую связь с тем и с другим.
Таким образом, мы указали специфическое отношение воспринимаемого звука к говорящему в том самом смысле, к которому мы привыкли при описании других экспрессивных феноменов. Как обстоит дело с третьим отношением? Оно является третьим только в нашем перечислении, потому что in natura rerum1, то есть в знаковом общении в среде людей и среди животных аналитику понятен феномен апелляции, о котором он может судить прежде всего именно по поведению получателя. Если вместо людей взять пчел, муравьев, термитов и исследовать их коммуникативные средства, то внимание исследователя в первую очередь будет направлено главным образом на реакции получателя. Я говорю о сигналах как зоопсихолог и имею в виду их потенциальное воздействие на поведение тех, кто их воспринимает и психофизически перерабатывает. Как теоретики человеческого языка, мы также не пренебрегаем этой стороной дела. Например, анализ указательных знаков делает для нас очевидным тот факт, что ученые типа Вегенера и Бругмана находятся на правильном пути, когда они описывают функции указательных местоимений, фактически употребляя при этом если не само слово, то хотя бы родовое понятие «сигналы». Ибо дело обстоит так, что демонстративы в пограничном случае (собственно демонстративы) в виде несклоняемых частиц встречаются не только в праиндоевропейском, но до сегодняшнего времени и в нашем языке, и наиболее отчетливо в их симпрактическом способе употребления, они существуют точно так же, как какие-нибудь другие сигналы общения людей или животных. Теоретик языка должен исходить из наиболее чистых примеров, чтобы определить понятие звукового сигнала в языке. Определив таким образом понятие, он подвергнет пересмотру весь язык и обнаружит, что при этом не только отдельные его феномены, но и весь язык в целом рассматривается с новой точки зрения.
Это равным образом относится ко всем трем способам рассмотрения. Надо вырвать из жизни конкретные языковые события, чтобы с первого взгляда стало очевидным, что языковой знак так хорошо подготовлен и оснащен именно для функции репрезентации; это в особенности относится к языку науки и достигает своего апогея в репрезентативной системе современной логистики. Что за дело истинному логику до экспрессивных потенций знаков, которые он рисует мелом на доске? Он вовсе не должен о них заботиться; и все же, возможно, опытный графолог порадовался бы тому или этому меловому штриху или начертанию целой строки, и его толковательное искусство было бы затрачено не напрасно. Ибо элемент экспрессии остается и в мельчайших штрихах, которые логик или математик нарисовал мелом на доске. Таким образом, не нужно обращаться к лирику, чтобы обнаружить экспрессивную функцию как таковую; правда, /лирика добыча будет богаче. И если это истинный лирик, то иногда он пишет по своим собственным правилам, а логик вынужден оставаться в стороне. Но это такие тонкости, которые не стоит принимать во внимание. На третью, собственно апеллятивную функцию полностью нацелен, например, язык команд; на апеллятивную и экспрессивную функции — в равной степени ласкательные слова и ругательства. Правда, они часто именуют хорошее и дурное; однако известно, что самые интимные ласкательные слова иногда черпаются из противоположной сферы, а обращение «Эй, почтеннейший!» может являться оскорблением. Существует легенда о том, как один боннский студент в перебранке с самой склочной рыночной торговкой заставил ее замолчать и довел до слез с помощью названий букв греческого и еврейского алфавита («Ты альфа! Ты бета!..»). Психологически правдоподобная история, потому что в ругани, так же как и в музыке, почти все зависит от «тона».
Однако здесь, подчеркнем еще раз, мы имеем дело с явлениями доминантности, в которых на первый план выступает то одна, то другая из трех основных функций звукового языка. Решающая научная верификация нашей конституирующей формулы, модели языка как органона достигает цели, если обнаруживается, что каждое из трех отношений, каждая из трех смысловых функций языкового знака открывает и тематизирует свою область лингвистических феноменов и фактов. И это действительно так. Ибо «языковая экспрессия» и «языковая апелляция» — это части языкового исследования, которые, будучи противопоставлены языковой репрезентации, являют особенности своей структуры. Короче говоря, лирика и риторика несут в себе нечто такое, что различает их между собой и отличает их, скажем, от эпоса и драмы; и конечно, их структурные законы еще более разительно отличаются от структурных законов научной репрезентации. Здесь в самых общих чертах изложено содержание тезиса о трех языковых функциях. Все в целом будет верифицировано лишь тогда, когда будут написаны все три книги о языке, которые требует модель органона.
