Скибицкая Людмила Васильевна кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и истории русской литературы хрестоматия по славянской мифологии > учебно-методическое пособие
| Вид материала | Учебно-методическое пособие |
СодержаниеДухи природных пространств 1. [Как выглядит леший] 2. [Как выглядит леший] 1. [Леший водит] 3. [Леший водит] Начало документа |
- Красовский Вячеслав Евгеньевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры истории, 367.58kb.
- Примерная программа дисциплины история отечественной литературы федерального компонента, 287.31kb.
- Ребель Галина Михайловна, доктор филологических наук, доцент, доцент кафедры русской, 669.04kb.
- Гаранина Наталья Сергеевна, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики, 230.2kb.
- М. В. Зайкова, учитель русского языка и литературы мбоу «Гимназия №13», 41.33kb.
- Программа для поступающих в магистратуру по специальности 1-21 80 10 Литературоведение, 288.3kb.
- Матюшкин Александр Васильевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы., 123.47kb.
- Матюшкин Александр Васильевич, кандидат филологических наук, доцент кафедры литературы., 123.48kb.
- С. Х. Мухаметгалиева Елабуга, Елабужский государственный педагогический университет, 3598.14kb.
- Учебно-методическое пособие Рабочие материалы для самостоятельной подготовки к практическим, 591.28kb.
[«Куколка»]
У нас три чуда было. Вот в этой избе. Заяц бегал, бык, собака и поросенок. Хозяйка ушла за дровами, а в избе поросенок. Она пришла – он на лавку, на стол, везде. А потом этом доме стала маячить собака. А то двери раскроются. Вдруг все двери – раз – все открылись. А потом что? Стали искать – куколка завязана: будто как платочек личико – или, как сказать? – мордочка перевязана. Сожгли эту куколку – маячить не стало [8, 261].
[Как прогнали кикимору]
Рассказывают, что в одной избе завелась кикимора. Она ходила целые ночи по полу и сильно топала ногами. Потом она стала греметь посудой и бить плошки. Хозяевам пришлось уехать из этого дома, и он остался в запустении. Через некоторое время там поселились цыгане с медведем. Кикимора, не зная, с кем связалась, набросилась на медведя, но тот сильно помял ее. Кикимора убежала из этого дома. Когда хозяева узнали, что в доме перестало «пугать», они вернулись туда. Через месяц подошла к дому кикимора в образе обычной женщины и спросила у детей:
– Ушла ли от вас большая кошка?
– Кошка жива и котят принесла, – ответили ей ребята.
Кикимора пошла обратно, бормоча на ходу:
– Теперь совсем беда, зла была кошка, а с котятами к ней вообще не подступишься [8, 265].
[«Три чуда»]
Я, однако, тебе рассказывал, у нас три чуда было. В избе, вот в этой избе. Заяц бегал, бык, собака. И чушка, поросенок.
Хозяйка ушла за дровам, а в избе поросенок. Она пришла – он на лавку, на стол, везде.
А потом в этим самым (дому) стала маячить собака. А то оправлялась, то чушка (...) – куча. Уберут, назавтра придут – опеть. То двери расхлобыснутся. (...) Вдруг все двери – раз! – все открылись.
Потом тут шорну открыли. Ковды щорну-то открыли (а в колхозе, знаете, шорна была: хомуты налаживать, седелки, седлы – к весне), теперь снова пришел старик, мохнатый, а рук-то нету, вот так. Мохнатый стоит. Тут шили, а он подошел, глядит. Но ить у каждого же ужась-то берет! Клещи (клещи-то знаете (...)), теперь, один замахнулся – старик ускочил. Маленько погодя собака мимо пробежала, желта. Потом на другой день собака пришла, да така кобелина, да о-ё-ей! – как будто теленок, на это место.
А потом че? Стали искать – там ерничинка, или палочка; ерничинку, наверно, не знаете, вы же городски. Куколка завязана: будто как платочек, личико – или как сказать? – мордочка перевязана, все.
А где вот ушкан-то, там (но же умны люди делали!), там такая из резины из желтой сделана тапочка. Вот така! Тапочку убрали – маячить не стало. Сожгли – маячить не стало!
Но кто-то же делал! [14, 170].
[Неспокойный дом]
Сосед рассказал мне как-то историю. Он, вообще-то, человек был несуеверный, грамотный, инвалид Отечественной войны. Ногу одну свою там оставил. Вздумалось ему дом себе новый поставить. Сыновья строили, а он им указывал, что куда дожить. Сам-то не мог подсобить: калека был. И вот, как спать они лягут, в этом доме-то ночью уж такой тарарам подымается, будто ведра друг об дружку стукаются, переворачиваются. Гром, шум ужасный стоит, что спать невозможно.
И так повторялось каждую ночь. Однажды сосед не выдержал и накричал на сыновей, что будто бы они там ведра забыли, вот их ветер и гоняет по крыше, по чердаку-то. Они его подняли, сыновья-то, наверх. Светом осветили, а там пусто, хоть бы одна железячка какая осталась. Слезли оттудава, а все ведра стоят внизу, как сыны поставили с вечера. Плюнул сосед с досады, пошел спать. Только в дом – на крыше опять началось!
Так ничего они сделать и не смогли. Жуть стала брать всех. Продали дом и уехали.
Потом много времени прошло, гляжу я как-то: приехали они снова. Родные места заманили, видно, обратно.
А помнит тот случай, все рассказывает… [14, 170 – 171].
[Проделки кикиморы]
От нас-то близко она была, кикимора. Где магазин, мы тамака жили. А кикимора – у Коли Сличенко через дорогу-то на огороде дом стоял – там получалось. Ее цыгане пустили.
У матери три девки было, одна-то еще счас живет в Ушумуне. Вот он на ее и пустил. Цыган, китаец ли (...) Дак тут тоже диво!
Раньше подле печку-то ленивки были срублены, вот как диван, такой же ширины. А там, выше-то опеть вот так полати настланы. Нас людно, ребят-то, было. Мы пришли слушать эту кикимору. Сидим тамака. А под нами мешок крестьянский лежал, тогда кули называли. Нас четверо сидело. Мы и не слыхали, как с-под нас мешок вылетел. (...) Сама-то, Ивановна:
– Где-ко мешок-то?
– А он где был?
– Под вами. – А мы и не слыхали, как она его из-под нас выбросила.
Приезжали с Заводу, партизаны приезжали. Не верили же, что за кикимора. К нам заедут, папка:
– Сходите, посмотрите.
Как-то узнавала, сколько чужих, сколько наших. Вот спросят:
– Сколько чужестранных, из чужой деревни-то, здесь? – Стукнет – точно!
– А сколько наших? – То же само.
А дядя Вася, папкин-то свояк, чудной был:
–Но, ты бы хоть взыграла «краковяк» или «коробочку». (...)
«Располным-полна коробочка...» – выигрывала, стуком на половицах-то. Играт, и все. (...)
Откуль неизвестно, прилетит... Раз у них угли стояли студены, для самовару. Дак она их нажевала адали, больше горсти, да средь полу-то как в народ резнет! Которых позвало сразу домой уходить – застигнет же!
У меня теща в гостях была. Теперь, мама с папкой:
– Но, пойдемте, послушай кикимору.
А Катя говорит:
– Вы идите, а я не пойду!
Тогда папка мне:
– Ты тоже оставайся. – Я остался, они пошли.
А у них там ботинки были связаны, старшей-то сестры. Никто не знал, где они и лежали. А кикимора им – раз! – тещу по голове. Не знаю пошто.
Теперь с Тайны братка мой приезжал, папкиной сестры сын. Сидел на лавке – ногу ему отбросило.
– (...) че-то, – говорит, – ногу-то у меня отбросило! – Другу положил, придавил этой ноге. Раз! – опять отбросило.
– Да это че тако? (...)
Вот ниоткуль взялся клубок пряжи. Раз! – к нему под ноги.
– Ты че бросаешься, ты че кидаешься? – Как займется натаранкивать – все говором говорит. Все только дрожит! Спросят:
– Кто тебя напустил, стукни. Китаец? – Нет.
– Кто? Кореец? – Нет.
– Цыган? – Нет.
– Русской? – Нет.
– Кто запустил? Не китаец, не кореец, а смесь?
– Стукнет, давай щелкать (...) А мать-то у него русская была, он то ли от корейца, то ли от китайца.
А потом Кирика же Захарыча привозили с Ушумуну. Нельзя же жить. Хозяевам нет покою-то. Они говорят папке:
– Степан Нилыч, надо Кирика Захарыча звать(...)
Поехали. (...)
– О-о, в переднем углу в простенке у колоды в щели пошарьте-ка. Там ерничинка вот така большины подвязана, как куколка, это она фоку- сит.
Он откуда узнал?! Возвращаются, забегают:
– Дядя Степа Кирик Захарыч сказал, что в простенке в переднем углу у колоды в щеле куколка затолкана!
Папка:
– Но-ка, пойдемте.
Мама не отпускат:
– Не ходи, там бы над тобой ково не наделала эта куколка! (…)
Хватили – верно. Тамака.
А Кирик Захарыч имя сказал: найдешь, в ограде наклади костер, когда разгорится, ее наотмашь бросить в костер.
Ее нашли, огня наклали, раздухарилось, растопилось, он потом ее взял, в костер бросил, потом ниче не стало [14, 172 – 174].
[«Девка в доме ходила»]
<…> Дом был у одних тут, все девка в доме ходила. Все помогала. Оне уйдут, она чугунки просты возьмет и в печку затолкат. А то и молоть помогала. Тогда же не было здесь мельниц, а жернова крутили. Вот она крутит камень, мелет. А ходила нага. И все делала. А спала раньше на полатях.
И вот хозяйка пробудилась, рукой повела и ее учухала. А у ней, у девки, коса така длинна! Вреда-то не делат им, но опасно! Она боится. И давай дом разбирать. И вот нашли куклу в матке. Куклу. Дом перетащили, после этого ничего не стало. Вот. Перетащили дом-то – и не стало ничего [17, 432]. Начало документа
ДУХИ ПРИРОДНЫХ ПРОСТРАНСТВ
Відзімыя і нявідзімыя
Быў адзін багаты чалавек. Нікому ён праўды не гаварыў. Бог і пытае ў яго:
– Колькі ў цябе дзяцей?
«Казаць ці не казаць?» – разважае пра сябе чалавек. Дзяцей было дваццаць чатыры. А ён прывык гаварыць няпраўду і кажа:
– Дванаццаць. – Палавіну ўтаіў.
Як сказаў, так бог і зрабіў: палавіну сваіх дзяцей ён бачыў, а палавіна – сталі невідзімкамі.
З тых пор і пайшлі невідзімкі: і баба лугавая, і дзед лесавы, і апастыр палявы, і цар мухавы [9, 159–160].
[О лешем]
Пошла по ягоды женщина, и она отошла от корзинки. Вернулась туда – нет корзинки. Ходила, ходила она: «Вот, кажется, вот здесь оставила корзинку». И собака была с ней – и собаки нет, и корзинки нет. А она говорит: «Лесной хозяин, покажи мне, где моя корзинка!» Так она сказала. Туда-сюда крутанулась, смотрит – и корзинка ее стоит, и собака лежит [8, 321].
[Тропа лешего]
Одной деревне были Святки, а там есть лешева тропа с деревней. Один раз там было гостьбище, все веселятся, пляшут. А в одну избу, там гулянка была, зашел леший. Его и не заметили. Он зашел, голову на воронец noложил и хохочет. Сам весь еловый, и руки, и голова. Тут его все заметили. Испугались все, а он пропал [8, 321].
1. [Как выглядит леший]
Нашински мужики не однова в лесу Лешаго видали, как в ночное ездили. Он месячные ночи больно любит: сидит, старик старый, на пеньке, лапти подковыриват, да на месяц поглядыват. Как месяц за тучку забежит, тёмно ему, знашь, – он поднимет голову-то, да глухо таково: «Свети, све-тило», говорит [16, 228].
2. [Как выглядит леший]
Пас ночью он [крестьянин – Л.С.] волов на лесной поляне; по случаю холода развел костер и сел возле него погреться; вдруг слышит вдали отчетливый хохот, который постепенно приближался; смех прерывался иногда глухими стонами – уфф! И затем вовсе замолкал. Он струхнул не на шутку, так что волосы у него поднялись дыбом, и он хотел уйти, но лишь поднялся с места, как увидал невдалеке идущего к нему человека, совершенно голого и обросшего длинными волосами, который, не доходя до него сажень трех, сказал: «Дай мне кусок хлеба, я сильно голоден; но брось его левой рукой наотмашь». Крестьянин исполнил просьбу лешего, тот схватил хлеб, съел его, затем захохотал, свистнул, уфнул и исчез из виду [13, 528]. Начало документа
[Встреча с лешим]
Я пошел утром в лес, да устал и на сопку лег. Лежу я, и словно в сон меня кидает. Вдруг кто-то меня за руку схватил. Я гляжу – а он стоит, шапку с меня снял, а руки у него, как вода студеная, борода – как мох, большущая, белая, а нутро у него так и гудит, словно ветер, а он меня манит. Я крест ему показал и сказал: «Хожу по лесам, по кустам, по мхам, по болотам... куда ни хожу, никогда не блужу... а тебе, лесной хозяин, покорность отдал, от меня, раба, отшатнись, в березу обернись». Два раза сказал, он и пропал, гул пошел по лесу, а вижу – гриб стоит и трепыхается, а он в гриб обернулся. А он и в лист обернется – ему все равно [8, 323].
[Леший-вихорь]
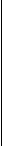
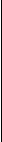

 Когда леший из лесу выходит, так у тебя все волосы на голове задрожат. Чем он покажется? Бывает, noкажется в красной рубахе – мужчиной, а бывает, покажется вот такой собакой. А бывает так, что не покажется. Ветер хлещет, а где – Бог его знает.
Когда леший из лесу выходит, так у тебя все волосы на голове задрожат. Чем он покажется? Бывает, noкажется в красной рубахе – мужчиной, а бывает, покажется вот такой собакой. А бывает так, что не покажется. Ветер хлещет, а где – Бог его знает.А как ветер, вихорь, так это уж самый леший. Вот здесь позапрошлый год такой был ураган, крыши сняло, а град с маленькое яичко был. А где он шел, этот вихрь-то, да столько лесу навалило. Все сосны вповалочку леший-то выворотил [8, 324].
1. [Леший водит]
На другой день Троицы, в Духов день соку есть ходили парнишки, а пятнадцати годов Тихон был. Драли, драли (сосны), ели, ели, домой запоходили, ребята в одну сторону, а Тихон в другу, будто его брат привидеился: “Пойдем, Тихонко, домой, робята не в ту сторону пошли”. Шел да шел за братом, да и потерялся, захохотал. А Тихон без ума, сам не знат, как в избушке в лесной очутился. “И вижу, жонка да робята незнаокмы, очумел я и засудил: не знай как заблудился?” Жонка ему и отвечат: “Нет, ты не заблудился, а тебя леший унес”. А жонка сама не унесёна. “Он когда придет, будёт чоствовать тебя едой, а ты не ешь”. А Тихон и спросил: “А худо разве тебе жить-то?” – “А худо; так-то жить-ьл и нечего, жа кто с огнем ходит не благословясь, да искринку уронит, дак лешему вера (охота) пожар сделать, он и заставлят раздувать. Тяжело в то время, теперь я больше не раздуваю, ребятишки (от лешего и бабы) пособляют”. Налетел сам-то леший, есть заводят, да и его чоствовать, а Тихон и говорит: “Я сытой. И не сел. А жена и говорит лешеему: “Что сам-то не садишься?” – “Я сытой я, – говорит, – у женщин. Котора молоко не благословясь выцедит, я все выпью; я напился, сытой. Потом я харкану в крынки-то, они полны и сделаются, воедят свою харкоту”. Леший улетит да прилетит, да жена говорит лешему: “Снеси, эку беду принес, хлеба не ест, отнеси, брось на старое место”. Леший жену и послушал, его схватил и потащил. Парень в избе был, все помнил, а тут все забыл. Да к морю, на Нульницкий наволок, его продольничихи увидели. Сколько дней не ел, ослабел, лежит в траве, не может, пошевелиться. Его взяли и вывели в Тамицу [17, 409].
3. [Леший водит]
Лесной человека по лесу водит. Нас лично водило вот здесь в поле. Ходили два часа, в болото выходили. Выйдем тропинку, придем, идем-идем – теряется тропинка. Приходим – то болото, то овраг. Повернешься – в болото придем, постоим, придем, пять раз в одно и то же место возвращались. Так бродили два часа. Когда блудили – одежду надо выворачивать [8, 329].
[«Завели на утес»]
Я ить тоже, однако, рассказывал. В Беломестновой-то, на утес-то завели его. Вот этого, Юрганова-то Николая-то, тесть. Он рассказывал мне, покойник, старик. Приехал туда, че-то разговорились. Он беломестновский. Деревня Беломестново против Знаменки, вот там, оттуда. Но теперь старик этот со старухой жил. У нас потом старуха эта умерла, однако, Полина-то мать. Но теперь утром-то стали – но, оне тут корову держали, баран, чушек, – сяли чай пить (это он все рассказывал сам мне, покойник). Старуха-то говорит:
– Дак вот, старик, сегодня пойдем, соседу-то сорок дней, сёдни велели прийти, вчера мне говорили, сегодня пойдем вот во столько.
– Но-но!
Но пока, гыт, убирали, то-другого, время выходит. Теперь старуха:
– Но ково ты ишшо?
– Но дак надо загнать там коров, то-другого, баран... Ты иди, я приду-ка... Там, дескать, собираются же, звали — надо идти на поминки, сорок дней (тоже старик помер). Иди, старуха, я приду.
Вот теперь, значит, убрал все, эту скотину, захожу домой. Вот разделся. Помылся там, надел рубаху там, че надо... почище – идти-то. А кисеты-то таки же были кожаны. Ну там самосадка... Трубку набил. Но счас покурю да и пойду туды. И шубы-то у них своедельски же, бараньи эти, из бараньих шкур. Но, сижу, гыт, курю. Лампа горит у меня, гыт. Но вечер уж подошел: короткий же день-то.
Заходит сосед-старик:
– Здорово.
– Здорово.
– Но ты че не идешь?
– Дак вот, паря, убирал тут скотину, да счас вот покурю да пойду.
– Но так пойдем! – но сосед тут недалеко, ну, допустим, вот как от меня счас Буторин.
– Пойдем, та ить дожидают нас.
– Дак пойдем счас. – Но, гыт, одеюсь, шубу надел, но тут недалеко – рукавицы-то не стал надевать я; гыт, а зима, оно холодно, короткий день.
Но, выходим. Он, гыт, вперед, этот старик. Он ишо тоже закурил со мной трубку, тоже трубку курит. Хороший, дескать, у тебя табак-то!
Но, вышли. Я, гыт, на сничку надел. Не замыкал никово избу-то. Кого, тут недалеко, через два дома. Вышли и пошли. Он идет вперед. Я за ем. Идем, разговариваем. Вот идем, идем, идем... Вроде пошли на поминки. Он тоже говорит: «Пойдем...» Вышли, и он его повел. Меня, гыт, повел этот старик (да сусед!). Идем, он вперед недалеко, на таком расстоянии вот, разговаривай. Я за ем. Шубу запахнул, руки вот сюды... Но да недалёко ж тут!
И он его, значит, из Беломестновки-то вывел на Нерчу, по Нерче книзу туды провел и на утес... Там есть такой, Караськи. По речке-то, по Нерче, там есть таки перекаты – утес. И на утес-то завел его.
...Я, говорит, тоже шел, шел, но и начал падать. А там обрыв подошел, вот на таким расстоянии вот. Ишо бы шаг шагнул – и туды откос, убился бы я! Но я, гыт, шел, шел... Все идем разговариваем. И я, гыт, не помню: да это таку беду идти-то! Но и падаю. Потом говорю:
– Да ты куды идешь-то, ты пошто? Я падаю, па
даю! – Раз – и его не стало, этого человека-то! Я таперече – о-о! Я вон куды попал, на утес! Ишо бы шаг – и под утес! А туды метров двадцать или тридцать! Убился бы я!
Но, оттуда, гыт, кое-как слез, с этого утеса-то, развернулся, сюды иду: «Дак это что такое? Это как же?» Старик-то сусед был, а вон чё!
А старуха там побыла, на поминках дожидали-дожидали – нету. Приходит – изба, гыт, у меня на сничке, а меня нету.
И он в третьим или в четвертым часу оттуда кое-кое-как пришел. Вот. Она:
– Дак ты где? – Прихожу, гыт, смотрю: заложено. Стукнул. Она выходит. – Дак ты где?
– Ой, не говори, давай скоре отлаживай!
Она, гыт, отложила, я, гыт, захожу-ка.
– Дак ты где был? Ты пошто на поминки-то?..
– А вот я тебе сейчас расскажу-ка.
Старуха:
– Ждали-ждали тебя люди-то. Нету, нету, нету. Вот мы помянули. Я прихожу домой – изба на свичке, а тебя нету.
– А вот я тебе счас расскажу. Ты когда пошла, я скотину прибрал, загнал в стаю, все. Захожу, умылся, рубаху надел, то-другого. Трубку набил закурить. Ну, думаю, пойду счас – заходит сосед. «Ну че ты сидишь? Пойдем». И мы с им пошли. А он меня вон куды увел – на утес!
– Да ты че говоришь?
– Ага. Вот оттуда я кое-как спустился. Падал, шел, гыт, немножко, с метру осталось бы, шагнул – и под этот утес (она тоже знат его).
– Да ты че?
– Но дак че? Вот река, спустился... «Ой, дак мы куды с тобой идем?» – И человека-то не стало, соседа-то. Я, гыт, потом оглянулся, очухался: вон че! Стою над утесом, ишо бы шаг шагнул – и убился бы. И ты бы меня не нашла. Но как понять? Вот че, гыт, как получилось! Это беда! Куды уйти.
Вот, Беломестнов, старик. Он Беломестнов. Она была, Поля-то, Беломестнова. Вот как? Сам, гыт, не знаю. Рассказывал сам мне [14, 154 – 157]. Начало документа
[Как прогнать лешего]
Почему блудят-то? Это леший покажется, вот и ведет. Лешаков не лешакают, их матюкать надо, они матюков боятся. Муж по лесу шел, видит старичка, а он первый раз видит его. Подумал, что из другой деревни. Старичок говорит: «Давай посидим». Выпили они, а ни старика, ни чашки, ни водки нет. А это леший ему представился [8, 329].
[Договор пастухов с лешим]
Ну, с лесным раньше пастухи знались, так говорили, что у тех, кто с лесным знается, лесной выбирает из стада самую лучшую скотину. Ну, он забирает, закрывает ее, она так в лесу и остается, она зайдет в такое место, что не выйти. У нас все время пас Игнат. Он пас лесом. И вот знаешь, ведь с лесным надо тоже рассчитываться. А лесной взял и выбрал у него корову-то от сирот. Тут вот рядом соседка была, а у нее двое детишек. А лесной-то взял и эту корову выбрал от сирот, от бедных, а не от богатых. Пригнал пастух коров, а этой нет. Эта женщина пастуха спрашивает: «Где, Игнатий, моя корова? У меня коровы нету». Так он сходил и пригнал. Он пригнал эту корову, которую лесной себе выбрал, не отдал эту корову лесному. А надо было отдать – отдал бы, живой остался. А он не отдал, так его старуха рассказывала: «Двери ночью открыло, среди ночи все стены исхлестало в избе». Леший его захлестал. И он умер. Два дня спал, а на третий умер [8, 335].
[Леший наказал]
Пастух в деревне был, к нему обращались с делом, Один раз потерялась корова красная. Пришли к пастуху. Он сказал: «Войдете в лес, положите два яйца, леший яйца любит. Положите на перекрестке левой рукой, не глядя, и уходите». Старуха пошла, снесла и на второй день снова пришла и встала, не шевелясь. Лес зашумел, вышел леший – небольшой, в сером кафтане, в шляпе, с батогом. Идет и гонит семь коров, видно, у многих отобрал. А пастух ее предупредил: «Стой, не шевелись и не говори, пока не прогонит, а твою он отхлестнет». А она не вытерпела, подумала, ведь прогонит ее корову, и сказала: «Ой, ты, Красулюшка!» Леший обернулся, хлестнул ее веткой и выбил ей глаз, но корову отдал. Когда она пришла домой, знахарь ей сказал: «Не послушалась меня, так ходи весь век кривая. Мог бы хуже – он мог бы тебя всю переломать!» [8, 337–338].
[Бабка рассказывала…]
В деревне у нас бабка была. Соберет нас, бывало, и начнет рассказывать. О себе рассказывала, будто с ней было.
Собрались оне за ягодами в лес с девками. Только зашли за деревья, к ним старичок и вышел, с большущей бородой, и зовет к себе. А девки ему говорят:
– А мы боимся, дедушка!
– А я не дедушка, я молодой.
А одна – Кланькой ее звали – засмеялась и к нему:
– А я не боюсь тебя.
Взял он Кланьку за руку и пошел с ней, а девки все за ними. А он им говорит:
– Вы идите своей дорогой, не ходите за нами!
– Ага, а Кланьку уведешь!
– Ну, ладно, вы сами отстанете.
Идут дальше. Старик с Кланькой легко идут, а у нас грязь кака-то к ногам прилипает, а он пройдет и Кланьку ведет сухой ногой. Зашли к скалам. Он сказал:
– Садитесь, а то вы пристали.
И повел дальше ее одну. Потом пришел и говорит нам:
– Вот видите Кланьку? Она ягод принесет.
Потом смотрим, а он идет и ягод несет. А день был. Дал нам ягод, и у Кланьки полная корзина ягод. Он и говорит:
– Ладно, девки, пожалел я вас – больно смелы, отпущу я вас.
Идут назад. Наши ноги вязнут опять, мы запинаемся, ягода рассыпается, а Кланька идет, и ничего. Вывел он нас на тропинку и пошел назад, а у него волосы распущенные, и шерстка, и хвост собачий, и одежды нету... Они думали, что приснилось, а нет. Только у Кланьки есть ягода, а у нас нет, вся рассыпалась. Прибежали к матери и говорим с ней, а она:
– Вечно вас черт водит!
Пошли с ней на то место, а там никого нет, и старика нет. А нам чудилось ведь. Вот те святой крест!.. И все шли, и ноги вязли, а Кланька ниче, идет и смеется:
– А мне не больно, а мне не больно [14, 158 – 159]. Начало документа
