Храбрость храбрость как личностное качество
| Вид материала | Документы |
СодержаниеДругие причины храбрости Лисица и осел Трусость часто рядится в различные маски. 5.9. Высшая стойкость |
- Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по литературе в 2011-2012гг, 58.89kb.
- Проект программы предназначен для работы с детьми школьного возраста. Актуальность, 133.01kb.
- Орден Александра Невского, 19.45kb.
- Классный час, посвященный Дню Победы. Тема: «Поклонимся великим тем годам!», 146.94kb.
- Призеров с довольными минами на лицах принялись за «конкретное юзание» своих призов,, 62.2kb.
- «Нажить много денег храбрость; сохранить их мудрость, а умело расходовать их искусство», 57.67kb.
- В поисках святого Грааля, 60.99kb.
- Поиск: Былины в статье Былины, 46.49kb.
- Первый советский орден появился в 1918 году, 254.38kb.
- Наставления начинающим, 1111.7kb.
5.7. ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ ХРАБРОСТИ
Только тот, кто не знает льва, может отнять у него овцу.
Сомалийская пословица
Помимо перечисленных выше, существуют и другие причины, обуславливающие смелое поведение, но имеющие лишь внешнее сходство с настоящей храбростью. Во-первых, это так называемая «храбрость дурака» — смелое поведение человека, просто не осознающего степени опасности, которой он подвергается. Тот, кто лезет в электрораспределительный щит, не отключив при этом питание и не надев резиновых перчаток, вряд ли может быть назван отважным человеком — скорее
идиотом, не понимающим, что творит. Таких людей хватало во все времена — еще Менандр заметил две тысячи лет назад: «Нет в мире ничего отважней глупости», и этот лозунг вполне применим и к нашему времени.
Второй вариант «храбрости» — отсутствие страха, которое наблюдается при некоторых психических заболеваниях — маниакальном синдроме, некоторых формах шизофрении, при врожденном или приобретенном слабоумии. Петербургский поэт Вадим Шефнер, сам прошедший две войны, в одном из своих стихотворений так описывал сошедшего с ума человека:
Отступление от Вуотты, Полыхающие дома... У реки сидел без заботы Человек, сошедший с ума.
Мир не стоил его вниманья, И навеки отхлынул страх, И улыбка всепониманья На его блуждала устах.
Он молчал, как бессмертный Будда, Все сомненья швырнув на дно, — Это нам было очень худо, А ему уже — вес равно.
Третий вариант «смелости» — это отсутствие страха, вытекающего из нежелания жить — то, что в чистом виде встречается у самоубийц. Прыгнуть с Золотого моста в Сан-Франциско или облить себя бензином и поджечь — на это, конечно, нужно бесстрашие, но подобное качество на самом деле оказывается всего лишь формой проявления безразличия к жизни, ибо истинная смелость подразумевает борьбу между инстинктом самосохранения и понятием внутреннего
долга. Там же, где инстинкт жизни уже угас, эмоции отсутствуют, а вместо яростной храбрости мы чувствуем лишь могильный холод.
Как писал в своем скандальном романе «Это я — Эдичка» Э. Лимонов, «...мне не было страшно. Честное слово — совершенно не страшно. Я же говорю, что имел тогда какой-то подсознательный инстинкт, тягу к смерти. Пуст сделался мир без любви, это только короткая формулировка, но за ней — слезы, униженное честолюбие, убогий отель, неудовлетворенный до головокружения секс, обида на Елену и весь мир, который только сейчас, честно и глумливо похохатывая, показал мне, до какой степени я ему не нужен и был- не нужен всегда, не пустые, но наполненные отчаянием и ужасом часы, страшные сны и страшные рассветы».
Третий вариант псевдосмелости — это храбрые с виду поступки, за которыми стоит осознание безнаказанности и безопасности. Об этом варианте поведения лучше всего написал «дедушка Крылов» в басне «Лисица и осел», которую мы приводим:
Лисица и осел
«Отколе, умная, бредешь ты голова?»
Лисица, встретяся с ослом, его спросила,
«Сейчас лишь ото Льва!
Ну, кумушка, куда его девалась сила:
Бывало, зарычит, так стонет лес кругом,
И я, без памяти, бегом,
Куда глаза глядят, от этого урода.
А ныне в старости и дряхл и хил.
Совсем без сил
Валяется в пещере, как колода.
Поверишь ли, в зверях
Пропал к нему весь прежний страх.
И поплатился он старинными долгами!
Кто мимо льва не шел, всяк вымешал ему
По-своему:
Кто зубом, кто рогами...» —
«Но ты коснуться Льва, конечно,
не дерзнул?» — Лиса Осла перерывает. «Вот-на! — Осел ей отвечает. — А мне чего робеть? И я его лягнул: Пускай ослиное копыто знает!»
Так души низкие, будь знатен, силен ты, Не смеют на тебя поднять они и взгляда, Но, упади лишь с высоты. От первых жди от них обиды и досады.
5.8. ТРУСОСТЬ
Трусость часто рядится в различные маски.
М. Литвак
В романе братьев Вайнеров «Лекарство против страха» есть очень интересное размышление на тему трусости. Они показывают, что она бывает разная — в одном случае человек смеряется со своим недостатком, а в другом — сражается с ним — и поэтому заслуживает уважения.
«Жил на свете хороший парень, верный друг и талантливый человек Сашка Панафидин. Но однажды с ним случилась беда, и этого никто тогда не заметил. Он заболел. Он заразился страшным вирусом — в него вошел микроб Страха. Он еще жил, дружил, любил, работал, а микроб в нем рос, он клубился от нетерпения его сожрать, он наливался злой силой, выпивая из него кровь, душу, мозг. И однажды микроб стал больше его самого — это был Огромный Страх. И умер друг, умер добрый, любопытный человек, умер ученый. Осталась оболочка, напол-
ненная Огромным Страхом. Он; ходит по миру и обманывает людей, рассказывая всем, что она якобы и есть Сашка Панафидин...
— Но мне Панафидин совсем не показался напуганным, — сказал я.
— Да? — безразлично спросил Лыжин. — Вы, наверное, не совсем правильно меня поняли. Его страх не реакция на факт, это градиента поведения: Он управляет им всегда, он подчинил его, как раба.
Я перебил Лыжина:
— Скажите, а вот вы сами храбрый человек?
— Я? Я? ~ удивился Лыжин. — Я трус во всем и всегда. Я боялся темноты, отца, я боюсь соседки, начальства на работе, своей лаборантки, я боялся женщин, чтобы они не посмеялись надо мной, я боялся драться, чтобы меня не поколотили.
— Тогда в чем же отличие?
— Я свой страх ненавидел, но не сдавался ему, я всегда с ним боролся и презирал себя, когда мне не удавалось совладать с ним.
— А Панафидин?
— Он сделал из своего страха удобную идеологию и комфортабельную жизненную программу.
— Не совсем понятно — как можно что-то сделать из страха?
— Поясню. Он приспособился к нему, а я мечтаю страх уничтожить».
Психолог М. Литвак полагает, что человек может переплачивать таксисту или щедро давать «на
чай» официанту не только потому, что ему понравился уровень обслуживания или от излишней щедрости, но гораздо чаще — от страха. От страха показаться жадным или бедным, из чувства трусости перед нагловатыми работниками бытовой сферы. Точно так же трусость может скрываться под маской доброты, принципиальности или гостеприимства. И за проявляемым чувством солидарности тоже чаще всего скрывается обыкновенная трусость. Весь класс ушел с урока. Родители упрекают своего ребенка: «Ты же 'знаешь, что этого делать нельзя!» — «Знаю!» — «Почему же ушел?» — «Из солидарности!» Нетрудно понять, что ребенком на самом деле движет страх.
«С кем мы только не солидаризируемся! — отмечает М. Лит-вак. — Половая солидарность, сословная, национальная, возрастная. Одеваемся из солидарности, пьем из солидарности, любим и чувствуем из солидарности, убиваем тоже из солидарности. За всем этим стоит страх отстать от стада. Ницше писал: «В стадах нет ничего хорошего, даже если они бегут вслед за тобой». Сколько несчастий происходит от того, что человек живет не своей жизнью, а из солидарности! Уберите страх! И тогда вы не побоитесь высказать свое мнение, тогда есть возможность стать личностью, ecib возможность стать счастливым. В стаде можно быть только удовлетворенным».
Будет ли человек трусом или нет, зависит не только от природных черт его личности, но и от Социального окружения. Так, царь по крови, даже будучи трусом, имеет все шансы скрыть свою трусость за безнаказанной жестокостью и гневом. А. Горбовский и Ю. Семенов в книге «Закрытые страницы истории» пишут следующее: «Николай I признавался в своих записках, что господствующим чувством, которое он испытывал в детстве, было чувство страха. Он не знал еще, чего именно следует бояться, поэтому боялся всего. Боялся наказания, боялся фейерверков, смертельно боялся пушечной пальбы. Как-то, услышав ружейный салют, он так испугался, что спрятался, и придворные долго не могли найти его. Позднее, будучи уже в годах, он так же панически боялся пожара. Едва увидев огонь или ощутив запах дыма, он бледнел и чувствовал сердцебиение».
Трусливые люди не только сами не способны на смелые поступки, но и провоцируют других на подобное поведение. Вновь обратимся к трагедии «Титаника», к тому моменту, когда часть людей уже находилась в спасательных шлюпках, в то время как остальные пассажиры захлебывались в ледяной воде. Общеизвестно, что вместимость спасательных лодок позволила бы им подобрать вдвое больше людей, чем это произошло в реальности, но бессмысленный, животный страх за свою жизнь не
позволил счастливчикам протянуть руку помощи тонувшим собратьям по несчастью. Вот как, например, это происходило в шлюпке номер шесть, которой командовал матрос первого класса Роберт Хит-ченс. В ней находились двадцать четыре женщины, мальчик со сломанной рукой и два стюарда. Жен-шины, слыша вопли и крики тону-ших в ледяной воде людей, не могли этого вынести и сказали Хитченсу, что следует вернуться туда, где затонуло судно. Но Хит-ченс заявил: «Нет, мы не пойдем назад, мы спасем наши жизни, а не их». Никакие уговоры и угрозы пассажиров шлюпки не помогли. Позже одна из них по фамилии Кэнди писала: «Командир шлюпки был полон страха, он помешался на этом страхе. Он стоял за рулевым веслом и говорил нам об ужасах, которые нас ожидают в случае, если мы вернемся к «Титанику». Он пытался внушить нам ужас, говоря об огромной воронке, о взрыве котлов, о том, насколько крепка хватка утопающих, которые потопят нашу шлюпку...» Из-за этого шлюпка номер шесть, где было двадцать восемь человек вместо шестидесяти пяти, никого не спасла.
Для трусов вообще характерно и других людей считать такими же трусами, как они сами. Они просто не могут позволить признаться себе, что существуют смелые люди — это был бы слишком чувствительный удар по их самолюбию. Вот хорошая иллюстрация данного тезиса из романа Константина
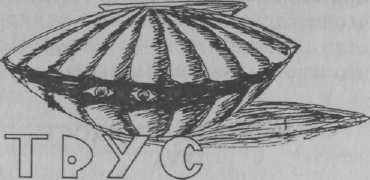
Рис. В. Брускова.
Симонова «Живые и мертвые», посвященного самому тяжелому первому периоду Отечественной войны:
«Синцов говорил, а старший лейтенант сидел и не верил. Он был молод, недобр и растерян. И как это бывает со слабыми и самолюбивыми людьми, злобное нежелание верить другим рождалось у него от мучившего его стыдного чувства собственной растерянности. Он сам просился на фронт, но, попав в эту страшную кашу под Москвой, в первый же день под бомбежкой в открытом поле испытал такое чувство ужаса, от которого не мог отделаться уже трое суток. Он изо всех сил старался по-прежнему держаться так, как его обязывала надетая на него военная форма, и, пряча собственный страх, цыкал и упрекал в трусости своих подчиненных.
Но себя самого он не мог обмануть. И сейчас, сидя перед Синцовым, он в глубине души чувствовал, что никогда бы не выдержал всего того, о чем рассказывал ему этот человек: не вынес бы трех месяцев окружения, не шел бы до последнего часа в комиссарской форме, не побежал бы, раненный,
под выстрелами из плена. И зная, что не сделал бы этого сам, из чувства самозащиты не хотел верить, что на это способны другие».
5.9. ВЫСШАЯ СТОЙКОСТЬ
■ ДУХА
Трус прячется от опасности и спасает свою жизнь, отважный смело идет ей навстречу и гибнет, восхищая людей своим героизмом... Чаще всего случается именно так. Но из любого правила бывают исключения. Я хочу рассказать вам историю о человеке, который благодаря своему исключительному мужеству победил смерть, выжил в таких условиях, где гибли более осторожные и трусливые. Он сознательно отказался от инстинкта самосохранения и в итоге победил.
Я хочу привести отрывок из очерка журналиста А. Стася об узниках фашистского концлагеря Маутхаузена. Бывший заключенный этого лагеря Василий Родионович Бунелик, рассказывая журналисту о своей жизни в Маутхау-зене, поведал ему почти фантастическую, но тем не менее реальную историю об Александре Дмитриевиче Морозове — человеке, победившем саму смерть.
«День тот, семнадцатого апреля, никогда не забуду. Вечером, под конец работы, Бахмайер в окружении охранников в каменоломне появился. Возбужденный, из-под козырька фуражки на нас посматривает как-то необычно, с улыбкой, чего никогда раньше не заме-
чалось за ним. Никто из заключенных не хочет с ним глазами встречаться: стрелял он из «парабеллума» в людей просто так, развлечения ради, на ком взгляд остановит. А тут — улыбка! Сразу поняли мы — затевает что-то, не к добру скалится. Походил он, помахивая перчаткой, остановился. Переводчик тотчас подбежал к нему. Видим, тот самый переводчик, который по-русски понимает.
— Сейчас вам покажут любопытное зрелище, — раздался голос Бахмайера, и в сумерках, что быстро сгущались в каменоломне, тотчас вспыхнули яркие лучи двух прожекторов. Стало видно как днем. — Смотреть внимательно! Всем смотреть!
Мы переглядывались, не понимая. А через минуту увидели. В полосе света появились и двигались к нам какая-то серая масса, какие-то тени, оцепленные плотным кольцом эсэсовцев. Все вокруг замерли. Мне и до этого приходилось видеть такое, что волосы поднимались дыбом, но то, что происходило в каменоломне, невозможно передать словами. Мы все были измождены, но люди, которых гнали охранники, показались нам поднявшимися из земли мертвецами. Прожекторные лучи как будто насквозь просвечивали их тела. Люди эти, израненные, окровавленные, полуобнаженные, двигались медленно и неслышно, тесной толпой, обнимая и поддерживая друг друга. Каждый из них в отдельности не смог бы стоять на ногах. Они только потому и дер-
жались еще, что были вместе, слившись как бы в одно целое. С их плеч свисали лохмотья. Приглядевшись, я увидел наши, советские, гимнастерки...
— Хальт! — захлебываясь, прокричал Бахмайер, и люди-призраки остановились. Мы с ужасом глядели на них. Лагерники редко плакали. А тут плакали многие.
Бахмайер повернулся к нам — он любовался собственным голосом, что рокотал в мертвой тишине.
— Господа, разрешите представить вам... Всем хорошо видно? Прошу подойти ближе! Ее ближе. Вот так. Известно ли вам, кто стоит перед вами? Не догадываетесь? Ну-ка, приглядитесь внимательнее. Красавцы, не правда ли? Так вот, это и есть те знаменитые большевистские комиссары, которыми гор-дит-ся ро-ди-на. — Он захохотал, крутнулся на каблуках, шагнул вперед. Не спеша несколько раз протянул руку в перчатке к изорванным гимнастеркам. Эсэсовцы сразу же схватили тех, на кого он указал.
— В крематорий!
, Четыре безмолвные фигуры, повиснув на руках дюжих охранников, исчезли за полосой света. Их поволокли в лагерь, к печам, что дымились между кухней и баней.
Пленники молчали. И мы молчали тоже.
— Я хочу спросить вас, — стоя перед пошатывавшимся сгустком тел в гимнастерках, Бахмайер вынул из кобуры пистолет и повысил голос, — нравилось вам быть ко-
миссарами? Вы были довольны красными звездами на рукавах? Молчание — знак согласия... Хорошо! В таком случае, может быть, среди вас найдется теперь хотя бы один, который обретет дар речи и скажет нам вслух, что он был коммунистом и комиссаром? Что? — Начальник лагеря приложил ладонь к уху. — Не слышу! Молчите? Да, сейчас вы забыли даже, как слово «коммунист» выговаривается, я понимаю...
Бунелик прикрыл глаза, пальцы его сжали край стола.
И вдруг из толпы людей, освещенных прожекторами, медленно вышел человек. В голубоватом свете мне видно было его лицо, темное и скуластое. Он, прихрамывая, приближался к Бахмайеру и не отводил от него взгляда прищуренных глаз. Подошел почти вплотную, качнулся, но устоял на ногах и сказал хрипловато, окая, четко выговаривая каждое слово:
— Хочешь познакомиться? Что ж, давай. Я — Морозов Александр Дмитриевич, член Коммунистической партии и большевистский военный комиссар! — Слегка повернув голову в сторону опешившего переводчика, добавил: — Переведи ему, ты, падаль! Переведи слово в слово. Я коммунистом был, коммунистом остался и буду коммунистом даже после смерти. Что тебя еще интересует, фашистская мразь?
Бунелик поднял на меня глаза.
— Вам приходилось когда-нибудь слышать тишину, такую, когда кажется, будто время останови-
лось? Я такую тишину слышал. Она стояла в тот миг в каменоломне, только казалось, потрескивал пар, что вырывался из тысяч легких.
Человек, назвавшийся комиссаром Морозовым, все YaK же смотрел, не отрываясь, в лицо Бах-майера. В толпе за спиной этого человека началось движение. Пленные расступились, и вышел еще один, молодой, высокий, в пилотке.
— Я — Пономарев, коммунист и красный комиссар!
Затем сразу двое:
— Комиссар Красной Армии, коммунист Федулов! Повторить?
— Тихонов, батальонный комиссар и, естественно, коммунист! Чем и горжусь.
Бахмайер не попятился испуганно, нет. Он сделал лишь каких-то полтора шага назад, но этого было достаточно — даже солдаты-охранники поняли, что произошло. Они молча, с суеверным страхом смотрели на людей, которые один за другим выступали вперед, навстречу дулам автоматов, произнося разбитыми губами несколько слов, что раскалывали тишину. Даже на этих мясников в мундирах, на этих убийц подействовал вызов, брошенный в лицо спокойно и без колебаний. Начальник лагеря оглянулся, как бы ища поддержки у эсэсовцев. Он тоже сообразил: ничем уже не исправить того, что случилось. Ничем! Даже если скосить всех стоявших перед ним очередями, сжечь или заживо закопать в землю.
И Бахмайер заорал нечленораздельно, как животное. Он бросился в группу пленных, что росла возле него, силясь снова затолкать людей назад, в толпу.
И тогда послышался хрипловатый голос Морозова:
— Чего беснуешься, гад? Смерть страшна трусам, и ты боишься ее! Не мы, а ты!
Бахмайер вскоре взял себя в руки. Постоял, поводя «парабеллумом». Потом сказал:
— Смелость — это хорошо. Смелые будут расстреляны последними. Сделать это сейчас — слишком большая роскошь для вас, господа храбрецы!
Их оставили в каменоломне. Шестьдесят восемь человек. Это были наши армейские политработники, вчерашние райкомовцы и обкомовцы, некоторые, постарше, действительно носили комиссарские звания, но немало оказалось среди них и молодых офицеров, выпускников политучилищ. Но все так и остались для нас комиссарами. Только недолго прожили они с нами.
Однажды, в день какого-то гитлеровского праздника, в воскресенье, эсэсовцы погнали их всех к тиру, где офицеры из лагерной охраны почти ежедневно тренировались в стрельбе. Весь лагерь притих и замер в предчувствии беды. И скоро действительно начался кошмар. Мне казалось, что я схожу с ума: на наших глазах происходило такое, что было страшно даже в условиях Маутхау-зена. Комиссаров привязывали в
тире к столбам, и офицеры-эсэсовцы, отойдя на несколько шагов, разряжали в них пистолеты почти в упор, на пари состязаясь в «меткости».
Морозов стоял там же, в тире, руки у него были скручены проволокой. Не отрываясь смотрел он на товарищей, которые гибли под пулями. Два охранника держали его. Бахмайер дрожал, как эпилептик, и кричал ему:
— Видишь? Ну, видишь, коммунист? — Он перезаряжал пистолет, целился в очередную жертву и исступленно рычал:
— Этому я стреляю в переносицу, следующему продырявлю уши, а затем — горло... Наблюдай, ты же смелый!
Лицо Морозова окаменело. Раз-дав&аись выстрелы, слышались стоны, неистово галдели фашисты. А Морозов стоял... Скулы выдавались еще резче, на лбу вздулись жилы, волосы его медленно становились белыми, как бы покрывались инеем, из стиснутых зубов сочилась кровь...
Несколько часов стоял так Морозов. Не переставая трещали «парабеллумы», «вальтеры» и «за-уэры». Пороховая гарь, не успевая улетучиваться, ела глаза. А в блоках заключенные рыдали, закрывали уши, били кулаками в стены и запертые двери.
Наконец комиссаров осталось четверо — это были те, кто первым вышел из толпы пленников: Морозов, Пономарев, Федулов, Тихонов.
— Твой черед! — Бахмейер по-
казал пистолетом на Морозова. — К столбу его!
Глаза Морозова были прикованы к лицу начальника лагеря, как будто он хотел запомнить эту ненавистную физиономию. Бахмайер вскинул руку с пистолетом и вдруг закричал пронзительно:
— Опусти голову! Отвернись, будь ты проклят! Закрой глаза, слышишь!
— Боишься? — глухо спросил Морозов. — Я тебя все-таки заставлю смотреть мне в глаза, ублюдок! Убивать научился, а глядеть прямо — кишка тонка? Чего побледнел? Я ведь привязан. Стреляй!
Трижды поднимал пистолет Бахмайер и трижды встречался со взглядом человека, смотревшего на него презрительно и без тени страха. По лбу начальника лагеря струился пот, у него начали трястись руки. Тыча, как слепой, пистолет в кобуру, он вдруг повернулся спиной к Морозову и пошел из тира, ускоряя шаг. Потом почти бежал, согнувшись, цепляя сапогами за камни. Эсэсовцы хмуро смотрели ему вслед, опустив автоматы, и нервно курили. Потом один из них направился к Морозову и торопливо стал распутывать проволоку».
Было тогда Морозову всего тридцать лет. Служил комиссаром отдельного отряда десантников, выполнявших особое задание в тылу у немцев. Во время очередного рейда в тыл врага был ранен и в бессознательном состоянии попал в плен. Родом из Кировской
области, из северного поселка Има. После того случая Бахмайер оставил Александра в покое, а остальные эсэсовцы так вообще боялись его, сторонились как черт ладана, умолкали, когда он проходил мимо. После того памятного эпизода в тире немцы смотрели на Морозова почти с суеверным ужасом.
Потом Александр Морозов участвовал в работе подпольной антифашистской организации, действовавшей в Маутхаузене. После освобождения вернулся на Родину, в свой поселок Има. Работал там бригадиром лесорубов. После войны у него родилось шесть дочерей. Вот такая история...
