С. Б. Борисов Человек. Текст Культура Социогуманитарные исследования Издание второе, дополненное Шадринск 2007 ббк 71 + 83 + 82. 3(2) + 87 + 60. 5 + 88
| Вид материала | Документы |
- К. С. Гаджиев введение в политическую науку издание второе, переработанное и дополненное, 7545.88kb.
- К. Г. Борисов Международное таможенное право Издание второе, дополненное Рекомендовано, 7905.27kb.
- Культура, 1654.22kb.
- Головин Е. Сентиментальное бешенство рок-н-ролла. (Второе издание, исправленное и дополненное), 1970.65kb.
- Учебник издание пятое, переработанное и дополненное проспект москва 2001 Том 3 удк, 11433.24kb.
- Учебник издание пятое, переработанное и дополненное проспект москва 2001 Том 3 удк, 11230.01kb.
- Практические рекомендации 3-е издание, переработанное и дополненное Домодедово 2007, 710.08kb.
- Зумный мир или как жить без лишних переживаний издание второе, дополненное Издательство, 7377.47kb.
- Учебное пособие (Издание второе, дополненное и переработанное) Казань 2005 удк 616., 1987.56kb.
- Методические рекомендации Издание второе, дополненное и переработанное Тверь 2008 удк, 458.58kb.
Весталки Древнего Рима находят естественное продолжение в монастырках европейского средневековья. С 500 по 1500-е годы монастыри являлись важнейшим фактором культурной жизни Западной Европы. В женские монастыри приносили девочек, которые уже никогда не покидали монастыри. Кроме того, в них приходили девушки, давшие обет безбрачия. Число жаждавших монашеской жизни было столь велико, что в IX веке было принято постановление об ограничении числа монахинь. То же повторялось и впоследствии.
Женские монастыри были центрами автономной культурной жизни незамужних бездетных женщин (девушек). В VIII–XIV вв. монахини занимались тканьем, рисованием, вышиванием, искусством переписывания. Монахини создавали литературные произведения, от них сохранились письма, стихи, жития святых.
После XVI века многим женщинам остался один удел – замужество и зависимая от мужчины социальная и культурная жизнь.
Таким образом, культ целомудрия, девичьей непорочности, официальный статус безбрачных девушек как служительниц сакрального, был фактом тысячелетней истории Западной Европы. Дева реально (социально) существовала как лицо «третьего пола» в социокультурной стратификации средневекового общества.
Сакральный, харизматически маркированный статус Девы-воительницы отчетливо виден на примере Жанны д'Арк (XV век). Именно в то время во Франции был распространён слух о том, что «страну погубила женщина, а спасёт дева». Именно в контексте этих ожиданий Жанна, Дева Орлеанская, и выступила как реализация чаемого архетипа. Дева смогла спасти Францию потому, что Франция ждала спасения девой. Это ещё одно подтверждение, что в европейском сознании средних веков наличествовал архетип девы.
Христианство. Помимо уже названной Богородицы (Божьей Матери-Приснодевы) центральным женским образом христианской мифологии остается дева, преимущественно – дева, отстаивающая целомудрие. Обратимся к примерам.
«Фёкла, в христианских преданиях дева из Икании, ученица и спутница aп. Павла. Случайно услышав проповедь пришедшего в Иконию апостола, восхвалявшего аскетический образ жизни и целибат, Фёкла исполняется решимости сохранить чистоту девственности». Мать Фёклы настаивает на изгнании Павла из города и сожжении Фёклы «в назидание прочим девицам. Однако, сподобившись видения Христа, Фёкла смело восходит на костёр, но устрашающий ливень гасит пламя… В Антиохии красота Фёклы привлекает Александра Сирнарха. Фёкла противится его домогательствам и с позором изгоняет его из своего дома. За это она отдана на растерзание диким зверям. Но свирепая львица кротко лижет ей ноги… Апокрифические «Деяния Павла и Фёклы» получили широкое распространение в христианском мире» [8].
«Святая великомученица Ирина... родилась и выросла в языческой семье в I веке… Когда пришло время... выходить замуж, ей было послано знамение… Через некоторое время апостол Тимофей крестил... Ирину. ...Новый правитель Мигдонии Седекия потребовал от св. Ирины отречься от христианской веры и, не добившись своего, приказал бросить её в ров, кишащий змеями и гадами. Ангел Господень в течение 10 дней оберегал девушку и приносил пищу. Тогда Седекия велел перепилить мученицу железной пилой. Три пилы сломались, и лишь четвёртая обагрила тело св. Ирины кровью... Внезапно грянул гром, и молния поразила мучителей. Св. Ирина подверглась ещё многим жестоким пыткам, но оставалась невредимой» [9].
«Святая мученица Татиана... Когда она выросла, то не стала выходить замуж... При императоре Александре Севере начались гонения на христиан... Св. Татиану мучали: били, резали бритвами, но вместо крови из ран сочилось молоко, и в воздухе разлилось дивное благоухание... На следующий день по её молитве молния испепелила идолов в храме Дианы, куда её привели на поклонение. Когда же святую Татиану привели в цирк и выпустили голодного льва, он лёг рядом и стал лизать ей ноги... Испробовав все пытки, ей вынесли смертный приговор – отрубить мечом голову».
«Святая великомученица Варвара... Многие богатые и знатные юноши, прослышав о ее красоте, сватались к ней, но Варвара всем отказывала, огорчая тем отца, желавшего для нее всех благ языческих... Озверевший отец... мучил её несколько дней и затем выдал как христианку правителю города Мартиану. Когда Варвара отказалась принести жертвы идолам, она была предана тяжким телесным и нравственным пыткам. Ни обнажение тела, ни бичевание не поколебали её... Для большего издевательства было приказано водить её по городу без одежды, но и здесь Господь сотворил чудо: Ангел окутал святую неземным светом, как бы одеждою... Варвару... повесили на дереве и били железными прутьями, затем... осудили на смерть. Варвара была усечена руками своего немилосердного отца» [10].
«Повесть о царице Динаре» («Дивна повесть мужественна о храбрости и мудрости целомудренныя девица, Динары царицы...») возникла в московской великокняжеской среде в XVI веке и была очень популярна на протяжении двух веков. Речь в ней идет об Иверии (Грузии), а прототипом Динары была знаменитая грузинская царица Тамара (XII в.), хотя в истории Грузии была и действительная царица с именем Динара. «Когда умер иверский государь Александр Мелек, у него не было детей мужского пола, но только одна дочь осталась, пятнадцати лет, очень разумная, и решила она не выходить замуж». В войне против персов она возглавила войско: «Аз иду, девица, и отложю женьскую немощь, и восприму копье в девичью длань» и одержала победу. Здесь мы наблюдаем проявление архетипа Девы как девы-воительницы, аналогичное феномену Девы Орлеанской (Жанны д’Арк) [11].
Таким образом, мы можем констатировать прочное присутствие символа «идеальной девы» в христианском континууме.
Народная европейская мифология. Здесь мы не предполагаем дать исчерпывающий обзор «демонических дев». Нашей целью является обозначение круга явлений, указывающих на присутствие в народном европейском сознании архетипа Девы.
«Ундины (от лат. «волна»), в мифологии народов Европы духи воды, русалки. Прекрасные девушки (иногда с рыбьими хвостами), выходящие из воды и расчесывающие волосы. Своим пением и красотой завлекают путников вглубь, могут погубить их или сделать возлюбленными в подводном царстве» [12].
«Вилы, самовилы, в южнославянской мифологии женские духи, очаровательные девушки с распущенными волосами и крыльями, одеты в волшебные платья: кто отнимал у них платье, тому они подчинялись» [13].
«Лорелея, в европейской традиции обитающая на Рейне нимфа, которая своими песнями увлекает корабли на скалы» [14].
«Русалки, в славянской мифологии существа, как правило, вредные, в которых превращаются умершие девушки, преимущественно утопленницы... Представляются в виде красивых девушек с длинными распущенными зелеными волосами...» [15].
«Брюнхильда. В немецкой «песни о нибелунгах» – дева-воительница, правительница сказочной страны Исландии» [16].
Европейская и литературная сказка. Сказка – это та ступень в развитии мифа, когда он десакрализуется, но его существенные черты сохраняют прочные связи с народным духом.
Классическим европейским образом Девы является Красная Шапочка. Затем на память приходит Белоснежка. Далее уместнее перейти к литературным сказкам, прочно вошедшим в европейское сознание: «Дюймовочка», «Снежная Королева», «Русалочка», «Золушка» (некоторые из них являются литературными обработками фольклорных сюжетов). Отдельной строкой следует выделить кэрроловскую Алису, линдгреновскую Пеппи-Длинныйчулок, андерсеновскую Элизу («Дикие лебеди»).
Русский необрядовый фольклор. Русская сказка особенно богата на образы девушек. Это и Маша в сказке «Три медведя», это и сестрица Аленушка, образ, ставший нарицательным для русской культуры. Это и Крошечка-Хаврошечка, и Варвара-краса – Длинная коса, и Марья Моревна, и Василиса Премудрая, и Елена Прекрасная.
Сразу же назовем ряд литературных сказок, написанных в русле народной традиции: «Зоренька» и «Крупеничка» Н. Телешова, «Медной горы Хозяйка» П. Бажова (аналог «Снежной Королевы»), «Аленький цветочек» Аксакова. В этот же ряд входит и опера «Снегурочка», написанная по А.Н. Островскому Н.А. Римским-Корсаковым; «Русалочка» А.С. Даргомыжского.
Особая роль женского начала в русской сказке отмечена была Е. Трубецким. Одна из глав его статьи, посвященной русской сказке, так и называется: «Женственные воплощения сказочной мудрости». В ней автор кратко характеризует один из двух образов носителей мудрости – «вещую старуху» и подробно анализирует образ «вещей невесты»:
«Образ вещей невесты, – пишет Е. Трубецкой, – представляет собой сочетание мудрости и власти над тварью... Но с мудростью и властью в вещей невесте сочетается и красота, обладающая силой волшебного действия». И далее: «Силою этого очарования всё на свете движется: к волшебной невесте направляется весь сказочный подъем, точно вместе с влюблённым в неё царевичем вся тварь испытывает неудержимое к ней влечение».
Именно образ «вещей невесты», по мнению Е. Трубецкого, придаёт русской сказке женственный характер. «...Именно женский образ вещей невесты господствует в этой сказке, олицетворяет собою её ценность и высшую вершину её творчества. В ней выражается по преимуществу женственное мироощущение». «В русской сказке ярко выражены женственные качества души, поэтическая мечтательность, нежность, восторженность, переходящая в экстаз: и рядом с этим гамма мужественных тонов звучит в ней сравнительно слабо» [17].
Это пишет философски настроенный автор в 1920 году. А вот как характеризует девичьи образы в русской сказке бесстрастный исследователь Н.В. Новиков в наше время:
«Женщины-помощницы героя всегда являются в идеальном свете… Сказка оттеняет в женщинах такие достоинства, как физическая и нравственная красота, верность долгу, постоянство, решительность, самоотверженность. Это – трудолюбивые, энергичные, сильные, жизнедеятельные натуры, умеющие постоять за себя, преодолеть любые препятствия на пути к личному счастью» И далее: «Волшебно-фантастическая сказка весьма почётную роль отводит женщине-героине. По своим достоинствам – силе, храбрости, красоте и уму (мудрости) – она не только не уступает главному герою, но и в ряде случаев превосходит его. Женщина-героиня выручает жениха... от неминуемой гибели, решая за него многотрудные задачи».
Следует уточнить: хотя автор говорит о женщине, в действительности, если быть терминологически точным, следует говорить о девушке, невесте. В крайнем случае речь идет о «жене», похищенной в первый день свадьбы.
Выше речь шла о девушке (невесте) – помощнице главного героя. А сейчас пришло время дать характеристику героиням-богатыршам:
«Тип героини-богатырши... чаще именуется Царь-девицей... Живет Царь-девица... в Подсолнечном или Девичьем царстве... Девичье царство бдительно охраняют богатыри, львы, три Ягишны, бабушки-задворенки, старик-волшебник... Царь-девица – управительница Девичьим царством. Она же – хранительница эликсира молодости, красоты и здоровья – молодильных яблок и живой и мёртвой воды… Сказки не касаются сколько-нибудь подробного описания Девичьего царства, они лишь указывают, что в нем проживают девицы-красавицы, удалые паленицы... В подчинении Царь-девицы их может быть две, одиннадцать, двадцать четыре, целое войско... Сама Царь-девица характеризуется в сказках прежде всего как женщина-исполин, обладающая непомерной физической силой.... Но Царь-девица – не только могучая поляница. Она – вообще необыкновенная женщина, наделенная чудесными свойствами и невиданная по красоте» [18].
Итак, даже по необходимости краткое изложение обобщающих характеристик девушек в русских сказках демонстрирует, на наш взгляд, существеннейшее отличие их от западноевропейских героинь. Русские девушки обладают каким-то чудесным свойством, они волшебницы, они необычайно сильны и красивы, они субъектны, они властительны, они могущественны.
Кратко выскажусь о жанре паремий (пословицах и поговорках). С некоторой долей уверенности можно утверждать, что пословицы категорически неблагосклонны к замужней женщине («бабе») и сравнительно благожелательно относятся к девушке.
«У бабы волос долог, да ум короток»; «Бабий ум – бабье коромысло: и криво, и зарубисто, и на оба конца»; «Пока баба с печи летит, семьдесят семь дум передумает»; «Бабьи умы разоряют домы»; «Где чёрт не сладит, туда бабу пошлет»; «Баба бредит, да кто ей верит»; «Курица не птица, баба не человек»; «Баба с возу – кобыле легче» и т. д.
«Чего девушка не знает, то её красит», «В клетках птицы, а в теремах девицы», «Молодец в кафтане, девка в сарафане», «Девка красна до замужества», «Сиди, девица, за тремя порогами» и т. д.» (19).
Таким образом, и в жанре паремий образ девицы выступает как проявление особого архетипа Девы, а не как «подвид» архетипа женщины.
Русская девичья одежда. Отличие девичьего костюма от женского просматривается в европейской, античной, средневековой культурах.
«Обычно девушки опоясывали хитон на талии, а замужние женщины – под грудью» (в Древней Греции).
«Девушки носили либо длинные косы, либо распущенные волосы, подхваченные вокруг головы обручем, а замужние женщины скрывали волосы под головным убором» (романский период ХI-ХII вв.).
Однако есть основания считать, что именно в славянском, особенно в русском костюме отличие женского одеяния от девичьего развито особенно отчетливо.
«Основой женского костюма являлась рубаха… Поверх рубахи замужние женщины обычно носили поневу – юбку, запахнутую вокруг фигуры… Обычным костюмом девушки была холщовая одежда – запона – прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам и имеющий на изгибе отверстие для головы. Запона… была короче рубахи и надевалась поверх неё. В течение длительного периода на Руси складывались традиции, согласно которым замужние женщины должны были скрывать волосы. С открытыми волосами могли ходить лишь незамужние… Девушки могли носить распущенные волосы, подхваченные лентой, тесьмой или повязкой. Наиболее характерной прической для девушки была коса, заплетенная низко на затылке. Часто на голову надевали венец – обруч из кожи или бересты, обтянутый дорогой золотой тканью» [20].
Можно рассмотреть этот вопрос более подробно, однако для нас в данном случае важно, что в народном восточнославянском сознании чётко различались символические черты девушек и женщин – ведь одежда, прическа, головной убор – это знаковые системы. Отметим, что костюмы мужчин и юношей практически не отличались.
Знаковая (а значит, косвенно, реализующая архетип) функция костюма особенно явственно выступает в ситуации смены костюма, когда происходит переход от одной семантической традиции к другой, от одного архетипа к другому. Так, обряд «вскакивание в поневу» означал переход из состояния девушки в состояние девушки-невесты. Другой обрядовый комплекс смены костюма связан со свадьбой. Остановимся на русской свадьбе более подробно.
Русская свадьба. В русской свадьбе девичество играет большую роль. «…У русских по сравнению с другими восточнославянскими народами значительно большее развитие на предсвадебном обряде получил девичник, устраивавшийся накануне свадьбы у невесты».
Невеста в кругу подруг прощалась со своей девичьей волей, на севере – красной красотой, которую чаще всего символизирует лента, венок, или головная повязка, реже – ёлочка. На юге такую же роль играла наряженная ветка. «Заплетали свадебный венок. Особенно развернутым, поэтичным, полным драматизма этот обряд был в северно-русских губерниях. Здесь же долго сохранялся обычай предсвадебного мытья в бане и обрядовые причитания невесты» [21].
Анализ свадебного обряда показывает, что девичье сообщество играет не просто большую, а ведущую, даже монопольную роль в свадебном обряде. В классическом свадебном обряде «мужской партии» вообще не принадлежит ни одного слова. При этом следует вспомнить, что свадьба – это один из наиболее развитых обрядов восточных славян. Именно в свадьбе с особым размахом и блеском выступает творческая мощь русского народа. Свадебные плачи (причеты) – золотой фонд мировой культуры, а ведь их создателями и носителями были русские девушки.
Вернемся к теме девичьих объединений в Древней Греции. Уже цитировавшийся И.И. Толстой видит в эпиталамиях Сафо фольклорные элементы. К одному из сохранившихся отрывков И. Толстой предлагает в качестве параллели «очень близкий» мотив «прощания русской невесты в условиях старинного свадебного обряда со своей расстающейся с нею и уходящей от нее в далекие поля и высокие горы девичьей красотой»:
«Ты прости-ка, краса девичья! / Я навек с тобой расстануся, / Молодёхонька наплачуся. / Отпущу тебя я, красота, / Отпущу тебя со ленточкам /Во поля, в луга широкие, / Во леса, в боры дремучие».
Сравним с эпиталамией Сафо:
«Невинность моя, невинность моя, / Куда от меня ты уходишь? / Теперь никогда, теперь никогда / К тебе не вернусь я обратно»
Высказывалось мнение, что свадебная песнь греческих девушек сопровождалась обрядовым действием: одна из подружек невесты (невинность, девство) отделялась от хора и подходила к невесте; невеста пела ей вопрос, а девушка отвечала невесте.
Сходство (типологическое) свадебных песен древнегреческих девичьих хоров и русских девушек заставляет предположить не только сходство обрядов, но социальное сходство. Вероятно, девичьи свадебные песни исполнялись не случайными собраниями, а сплоченными хоровыми объединениями. Более того, обращение к несвадебной обрядовой жизни русской общины заставляет предполагать, что девичьи объединения играли не только свадебно-ведущую роль.
Девушки в русских календарных обрядах. Девичьи божества. Подобно тому, как мы избавляли читателя от подробного анализа текстовой и обрядовой составляющей русской свадьбы, предлагая принять на веру ведущую роль девических сообществ в её проведении, равным образом мы лишь постулируем с минимальной аргументацией ведущую роль девичества в обрядовой жизни русской общины.
Встреча весны и пение веснянок – исключительно девичий обряд: хоры девушек перекликались друг с другом с возвышенностей.
Обряды русалий, заплетания и расплетания березки, пускания венков – исключительно девичьи обряды [22]. Подблюдные песни (гадания) – тоже чисто девичье явление.
Отдельной строкой следует назвать обряд «крещения и похорон кукушки». Т. Бернштам подробнейшим образом проанализировала этот тайный девичий обряд, сопровождавшийся кумлением, сакральным посестримством девушек. Исследовательница показала, что данный обряд восходит к периоду, когда именно половозрастные группы играли важнейшую роль в жизни общины. Т. Бернштам убедительно доказывает, что «кукушка» в обряде замещает древнее женское божество» [23].
Изыскания Б. Рыбакова весьма убедительно показывают взаимодействие древних славян и древних греков, сходство их религиозных культов, в частности, сходство пары Латона – Артемида и Лада – Леля. Не исключено, что именно девическое божество Леля было предметом девичьего культа, впоследствии вытесненного «кукушкой». Как бы то ни было: в славянском язычестве девичьи божества были, по-видимому, весьма популярны. Предоставим слово Б. Рыбакову:
«В то самое время, когда строилась церковь Покрова на Нерли близ Владимира, украшенная целым поясом строгих девичьих ликов, изваянных из белого камня, владимирский князь Андрей Боголюбский получил от константинопольского патриарха Луки послание... В патриаршем послании как бы в противовес появившемуся в эти годы увлечению девичьими ликами в русском искусстве (тоже с языческой подосновой), неожиданно и не к месту говорится о том, что девичьи лики следует понимать как символ “софии, премудрости божией”… Патриарх неоднократно говорит о... мудрости “любящих девство”… Девушки на колтах середины XII в., по всей вероятности, – замаскированные изображения языческого божества, известного в фольклоре и в письменных памятниках под именем Лели или Ляли, дочери Лады, и восходящего к архаичным индоевропейским представлениям (Латона и Артемида, Деметра и Персефона)».
Нам всегда представлялась довольно неубедительной аргументация, приписывающая женскому славянскому божеству Мокоши (Макоши) специфически женский, материнский статус. И вот уже в процессе подготовки настоящей статьи к печати, мы встретили статью, где весьма убедительно доказывается девический статус Мокоши. Там, в частности, указывается, что «определение дева в данном случае непосредственно предваряет имя Мокошь» [24].
Архетип девы в русской литературе. Безусловно, в любой культуре можно найти некоторое количество примеров, подтверждающих любой тезис. Доказательность возникает лишь тогда, когда примеры репрезентативны, то есть они представляют явления значительные в культурном отношении и при этом достаточно многочисленны. Обратимся к русской литературе.
Русская литература начинается с «Бедной Лизы» Н. Карамзина: симптоматичное начало. В 1808–1812 гг. В.А. Жуковский выпускает сначала «Людмилу», а затем «Светлану», переделки «Леоноры» Бюргера: это первые русские романтические поэмы. Далее следует Софья Фамусова из «Горя от ума» Грибоедова. Пушкин дарит русскому сознанию Татьяну Ларину и Людмилу («Евгений Онегин» и «Руслан и Людмила»), а также «Капитанскую дочку» Машу. Лермонтов создает Тамару в «Демоне», «Бэлу» и «Княжну Мэри». Гоголь оставил нам Панночку в «Вие» и институтку, дочку губернаторши, сбившую с привычной стези Чичикова, в «Мёртвых душах».
Тургенев столь интенсивно возделывал ниву девичьей тематики, что благодаря его стараниям возник нарицательный образ «тургеневская девушка».
Вспомним Ольгу Ильинскую в «Обломове» И. Гончарова, Ларису Огудалову в «Бесприданнице» А.Н. Островского, «Трех сестер» А.П. Чехова, Оленьку Мещерскую в «Легком дыхании» И. Бунина.
Стоит обратиться к творчеству Ф.М. Достоевского, и сразу же вспоминаются Варя Доброселова (в паре с Макаром Девушкиным) из «Бедных людей», Сонечка Мармеладова и Настасья Филипповна из «Преступления и наказания» и «Идиота».
Прервём перечисление и обратимся к статье Ивана Шмелева, формальным предметом которой являются образы Мисюсь и Лиды-Рыбий Глаз из рассказа А.П. Чехова «Дом с мезонином».
«Что такое “Лида” в русской жизни? – восклицает автор. – Редкий довольно образец, карикатурно дававшийся литературой нашей: так этот тип несвойствен характеру русской женщины. Русская женщина, русская девушка – носит в себе великий дар: большое сердце, тревожно-чуткое. Русская женщина нежна, мечтательна, жертвенна, принимает жизнь как священное. Это она творит жизнь, это она выносит бремя испытаний, хрипит “соль жизни”. Наша литература ею прославлена. Сколько чарующих образов матерей, жен, бабушек, нянь, сестер, невест у Тургенева, Достоевского, Гончарова, Толстого, Лескова, Чехова... и, конечно, у нашего солнца – Пушкина… “Русская женщина” – у иностранцев – получает значение особливости – душевной сложности, загадочности, неопределенности» [25].
Эти слова, написанные в 1947 году, безусловно верны, но относятся они даже не преимущественно, а почти исключительно к образам девушек в русской литературе. Попытайтесь отыскать хотя бы с полдюжины образов матерей или нянь в русской литературе, причем образов сколько-нибудь сравнимых по яркости с образами русских дев! Не получится! Русская литература прославлена именно образами девушек. Продолжим их список.
Ставшая нарицательной Лолита-нимфетка у Набокова.
Девочка Настя в «Котловане» А. Платонова, смерть которой символизирует гибель идеи.
Можно вспомнить любого писателя, сколько-нибудь значительного, и первым делом вам придет в голову его девичий образ: Наташа Ростова у Л. Толстого, «Детство Люверс» Б. Пастернака.
Валя-Валентина («Смерть пионерки») – если не лучшее, то, во всяком случае, самое архетипичное произведение Э. Багрицкого.
Формально являясь замужними женщинами, Елена Тальберг («Дни Турбиных») и Маргарита («Мастер и Маргарита») М.А. Булгакова выполняют в романах функцию именно вещих дев, во всяком случае, образами матери или замужних женщин эти фигуры назвать нельзя ни в коем случае.
Сколько девушек осталось за пределами нашего «списка»! Это и Аглая в «Идиоте» Ф.М. Достоевского, и «Динка» В.А. Осеевой, и «Люда Влассовская», «Княжна Джаваха», «Сибирочка» Л. Чарской, и «Ольга Орг» Ю. Слёзкина, и «Аэлита» А. Толстого, и Ассоль А. Грина, и Суок Ю. Олеши, и «Девочка в бурном море» З. Воскресенской, и «Девочка из города» Л. Воронковой, и Таня из «Дикой собаки Динго» Р. Фраермана, «Повесть о рыжей девочке» Л. Будогоской, Элли из «Волшебника Изумрудного города» А. Волкова...
Что характерно, большинство из названных произведений и образов вошли в общественное сознание, стали символами, нарицательными обозначениями каких-то черт характера, определенных идеалов. И, повторимся, можно ли сыскать хотя бы несколько образов матерей, ставших нарицательными? Единственное, что приходит на ум – «очень своевременная книга» М. Горького – «Мать».
Обратимся лишь мимоходом к русской поэзии. И здесь мы сможем не признать, что девушка является центральным образом множества стихотворений. Ограничимся лишь несколькими десятками примеров:
«А вот и девушка извилистой тропой...», «Ты скажи, что за девицей едем...» (К. Случевский): «Девушка пела в церковном хоре», «Девичий стан, шелками схваченный», «И девушка на злого друга под снегом точит лезвие», «Лишь в пристальном и страстном взоре равеннских девушек...», «В какого бога страстно верил, какую девушку любил» (А. Блок); «Горбатой девушкой – прекрасной, но немой, – трепещет дерево», «Бываю с яблоней, как с девушкой больной», «В группе девушек нервных», «Лида, ты хорошенькая девушка...», «Выскочив из ландолета, девушками окруженный», «В парке плакала девочка», «Девушка согласилась, будто знакома давно», «Какая девушка обречена пасть?» (И. Северянин); «В разноголосице девического хора», «Ещё девиц не видно в баре», «Дев полуночных отвага», «Склонясь над воском, девушка глядит», «и холодом повеяло высоким от выпукло-девического лба», «Здесь девушки стареющие, в чёлках, обдумывают странные наряды», «Слышу лёгкий театральный шепот и девическое ах», «Где милая Троя, где царский, где девичий дом?», «Земли девической упругие холмы», «Как будто в гости водяная дева к часовщику подземному пришла», «И дева на скале: лежит без покрывала…», «Девчонка, выскочка, гордячка» (О. Мандельштам)… Прервём бесконечный список, ограничившись первыми пришедшими на ум поэтами.
Не следует удивляться тому, что в русской поэзии образ девушки играет центральную роль. Если связать воедино роль девических союзов в русской деревне, тот факт, что подавляющее большинство русских лирических песен – это девические песни, то станет ясным, что русская поэзия не только подхватила лирическую эстафету девичьих песен, но и инкапсулировала в качестве образа и самих социальных субъектов народного творчества – девушек.
Итак, исходя из всего вышеизложенного, можно заключить, что дева, девушка, девица является особым, «автономным» архетипом европейского и, уже, восточнославянского, русского сознания.
Русская философия. Характерно, что именно в русской философии получило развитие учение о Софии, божественной премудрости. Оно ведет начало от В. Соловьева, .присутствует .у П. Флоренского. Женственная сущность Софии не проявлена однозначно, но одно ясно: материнскими чертами она не характеризуется. Обращение к образу женщины, девы часто использует Н. Бердяев, говоря о русской душе… А. Лосев, полемизируя с В. Розановым, тоже использует образ девы:
«Пол, действительно, есть основное и глубинное свойство человека, – пишет он. – Но… ему не ощутительна изысканная женственность подвижничества девственниц с юности. Он не был в строгих женских монастырях и не простаивал ночей в Великом посту за богослужением, не слышал покаянного хора девственниц, не видел слез умиления, телесного и душевного содрогания кающейся подвижницы во время молитвы…, не узнал милого, родного, вечного… в этой впалой груди, в усталых глазах, в слабом и хрупком теле…» [26].
А Г.П. Федотов вопрошает: «Отчего же софийная Русь так чужда Логосу? Она похожа на немую девочку, которая много тайн видит своими неземными глазами и может поведать о них только знаками» [27].
Другие исторически существовавшие девичьи культы. Дальнейшие исследования должны показать, насколько далеко за пределами европейского культурного ареала распространена сакрализация девственности. Одним из примеров может служить феномен «невест Солнца» в специальных «храмах Солнца», имевших место в государстве инков. Подобно весталкам, девушки должны были хранить девственность и исполнять обряды служения богу Солнца [28]. Это только один из примеров, которые мы могли бы привести.
Половозрастные девические объединения в ХХ веке, Не следует думать, что девичьи союзы – это дела давно минувших дней. Так, в нацистской Германии существовал «Союз немецких девушек». В настоящее же время существуют всемирные организации девушек – Всемирная ассоциация герлгидов и герлскаутов (80 стран, более 6 млн. чел.), созданная в 1928 году, и Всемирная ассоциация молодых женщин-христианок (84 страны, клубные методы работы) [29].
Заключение. Пришло время подводить итоги, делать выводы. Каковы же предполагаемые нами следствия изложенного материала?
Эвристической составляющей статьи является тезис об отказе от господствующей в культурологическом сознании идеи о тождестве образа (символа, персонажа, архетипа) женщины вообще и образа матери в частности. Мы ставили своей целью предельно отчетливо артикулировать положение о необходимости полного отказа от традиции интерпретировать всякий персонаж женского пола как персонаж в конечном счете материнский. По-видимому, впоследствии можно будет разработать более или менее выверенную цепочку несводимых друг к другу архетипов женского пола (вещая старуха, мать, дева, – как один из вариантов этой цепочки; возможно разделение архетипа девы на ряд несводимых архетипов: дева-воительница, вещая дева и девочка; возможны другие варианты), в данной же статье мы сделали первый шаг по системному выстраиванию одного из возможных женских нематеринских архетипов на примере европейской и, в частности, русской культуры. При этом мы знаем, что и в неевропейской традиции существует множество примеров отчетливо девичьих, нематеринских персонажей, традиционно сводимых к материнским.
В связи со сказанным выше необходимо заметить, что в науке сложился мощный тандем философско-историко-этнографической и мифолого-культурологической концепций. Первая отстаивает тезис об исторической «обязательности», неизбежности матриархата; о том, что все народы в прошлом имели строй, где ведущая роль принадлежала матерям. Вторая, имея философский и методологический фундамент в тезисах первой, сводит все имеющееся многообразие женских мифологических персонажей к образу матери.
Примером последнего служит существование особой статьи «Богиня-мать» в энциклопедии «Мифы народов мира», самом авторитетном и объемлющем отечественном издании [30], при отсутствии даже намека на выделение фигуры богини-девы.
Есть необходимость высказаться относительно причин господства «матриархатного» подхода в современной историко-этнографической науке. По-видимому, это связано с причинами идеологического порядка, с пребыванием марксизма в статусе официальной идеологии Советского Союза. Это привело к тому, что исторически продуктивная гипотеза о существовании матриархата, волей случая попавшая на страницы известного произведения Энгельса, превратилась в идеологическую догму, и всякое системное покушение на неё было «политически» невозможно.
В 1990-е годы появились публикации, отчетливо проговаривающие принципиальную неверность тезиса об историческом существовании и тем более всеобщности матриархата. Известный этнограф Н.М. Гиренко так пишет об одном из идеологов матриархата Ю.И. Семенове: «Примерно с конца 1960-х годов он представал неким подобием блюстителя теоретических нравов в изучении первобытности. Для Запада он был интересен как наиболее типичный представитель экзотической советской мысли, попытками изложить идеи конца XIX века в более современной лексике и подкрепить их фрагментами этнографических и других наблюдений более позднего времени». В начале 1970-х годов эти идеи были вне критики, в результате в науке восторжествовали «общие схемы эволюции и представления о роде, общине, племени, об основных формах социальной структуры доклассовых обществ, недалеко ушедшие от основных схем Л.Г. Моргана и Ф. Энгельса» [31].
От себя прибавим, что сомнения в гипотезе о всеобщности матриархата были высказаны Карлом Радеком еще в 1927 году. В Большой Советской Энциклопедии он писал: «Новейшее исследование показало…, что и матриархат (материнское право) не был ни первоначальным строем семейной жизни, ни обязательной для всех народов переходной ступенью» [32].
Этнограф К.П. Калиновская, вспоминая 1950-е годы, пишет о Д. А. Ольдерогге: «Помню, сколько было споров в свое время по существу понятий “род”, “матриархат”… К моему столику подошел Дмитрий Алексеевич: “Что вы тут читаете?”. Показываю и говорю: “Мы всё спорим, а вы так просто и понятно всё объяснили в этой статье: “Материнский род – это не род матери”. Ведь это и снимает проблему матриархата, которая возникла в нашей литературе из-за некорректного перевода на русский язык немецкого “Muterrecht”. Дмитрий Алексеевич... сказал: “Ну, ну, действительно, верно. Конечно, насчет матриархата это всё Косвен напутал”, и пошел так просто, как будто и не было научного открытия. А мы эту статью, как бестселлер передавали из рук в руки» [33].
Приведем простейший пример конкретных этнографически-фольклорных фактов, интерпретированных в русле матриархатной концепции: «Характерно, что крайне архаический каракалпакский эпос об амазонках “Кырк-кыз”, посвященный подвигам воинственной защитницы интересов предков каракалпакского народа – Гулаим – и её сорока сподвижниц (матриархальный аспект той же генеалогической схемы) рисует нам комплексный тип хозяйства, сочетаемый с оседлостью» [34]. Позвольте, но ведь «Кырк-кыз» переводится как «Сорок девушек»; энциклопедия «Мифы народов мира гласит: «В мифологии каракалпаков Кырк-кыз – девы-воительницы, героини одноименного эпоса. Они живут на острове общиной, возглавляемые мудрой и справедливой девой Гулаим» [35]. Иными словами, речь в эпосе идет о девах-воительницах, о мудрой деве, но всё подвёрстывается к концепции матриархата.
Действительно, неверный перевод, принятый в качестве научного термина, сыграл злую шутку с отечественной наукой. Более точным был бы термин «гинекократия» (власть женщин»), кстати, встречавшийся в «классической» книге Косвена «Матриархат» [36]. В противовес данному термину можно было бы выработать, например, термин «партенократия», более точно обозначавший феномен власти дев (вспомним «Царь-девицу» и «Девичье царство» русских сказок, каракалпакские «Сорок дев», многочисленные легенды об амазонках и др.). Ведь документы в пользу предполагаемого периода «власти дев» столь же правдоподобны (и в то же время мифологичны) как те же самые аргументы, использованные в пользу матриархатной концепции.
Несколько слов о попытках ввести сознательное разделение материнских и девичьих персонажей. Это было сделано в книге И. Дьяконова, где автор озвучил идею различения двух типов богинь – «богинь-резиденток» (с материнско-хозяйственными функциями) и «богинь – дев-воительниц» [37].
Не станем оспаривать неудачную, на наш взгляд, терминологию. Главное, что артикуляцию получила идея раздельного и несводимого друг к другу существования двух типов женских божеств. Не касаясь проблемы приоритета, все же отметим, что в своей книге И. Дьяконов вел речь только об архаических религиозно-мифологических системах, мы же ведем речь об архетипах культуры вообще.
Справедливости ради следует указать еще на одно терминологическое совпадение высказанных нами положений: в тезисах О.В. Брюхановой встретилось выражение «архетип девы мудрости» [38]. Однако, как нам показалось, автор вела речь не о дистинкции женских и девических персонажей, а о женских образах вообще, и приведенное выражение не было сколько-нибудь развито.
Итак, всё изложенное в заключении свидетельствует о том, что различные элементы «материнского» комплекса в историко-этнографической науке, теории мифа и религии, культурологии в целом изрядно расшатаны. Но, по известному положению теории науки, пока одной системе не будет противопоставлена другая система, указания на неверность отдельных элементов первой не приведут к её падению. Наша статья была попыткой выразить системное понимание того положения, что Дева в европейской культуре являет собой особый архетип, несводимый к материнскому или женскому, что он находит выражение в античной и средневековой мифологии и религии, фольклоре и литературе народов Европы и России, что он имеет основание в социальной структуре традиционных европейских и восточнославянских обществ, характеризующихся, в частности, значительной ролью девичьих союзов.
Аспект системности, целостности, всеохватности в постановке проблемы девического архетипа имеет свои достоинства и недостатки. Недостатки прежде всего связаны с поверхностным освещением отдельных сторон проблемы. Читателю предлагается принять на веру то, что излагает автор. Однако сочетание аспекта всеобщности и конкретности, выстраивание конкретно-всеобщего образа Девы в европейской культуре потребовало бы значительно большего объема. Для поворота же в способах интерпретации социальных, культурных, исторических, этнографических и фольклорных явлений данный размер публикации представляется вполне достаточным. Тем более, что благожелательная (надеемся) критика поможет уточнить наиболее уязвимые моменты изложенной гипотезы.
Источники
1. Борисов С.Б. Дева как архетипический образ русской литературы // Художественная индивидуальность писателя и литературный процесс XX в. – Омск: Изд-во Омского педуниверситета, 1995. – С. 30-33.
2. Гимны Каллимаха. К Артемиде. // Античные гимны. Сост. А.А. Тахо-Годи. – М.: МГУ, 1988. – С. 149. В предшествующих строках использована информация со страниц 319 и 349 данного издания, а также из «Словаря античности» (М.: Прогресс, 1989), энциклопедии «Мифы народов мира» (любое издание). Использовались и другие публикации, например: Донини А. Люди, идолы и боги. – М., 1966. – С. 143-148.
3. Косвен М.О. Амазонки. История легенды. // Советская этнография. 1947, № 2-3.
4. Толстой И.И. Сапфо и тематика ее песен // Толстой И.И. Статьи о фольклоре. – М.-Л.: Наука, 1966. – С. 128-141. Статья написана в 1939 году.
5. См., например: Сергеенко М.Е. Примечания. // Письма Плиния Младшего. – М.: Наука, 1983. – С. 319-320.
6. Тронский И.И. История античной литературы. – М., 1991. – С. 30-32.
7. «Третий же ордер, называющийся коринфским, подражает девичьей стройности, так как девушки, обладающие вследствие юного возраста большей стройностью сложения членов тела, производят в своих нарядах более изящное впечатление» – Витрувий. Десять книг об архитектуре. – М., 1936. – С. 79 (Книга 4. Глава 1).
8. Мифы народов мира. Том. 2. – М., 1994.– С. 560.
9. О жизни православных святых, иконах и преданиях (согласно церковному преданию). – Свердловск, 1991. – С. 178-179.
10. Там же. – С. 103–104.
11. Русская бытовая повесть XV–XVII вв. – М.: Советская Россия, 1991 – С. 98.
12. Мифологический словарь. – М., 1991. – С. 562.
13. Там же. – С. 123.
14. Там же. – С. 322.
15. Там же. – С. 472.
16. Там же. – С. 472.
17. Трубецкой Е. «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке. // Литературная учеба. 1990. Книга вторая. – С. 113, 116–117.
18. Новиков Н.В. Образы восточнославянской волшебной сказки. – Л.: Наука, 1974. – С. 131–133, 70–74.
19. Вывод сделан из анализа примеров, приведенных в статье: Савенкова Л.Б. От нашего добра нам не ждать добра. // Русская речь. 1995, № 1. – С. 93–95. Пословицы цитируются по словарю В. Даля.
20. Киреева Е.В. История костюма. – М., 1976. – С. 14, 24, 31, 63–64.
21. Народы России. Энциклопедия. – М., 1994. – С. 302.
22. Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов – М., 1979. Безраздельное господство девушек в фольклорно-обрядовой жизни отразил сборник «Поэзия и обряд» (М, 1989). Приведём ещё один красноречивый пример: выпуск третий серии «Мудрость народная» называется: «Юность и любовь: Девичество», а четвертый – «Юность и любовь: Свадьба». Для юношей в «Юности и любви» вообще не нашлось места: третий выпуск девический по определению, а четвертый – по сути: свадьба – девический обряд.
23 Бернштам Т.А. Обряд «крещение и похороны кукушки» // Материальная культура и мифология. – Л., 1981. – С. 179-193. См. также её публикации о девичьих половозрастных союзах, например: Бернштам Т.А. К реконструкции некоторых переходных обрядов совершеннолетия. // Советская этнография. 1986, № 6. – С. 24–35.
24. Первая цитата: Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. – М.: Наука, 1988. – С. 594. См. также: Рыбаков Б. Язычество древних славян. – М., 1981. – С. 344, 349, 359, 361; Он же. Киевская Русь и русские княжества. – М., Наука, 1993. – С. 30, 36, 44, 54, 74, 84. Во втором случае речь идет о статье: Зубов Н.И. Научные фантомы славянского Олимпа. // Живая старина. 1995, № 3 (7). – С. 46.
25. Шмелев И. Творчество А.П. Чехова // Русская речь. 1995, № 1. – С. 60-63.
26. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. – М., 1991. – С. 78.
27. Мыслители русского зарубежья. Бердяев. Федотов. – СПб: Наука, 1992. – С. 279.
28. См.: Стингл М. Государство инков. – М., Прогресс, 1986. – С. 175–179.
29. См. Оболенская С.В. «История повседневности» в современной историографии ФРГ // Одиссей. Человек в истории. Личность и общество. 1990. – М.: Наука, 1990. – С. 182–198; Зарубежные молодежные организации. – М., 1989. – С. 18–19.
30. Рабинович Е.Г. Богиня-мать // Мифы народов мира. Том 1. – М., 1994. – С. 178–180; Богиня-мать // Мифологический словарь. Гл. редактор Е. Мелетинский. – М., 1991. – С. 660.
31. Гиренко Н.М. О двумерном и многомерном мышлении (Заметки по поводу недоумений сердитого критика). // Этнографическое обозрение. 1994, № 2. – С. 143.
32. Радек К. Бахофен // Большая Советская Энциклопедия. Том 5. Гл. ред. О.Ю. Шмидт. – М., 1927 – С. 97-98.
33. Калиновская К.П. Памяти Дмитрия Алексеевича Ольдерогге (К девяностолетию со дня рождения). // Этнографическое обозрение. 1994, № 2. – С. 143.
34. Толстой С.П. Города гузов. // Советская этнография. 1947, № 3. – С. 99.
35. [Басилов В.Н.] Кырк-кыз // Мифы пародов мира. – Том 2. – С. 32.
36. Косвен М.О. Матриархат. История проблемы. – М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1948. – 329 с. О «гинекократии» см., например: С. 41, 79–81 и мн. др.
37. Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада. – М., 1990. – С. 97–99.
38. Брюханова О.В. Особенности мифологизированных образов в восточнославянской культуре XI–XIII веков. // Славянские чтения. Вып. 2. – Омск, 1993. – С. 4-5.
«Архетип». 1996.
«Выход проглоченного наружу»
как архетип культуры
В.Я. Пропп в книге «Исторические корни волшебной сказки» рассмотрел сюжет «поглощения-выхаркивания» в рамках инициационной теории, в свете мотива змееборства. Среди европейских сюжетов он называет библейское сказание об Ионе и греческий миф о проглатывании Кроном своих детей.
Энциклопедия «Мифы народов мира» сообщает: «В... универсально распространённом сюжете проглатывания-выплёвывания человека морским чудовищем или драконом прослеживаются отголоски инициационных, а также солнечных мифов» [1].
Целью наших заметок является выстраивание сказочных и литеературных сюжетов, реализирующих архетип «выход проглоченного наружу». Это важно для понимания самоценности данного архетипа в условиях, когда обрядовая и мифологическая составляющие сюжета полностью исчезают.
«Красная Шапочка». Этот всем известный сюжет получает в различных текстах различную трактовку. Отметим солярную трактовку (Красная Шапочка – это солнце; её проглатывание – солнечное затмение; разрезание живота волка и выход Красной Шапочки наружу – конец солнечного затмения), а также .версию .Э. Фромма: «Большинство символов в этой сказке, – пишет он, – легко понять. “Красная Шапочка” – символ менструации. Маленькая девочка, о приключениях которой рассказывается в сказке, превратилась в зрелую женщину и столкнулась с проблемой половых отношений. Очевидно, что предостережение “не сворачивай с дорожки в лес”, чтобы “не упасть и не разбить бутылочку”, – это предостережение о том, что вступить в половую связь и утратить девственность опасно» [2].
«Красная Шапочка», как видим, вызывает совершенно исключающие друг друга интерпретации. Это говорит о том, в частности, что «Красная Шапочка» рассматривается исследователями как репрезентативный культурный текст, в который заложена значимая информация. Тот факт, что символ Красной Шапочки вызывает различные толкования, заставляет принять версию о том, что схема «проглоченный выходит наружу» – это действительно архетип, а названная сказка является одним из способов реализации данного архетипа.
Однозначной трактовке (солярной, фрейдистской или иной) сказки «Красная Шапочка» препятствует наличие ещё одного фольклорного текста.
«Волк и семеро козлят». Действительно, в этой сказке мы встречаемся с тем же мотивом «выхода проглоченного наружу», однако связать эту сюжетную схему с каким-то природным явлением или сексуальным феноменом мы вряд ли сможем. Кстати, сказка «Колобок» (и её аналоги в европейской традиции) демонстрируют нам, что проглоченный совсем не обязательно выходит наружу живым.
«Приключения барона Мюнхгаузена». В XVIII веке немецкий писатель Э. Распэ обработал рассказы остроумного барона и издал их. Впоследствии к ним были присоединены фантастические рассказы других писателей. «Приключения барона Мюнхгаузена» (1781-1785) обрели всеевропейскую известность, стали, по сути, фольклором. Неудивительно поэтому, что в них мы встречаем библейский мотив проглатывания человека рыбой.
«Вдруг вижу – прямо на меня плывёт огромная рыба с широко разинутой пастью. Что было делать? Удрать от неё невозможно, и поэтому я съёжился в комок и ринулся в её разинутую пасть, чтобы поскорее проскользнуть мимо острых зубов и сразу очутиться в желудке».
Однако освобождается Мюнхгаузен не библейским путём (молитвы, милость), а на манер «Красной Шапочки»: «Моряки убили её гарпуном, а потом втащили к себе на палубу... Я боялся, как бы эти люди не разрубили и меня с рыбой... Но, к счастью, их топоры не задели меня. Едва только блеснул первый свет, я стал кричать... Услышав человеческий голос из рыбьего брюха, матросы застыли от ужаса. Их изумление возросло ещё больше, когда из рыбьей пасти выскочил я и приветствовал их любезным поклоном».
Глава «В желудке у рыбы», только что процитированная, не единственная, где речь идёт об архетипическом мотиве «выхода проглоченного наружу». Далее Мюнхгаузен сообщает о случае, описанном в главе «Корабли, проглоченные рыбой»:
«...Мы долго блуждали по незнакомым морям. Наш корабль то и дело окружали... морские чудовища. Наконец, мы наткнулись на рыбу, которая была так велика, что, стоя возле её головы, мы не могли увидеть её хвоста. Когда рыба захотела пить, она распахнула пасть, и вода потекла в сё глотку, таща за собой наш корабль... …В животе у рыбы оказалось тихо, как в гавани. Весь рыбий живот был набит кораблями, давно уже проглоченными жадным чудовищем». Далее по совету Мюнхгаузена «двести самых дюжих матросов установили во рту у чудовища две высочайшие мачты, и оно не смогло закрыть рот». «Корабли весело выплыли из брюха в открытое море. Оказалось, что в брюхе этой громадины было семьдесят пять кораблей» [3].
Конёк-горбунок». Своеобразное истолкование архетипа «проглоченный выходит наружу» мы видим в сказке Петра Ершова «Конёк-Горбунок» (1834). В ней акцент делается на страдания самого «глотателя». Они насылаются на кита в отмщение за то, что он проглотил множество кораблей. Кит выпускает корабли и избавляется от страданий.
«Пиноккио». В сказке Карло Коллоди «Приключения Пиноккио» (1880) есть глава 34, где деревянного человечка съедает Акула:
«Чудовище схватило его. Оно втянуло в себя воду – почти так, как втягивают куриное яйцо, – и сглотнуло бедного Деревянного Человечка... Сперва Пиноккио бодрился. Но, когда он окончательно убедился, что заключён в теле чудовища, он начал плакать и жаловаться…» [4].
Глава 35 повествует о том, что Пиноккио встречается в желудке километровой рыбы с Джеппетто, своим «отцом», который вот уже два года как проглочен той же Акулой. С большим трудом они выбираются из пасти Акулы и с помощью Тунца добираются до берега. В этой книге пребывание в желудке Чудовища становится точкой оконча
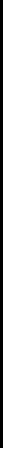 тельного «перевоспитания» Пиноккио, и в последней 36 главе Деревянный Человечек превращается в настоящего мальчика. Очевидно, что пребывание Пиноккио в желудке Акулы сравнимо с пребыванием Ионы в чреве Морского Чудовища. В обоих случаях пребывание в чреве способствует усиленной рефлексии проглоченного и «преображает» его.
тельного «перевоспитания» Пиноккио, и в последней 36 главе Деревянный Человечек превращается в настоящего мальчика. Очевидно, что пребывание Пиноккио в желудке Акулы сравнимо с пребыванием Ионы в чреве Морского Чудовища. В обоих случаях пребывание в чреве способствует усиленной рефлексии проглоченного и «преображает» его.«Крокодил». У Корнея Чуковского главным глотателем выступает Крокодил. Не всегда проглоченное им возвращается: «И мочалку словно галку, словно галку проглотил» («Мойдодыр»); «Ах, те, что ты выслал на прошлой наделе, мы давно уже съели...» («Телефон»).
Но вот уже в «Краденом солнце» Крокодил проглатывает солнце, а Медведь заставляет это солнце отпустить. Здесь мы видим прямую реализацию солярной версии архетипа (сравни с «Красной Шапочкой»: в обоих случаях происшедшее может интерпретироваться в терминах солнечного затмения).
В сказке «Крокодил» главный персонаж глотает барбоса, затем городового. Но вмешательство Вани Васильчикова возвращает их «в мир» невредимыми: «И вот живой Городовой / Явился вмиг перед толпой: / Утроба Крокодила / Ему не повредила».
В очередной раз мотив проглатывания появляется в сказке «Бармалей». Крокодил проглатывает Бармалея: «Добрый доктор Айболит / Крокодилу говорит: / “Ну, пожалуйста, скорее / Проглотите Бармалея, / Чтобы жадный Бармалей / Не хватал бы, / Не глотал бы / Этих маленьких детей!” / Повернулся, улыбнулся, засмеялся Крокодил / И злодея, Бармалея, словно муху проглотил». (Далее события развиваются по типу Ионы): «Рыдает, плачет Бармалей: / “О, я буду добрей, полюблю я детей! / Не губите меня, пощадите меня!”». С согласия детей «Крокодил головою кивает, / Широкую пасть разевает, / И оттуда, улыбаясь, вылезает Бармалей». Как все помнят, Бармалей волшебным образом становится добрым. Это вызывает недоумение, однако – стоит только вспомнить о том, что мы имеем дело с вариантом архетипа – в данном случае в версии Ионы, – и всё станет объяснимым и понятным.
Кстати, у Чуковского вообще очень много глотаний: «Принесите-ка мне, звери, ваших детишек, / Я сегодня их за ужином скушаю!» («Тараканище»), «Волки от испуга скушали друг друга», «Бедный Крокодил жабу проглотил» и т. д...
Станислав Рассадин, подробно анализируя «маски» Крокодила в различных сказках Чуковского, рассматривает его как фольклорную фигуру: «...разбойник Бармалей..., побывав в брюхе Крокодила, вышел из него преображённым, словно Иванушка-дурачок из котла с волшебной водой, – добрым и милым» [5].
Подведем итоги. Обнаружение мотива «проглоченный выходит наружу» в мифологическо-религиозных, фольклорных и литературных текстах позволило нам сделать вывод о том, что данный мотив является архетипическим.
Архетипический характер схемы «выход проглоченного наружу» подтверждается и тем, что в разных смысловых конструкциях он получает совершенно различное толкование – от экзистенциального до сексуального, от солярного до авантюрного.
Мы не считаем высказанные в тексте заметки суждения окончательными, а приведённые примеры исчерпывающими [6] и доказательными. Мы приветствуем всех, кто, обратившись к данной теме, углубит или опровергнет наши построения.
Источники
1. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. – Л., 1946. – С. 205-222; Мифы народов мира. Том первый. – М., 1994. – С. 555.
2. Фромм Э. Душа человека. – М., 1992. – С. 287. Э. Фромм исследует не обработанную для детей сказку, а текст, известный по сказкам братьев Гримм (см. Братья Гримм. Сказки. В 2-х книгах. – М., 1949).
3. Распэ Э. Приключения барона Мюнхгаузена. / Пересказал для детей К. Чуковский. – Л. Детская литература, 1981. – С. 68–69, 103–104.
4. Коллоди К. Приключения Пиноккио. – Казань. 1985. – С. 132–146.
5. Рассадин Ст. Так начинают жить стихом. – М.: Детская литература, 1957. – С. 39. См. также страницы 35–42.
6. За пределами статьи остался прозаический опыт Ф.М. Достоевского «Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в пассаже, – справедливая повесть о том, как один господин, известных лет и известной наружности, пассажным крокодилом был проглочен живьем, весь без остатка, и что из этого вышло» (1865).
В рассказе Н. Носова «Фантазеры» читаем: «“Ну, это что! – сказал он. – Вот я раз был в Африке, и меня там крокодил съел!” “Почему же ты теперь живой?” “Так он же меня потом выплюнул”»…
«Архетип». 1996.
«Тварь выходит из-под контроля»
как архетип культуры
Целью нашей заметки является прочерчивание архетипа «твари, выходящей из-под контроля» в текстах культуры.
Как представляется, своё начало в европейской культуре этот архетип ведёт от ветхозаветного предания о создании Адама. Суть предания заключается именно в артикуляции идеи неизбежности выхода всякого создания из-под контроля творца.
Следующим по времени проявляется архетипа «непослушной твари» является предание о Големе, великане, оживляемом магическими средствами. «Вырываясь из-под контроля человека, являет слепое своеволие (может растоптать своего создателя и т. п.)» [1].
«Старый каббалист, по легенде, оживил своего глиняного монстра, вставив ему в зубы магическую пентраграмму... Голем с пентаграммой в зубах активно пошёл в рост. По легенде, старый еврей не успел вынуть знак у него изо рта, но потом уговорил Голема нагнуться и выхватил пентаграмму. Монстр тут же потерял силу и обрушился на каббалиста, похоронив его под собой» [2].
Автор энциклопедической статьи о Големе отмечает связь образа Голема с «общечеловеческой мечтой о “роботах” – живых послушных вещах (сравни образ изваянных из золота прислужниц у Гефеста у Гомера в Илиаде» [3]. Прибавим к этому, что практически все сколько-нибудь развитые сюжеты, в которых действуют роботы, посвящены выходу роботов из-под контроля (сошлёмся на кинематографическую советскую версию – «Отроки во Вселенной»). Однако вернёмся к европейской традиции. Автор статьи о Големе указывает на сюжет об ученике чародея, зафиксированный в «Любителе лжи» Лукиана и использованный Гёте. «К образу Голема, – пишет далее С. Аверинцев, – обращались многие романтики – А. фон Арним (“Изабелла Египетская”), Э.Т.А. Гофман (“Тайны”) и др.; тема бунта искусственного создания против своего творца нашла воплощение в философском романе Шелли М. “Франкенштейн”. Наиболее значительное из произведений европейской литературы XX века на этот сюжет – роман Г. Мейринка “Голем”. В пьесе К. Чапка “Р.У.Р.” и опере Э.д’Альбера “Голем” восставшие против людей искусственные существа обретают человечность, познав любовь» [4].
Итак, с помощью энциклопедии мы вкратце получили представление о том, как представлен архетип Голема – выходящей из-под контроля творца твари Нам же интересно проследить, в каких ещё текстах культуры мы встречаемся с тем же самым архетипом.
Колобок. Кто не знает этой сказки? Казалось бы, совершенно бессмысленная, она всё же является самой известной русской сказкой. Её назовут раньше «Курочки Рябы» и «Теремка». А ведь сущность её – щекотание таящегося на дне сознания каждого человека архетипа выходящей из-под контроля твари. И действительно. Колобок, как и Адам, и как Голем, творится из праха (глины) – «по сусекам поскреби, по амбарам помети». Как Адам, нарушающий программу создателя, как Голем, выходящий из-под контроля творца, Колобок выходит из-под контроля создателей и с гордостью провозглашает это при каждой своей встрече: «Я от бабушки ушёл, я oт дедушки ушёл!»
Не сказывается ли в многовековой любви к этой странной во многих отношениях сказке некий подспудный комплекс страха и вины? Ведь каждый человек – потомок вышедшего из-под контроля Адама. И если Адама «всего лишь» изгоняют из Эдема, то его архетипического брата – Колобка – просто съедают... Впрочем, ведь и бабка с дедом собирались его съесть.
Снегурочка. Сюжет о Снегурочке менее распространён и более известен по опере Н. Римского-Корсакова, написанной по сказке А.Н. Островского. Сюжет сказки не предполагает добровольного выхода из-под контроля: напротив, дед и бабка сами досылают Снегурочку в лес с подругами, по сути, на смерть. Тем не менее, мы имеем похожий сюжет: существо, слепленное из снега, приобретает самостоятельное существование.
Дюймовочка. В сказке Г. X. Андерсена мы видим отчасти тот же сюжет: тварь-девочка (ср. Снегурочка) не сама выходит из-под контроля, её вынуждают к этому. В отличие от русской сказки о Снегурочке андерсеновская сказка заканчивается благополучно.
Упомянем ещё две русские сказки – «Липунюшка» и «Бычок смоляной бочок», где искусственно созданные существа не выходят из-под контроля.
Тарас Бульба и Андрий. В повести Гоголя архетип вышедшей из-под контроля твари представлен в реалистическом, и одновременно квазиагиографическом изводе. Андрий – человеческое творение, но выходит из-под контроля: заложенная программа «не срабатывает», Андрий перепрограммируется и обращается против создателя. Создатель уничтожает собственное создание, сопровождая акт элиминации сакраментальными словами: «Я тебя породил, я тебя и убью», напоминающими чем-то магический текст укрощения Голема.
Шариков. Аналогичный сюжет воспроизведён в фантастической повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Искусственный человек выходит из-под контроля и едва не губит своего создателя. В результате профессор Преображенский вынужден уничтожить взбунтовавшегося биоробота.
Человек-амфибия. В повести А. Беляева мы вновь встречаемся с архетипом «непослушной твари». Столкнувшись с жестоким миром, Искандер вынужден подчиниться требованиям создателя-отца.
Буратино. Пиноккио. Классический пример биоробота, вышедшего из-под контроля. Сюжет классический: создание – выход из-под контроля – возвращение в лоно (превращение в человека). В данном сюжете архетип «выхода из-под контроля» напоминает инициальный сюжет: лишь выйдя из-под контроля, можно стать настоящим человеком, можно из потенциального шарманщика-побирушки стать собственником театра, артистом, героем.
«Петрушка» 1960-х годов. В книге М. Фадеевой и А. Смирновой «Приключения Петрушки» речь идёт о том, как мастер Трофим шьёт себе сына Петрушку. Если мастер подчинён царю Фармалаю, то сшитый им Петрушка «выходит из-под контроля» и совершает в конечном итоге революцию в кукольной стране.
Деревянные солдаты Урфина Джюса. В сказке А. Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты» (как представляется, данный сюжет у Л.Ф. Баума отсутствует) встречаются элементы выхода из-под контроля в процессе оживления предметов (шкура медведя бежит за Урфином, клоун кусает его за палец).
Карандаш и Самоделкин. В одной из повестей Ю. и В. Постниковых Карандаш в болезненном бреду рисует отрицательных персонажей (в частности, Пирата), которые оживают и причиняют немало неприятностей героям.
Электроник. Повесть Е. Велтистова об Электронике базируется на архетипе вышедшей из-под контроля твари – ближайшим предшественником Электроника является Буратино, скорее даже Пиноккио, ибо в конечном итоге Электроник становится настоящим мальчиком, человеком, как и Пиноккио.
Картофельный человечек. В книге Владимира Лифшица «Ищи ветра в поле» есть пьеса «Картофельный человечек». В известной степени создание ребят, Картофельный Человечек действует не по программе, но не вредит, а помогает детям.
Завершим наш обзор вышедших из-под контроля тварей указанием на феномен отчуждения – превращения деятельности человека и её результатов в самостоятельную силу, господствующую над ним и враждебную ему. Традиция философского исследования отчуждения идёт от Гоббса и Руссо через Гегеля и Фейербаха к Марксу (феномен «превращенной формы» и т. д.).
Мы обозначили перечень значимых для русской культуры (куда включается и детская литература) текстов, в которых можно проследить присутствие архетипа вышедшей из-под контроля твари. Осознание архетипической природы внешне различных сюжетов позволяет более глубоко проникнуть в подтекст литературного или фольклорного произведения.
Источники
1. Аверинцев А.А. Голлем. // Мифы народов мира. Энциклопедия. Том 1. – М., 1994. – С. 308, 309.
2. Фролова В. Маяковский и слово // Независимая газета. 1995, 7 октября.
3. Авериицев А.А. Голем...
4. Там же. Аналогичная статья содержится в «Мифологическом словаре» (М., 1991).
«Архетип». 1996.
