Региональный конкурс исследовательских
| Вид материала | Конкурс |
- Конкурс учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ учащихся. Мбу «Управление, 299.71kb.
- Конкурс исследовательских работ учащихся и студентов Вологодской области «Юность, наука,, 316.52kb.
- Конкурс исследовательских и проектных работ «Энергия будущих поколений», 24.84kb.
- Региональный конкурс учебно-исследовательских экологических проектов школьников 2011, 103.07kb.
- Конкурс проводился в два этапа: 1 этап муниципальный в январе; 2 этап региональный, 41.4kb.
- Весенней Недели Моды. Впрограмме данного мероприятия: региональный конкурс, 110.28kb.
- Михаил Васильевич Ломоносов конкурс исследовательских работ и творческих проектов младших, 85.19kb.
- Детский конкурс творческих и научно-исследовательских работ, посвященный первому полету, 313.44kb.
- Конкурс исследовательских работ старшеклассников «Человек и война. Цена Победы», 227.77kb.
- Конкурс исследовательских работ старшеклассников «Человек и война. Цена Победы», 253.63kb.
Региональный конкурс исследовательских
р

абот учащихся


«КОМУ ПОВЕМ ПЕЧАЛЬ МОЮ?..»
(Опыт прочтения рассказа А.П. Чехова «Тоска»)
эссе
Чвановой Анастасии
Научный руководитель
Какшина И. Е.
МОУ лицей № 17 г. Владимир
Контактная информация:
телефон 33-78-98
e-mail: projeсt_i_mechta@mail.ru
«
 Кому повем печаль мою?..» - уже тысячелетия раздаётся в духовных песнопениях горький плач Иосифа Прекрасного, проданного родными братьями в рабство. «Кому повем?..» - словно эхо, откликаются эти стихотворные строчки в эпиграфе одного из самых грустных рассказов Антона Павловича Чехова «Тоска». Казалось бы, времена меняются, жизнь человеческая становится комфортней, круг общения в XXI веке – шире, а проблема одиночества, равнодушия, непонимания всё та же. Это в радости мы счастливы, даже оставаясь один на один с собою. А вот в несчастье ищем хоть кого-нибудь, кто разделил бы с нами эту непосильную ношу. Только находим ли?
Кому повем печаль мою?..» - уже тысячелетия раздаётся в духовных песнопениях горький плач Иосифа Прекрасного, проданного родными братьями в рабство. «Кому повем?..» - словно эхо, откликаются эти стихотворные строчки в эпиграфе одного из самых грустных рассказов Антона Павловича Чехова «Тоска». Казалось бы, времена меняются, жизнь человеческая становится комфортней, круг общения в XXI веке – шире, а проблема одиночества, равнодушия, непонимания всё та же. Это в радости мы счастливы, даже оставаясь один на один с собою. А вот в несчастье ищем хоть кого-нибудь, кто разделил бы с нами эту непосильную ношу. Только находим ли? В январе 1886 года вышел в свет рассказ А.П. Чехова «Тоска». Буквально за месяц перед этим событием молодой писатель впервые побывал в Петербурге. Столица ошеломила его. «Сколько впечатлений, что голове впору разорваться», - жаловался он в одном из писем. Вероятно, самое сильное возникло тогда, когда он бродил среди городской толчеи, а случайно мелькнувшая уличная сценка или невольно подслушанный чей-то разговор затронул душу и пробудил писательскую фантазию. Так родился ещё один петербургский рассказ.
В январе 1886 года вышел в свет рассказ А.П. Чехова «Тоска». Буквально за месяц перед этим событием молодой писатель впервые побывал в Петербурге. Столица ошеломила его. «Сколько впечатлений, что голове впору разорваться», - жаловался он в одном из писем. Вероятно, самое сильное возникло тогда, когда он бродил среди городской толчеи, а случайно мелькнувшая уличная сценка или невольно подслушанный чей-то разговор затронул душу и пробудил писательскую фантазию. Так родился ещё один петербургский рассказ.«
Молодой Чехов
Кому повем печаль мою?..» Чехов крайне редко использовал эпиграфы к своим произведениям, а, стало быть, в данном случае строчки духовного стиха должны были, по замыслу писателя, сыграть особую роль. Ключевым, безусловно, в этой фразе является слово «печаль». Вместе с синонимичным по смыслу заголовком рассказа «Тоска» эпиграф задаёт особую минорную тональность всему тексту произведения. Это тонко рассчитанный Антоном Павловичем психологический приём. Умный читатель не только погружается в атмосферу повествования, но и замечает в нём несоответствия петербургской жизни, подобные тем, какие описаны в повестях и романах Ф.М. Достоевского или ещё раньше – в лирике А.С. Пушкина:
Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелёно-бледный,
Скука, холод и гранит…
1828г. Город пышный, город бедный…
О

Вечерние сумерки.
дно из несоответствий в чеховском рассказе ощущается в описании одномоментно существующих на фоне чудного зимнего вечера противоположных миров. «Вечерние сумерки. Крупный, мокрый снег лениво кружится около только что зажжённых фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки.» Это единый мир. Но его умиротворённость нарушается «неугомонным треском», «бегущими людьми» и превращается в тот самый «омут, полный чудовищных огней», в который волею судеб заброшен главный герой, оторванный «от плуга, от привычных, серых картин» - от крестьянского мира с особым мировоззрением и укладом. В этой чуждой Ионе мишуре городской жизни, он («бел, как привидение) со своей лошадёнкой («похожей на пряничную») скорей напоминают каких-то сказочных, чем реальных персонажей. Только почему так склонился Иона Потапов, «насколько … возможно согнуться живому телу»? Какой непосильный груз придавил старика? Из дальнейшего повествования узнаём о страшном горе извозчика – безвременной смерти сына. Может быть, на родине, в привычном мире, горе среди родных и близких переносилось бы легче. Но здесь, среди множества чуждых людей, Потапов никак не может совладать с собой. Исполняя, казалось бы, обычное занятие – извоз – «Иона ёрзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь». Попытка объяснить своё состояние, излить горе заканчивается неудачей. «Иона кривит улыбкой рот, напрягает своё горло и сипит…» Но общения, понимания нет. Подобная ситуация в «Тоске» повторяется четырежды. Благодаря такому композиционному приёму тема рассказа проясняется: одиночество человека среди толпы, отсутствие отклика на чужую боль, невнимание к жаждущей излить себя душе. Но вот что примечательно. Те герои, которые отмахнулись от общения с Потаповым, изображены нейтрально, отнюдь не как примеры душевной чёрствости и эгоизма. У каждого из них на тот момент, когда Иона пытается рассказать о тоске, свой интерес, свои обязанности, потому и горе извозчика остаётся незамеченным и неуслышанным. И только от внимательного читателя не ускользает гиперболистических размеров («громадная, не знающая границ») тоска героя. «Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдётся ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски…» Парадокс? Да. Но ещё удивительнее то, как метафорически А.П. Чехов изобразил вместилище этого самого горя – душу. «Лопни грудь Ионы и в
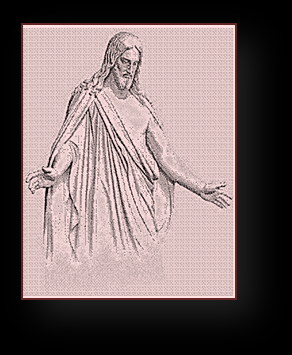 ылейся из неё тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но, тем не менее, её не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что её не увидишь днём с огнём…» Тоска представлена писателем в виде некой жидкости, способной «увеличиваться» в о
ылейся из неё тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но, тем не менее, её не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что её не увидишь днём с огнём…» Тоска представлена писателем в виде некой жидкости, способной «увеличиваться» в о Сострадание
бъёме, «заполнять» собой весь мир, «выливаться» за пределы вместилища, чтобы «перелиться» в другой «сосуд». Только в данном случае нет иной «ёмкости», а значит, нет и со-общения, со-страдания, со-чувствия; нет со-единения душ. Слишком они мелки и ничтожны! Где уж им до понимания друг друга!
Лёгкая чеховская усмешка над Ионой, не умеющим правильно понять и объяснить причин своей тоски («И на овёс не выездил…Оттого-то вот и тоска»), - это ирония чудесным образом не отдаляет, а делает ещё более близким героя читателю. «Когда изображаете горемык, и бесталанных и хотите разжалобить читателя, то старайтесь быть холоднее – это даёт чужому горю как бы фон, на котором оно вырисуется рельефнее. А то у Вас и герои плачут, и Вы вздыхаете. Да, будьте холодны». Такая откровенность Антона Павловича кого угодно приведёт в недоумение. Но это одна из художественных тайн, которой владел Чехов, придавая неповторимое своеобразие своим произведениям.
Лишь однажды писатель несколько было возвысил Потапова. «Двугривенный цена не сходная, но ему не до цены… Что рубль, что пятак – для него теперь всё равно, были бы только седоки…» Казалось бы, для героя меняются ценности: общение куда важнее денег. Но дальнейшая попытка извозчика сблизиться с людьми («Гы-ы…гы-ы… - хохочет Иона… - Гы-ы! - ухмыляется Иона. – Ве-есёлые господа!») заканчивается неудачей, а сам он остаётся всё таким же приземлённым, одиноким. «Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в тёмном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина…»
Т
 о, что случилось с извозчиком Ионой, в чеховском мире будет происходить со всяким человеком. В других произведениях писателя самые разные герои вместо ожидаемого отклика на своё чувство будут встречать непонимание, невнимание, равнодушие людей. В связи с этим в рассказе «Тоска» отмечается ещё одно несоответствие: Ионе удаётся найти собеседника. Им станет его лошадь. Ей он поведает нехитрый рассказ о смерти сына. «Лошадёнка жуёт, слушает и дышит на руки своего хозяина. Иона увлекается и рассказывает ей всё».
о, что случилось с извозчиком Ионой, в чеховском мире будет происходить со всяким человеком. В других произведениях писателя самые разные герои вместо ожидаемого отклика на своё чувство будут встречать непонимание, невнимание, равнодушие людей. В связи с этим в рассказе «Тоска» отмечается ещё одно несоответствие: Ионе удаётся найти собеседника. Им станет его лошадь. Ей он поведает нехитрый рассказ о смерти сына. «Лошадёнка жуёт, слушает и дышит на руки своего хозяина. Иона увлекается и рассказывает ей всё».Будет ли для кого открытием, что А.П. Чехов именам своих героев придавал особое значение. Имя Иона древнееврейское. Йона переводится как голубь: птица-посланник. У ветхозаветного пророка Ионы своя История. Он послан был Богом с проповедью покаяния и назидания. А чеховский Иона? Параллель напрашивается сама по себе. Иона, сын Потапов, не родился пророком. Но в рассказе Антона Павловича Чехова он выполняет свою очень важную роль: так или иначе несёт людям мира, погрязшим в суете эгоизма, обличение, упрёк уснувшей совести, призыв о сочувствии и сострадании.
