Философское Наследие антология мировой философии в четырех томах том 4
| Вид материала | Документы |
- Антология мировой философии в четырех томах том, 13429.06kb.
- Антология мировой философии: Античность, 10550.63kb.
- Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах:, 241.84kb.
- Книга первая (А), 8161.89kb.
- Аристотель. Сочинения в 4 томах. Т м.: Мысль, 1978. 687с. (Философское наследие)., 712.08kb.
- Собрание сочинений в четырех томах ~Том Стихотворения. Рассказы, 42.25kb.
- Собрание сочинений в четырех томах. Том М., Правда, 1981 г. Ocr бычков, 4951.49kb.
- Книга вторая, 1589.39kb.
- Джордж Гордон Байрон. Корсар, 677.55kb.
- Антология мировой детской литературы., 509.42kb.
Письмо второе
Эти рабы, которые вам прислуживают, разве не они составляют окружающий вас воздух? Эти борозды, которые в поте лица взрыли другие рабы, разве это не та почва, которая вас носит? И сколько различных сторон, сколько ужасов заключает в себе одно слово: раб! Вот заколдованный круг, в нем все мы гибнем, бессильные выйти из него (2, стр. 23).
Письмо третье
Рассматривая религиозный вопрос в свете чистого умозрения, мы религией лишь завершаем вопрос философский. К тому ж, как бы ни была сильна вера, разум должен уметь опираться на силы, заключающиеся в нем самом (2, стр. 30).
С синтеза и начал человеческий разум и именно синтез есть отличительная черта науки древних. Но как ни естествен синтез, как он ни законен, и часто даже более законен, чем анализ, несомненно, все же к наиболее деятельным проявлениям мысли принадлежат именно процессы подчинения, анализа (2, стр. 32).
ПРОКЛАМАЦИЯ
[...] Братья любезные, братья горемычные, люди русские, православные, дошла ли до вас весточка, весточка громогласная, что народы выступили, народы крестьянские взволновались, всколебались, аки волны океана-моря, моря синего! Дошел ли до вас слух из земель далеких, что братья ваши разных племен на своих царей-государей поднялись все, восстали все до одного человека! Не хотим, говорят, своих царей, государей, не хотим их слушаться. Долго они нас угнетали, порабощали, часто горькую чашу испивать заставляли. Не хотим царя другого, окромя царя небесного (2, стр. 680).
АКСАКОВ
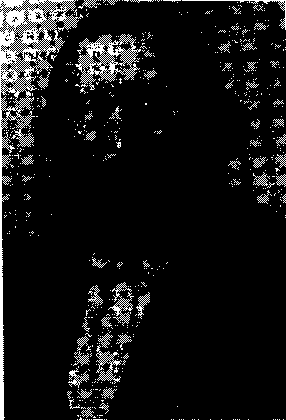
Константин Сергеевич Аксаков (1817—1860) — русский фило~ соф-идеалист, идеолог славянофильства, социолог и публицист. Родился в дворянской семье, получил образование в Московском университете, где входил в кружок Белинского и Станкевича (впоследствии, в 40-х годах, он резко расходится с революционным демократом Белинским). Увлекался учением Гегеля. В 1835 г. окончил университет кандидатом, позже сотрудничал в «Телескопе», «Молве», «Московском наблюдателе», «Москвитянине» и других периодических изданиях. Писал и публиковал стихотворения и драмы. В 1848 г. защитил магистерскую (по русской словесности) диссертацию: «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка». Но главной стороной научной деятельности Аксакова была история и социология.
Свои взгляды на прошлое, настоящее и будущее России и ее народа Аксаков изложил в рецензиях на I, VI, VII, VIII тома «Истории России» С. Соловьева, в трудах «О древнем быте славян вообще и русских в частности/», «Краткий исторический очерк земских соборов», «О состоянии крестьян в древней России», записка «О внутреннем состоянии России» (1855) и др. В них Аксаков развил свою теорию об особых путях развития России, специфике ее государ* ства и его взаимоотношений с народом, с Западной Европой, об
107
особой роли православия. Аксаков собрал некоторые Ценные исто~ рические материалы, но его историко-социологическая концепция была реакционной.
Фрагменты из произведений К. С. Аксакова подобраны автором данного вступительного текста В. В. Вогатовым по изданиям: 1) «Ранние славянофилы», V вып. «Историко-литературной библиотеки». М., 1910; 2) К. С. Аксаков. πολη. собр. соч., т. I. М., 1861.
О ВНУТРЕННЕМ СОСТОЯНИИ РОССИИ
[...] Первый явственный до очевидности вывод из истории и свойства русского народа есть тот, что это народ негосударственный, не ищущий участия в правлении, не желающий условиями ограничивать правительственную власть, не имеющий, одним словом, в себе никакого политического элемента, следовательно, не содержащий в себе даже зерна революции или устройства конституционного. [...]
Еще до христианства, готовый к его принятию, предчувствуя его великие истины, народ наш образовал в себе жизнь общины, освященную потом принятием христианства. Отделив от себя правление государственное, народ русский оставил себе общественную жизнь и поручил государству давать ему (народу) возможность жить этою общественною жизнию. Не желая править, народ наш желает жить, разумеется, не в одном животном смысле, а в смысле человеческом. Не ища свободы политической, он ищет свободы нравственной, свободы духа, свободы общественной — народной жизни внутри себя. [...]
Итак, русский народ, отделив от себя государственный элемент, предоставив полную государственную власть правительству, предоставил себе жизнь, свободу нравственно-общественную, высокая цель которой есть общество христианское.
Хотя слова эти не требуют доказательств, — ибо здесь достаточно одного пристального взгляда на русскую историю и на современный русский народ, — однако можно указать на некоторые особенно ярко выдающиеся черты. Такою чертою может служить древнее разделение всей России, в понимании русского человека, на государство и землю (правительство и народ), и оттуда явившееся выражение: государево и земское дело. Под государевым делом разумелось все дело управления государственного,
108
и внешнего и внутреннего, и по преимуществу дело военное, как самое яркое выражение государственной силы. [...] (1, стр. 72—74).
Вне народа, вне общественной жизни может быть только лицо (individo). Одно только лицо может быть неограниченным правительством, только лицо освобождает народ от всякого вмешательства в правительство. Поэтому здесь необходим государь, монарх. Только власть монарха есть власть неограниченная. Только при неограниченной власти монархический народ может отделить от себя государство и избавить себя от всякого участия в правительстве, от всякого политического значения, предоставив себе жизнь нравственно-общественную и стремление к духовной свободе. Такое монархическое правительство и поставил себе народ русский.
Сей взгляд русского человека есть взгляд человека свободного. Признавая государственную неограниченную власть, он удерживает за собою свою совершенную независимость духа, совести, мысли (1, стр. 77—78).
Итак, первое отношение между правительством и народом есть отношение взаимного невмешательства. Но такое отношение (отрицательное) еще не полно; оно должно быть дополнено отношением положительным между государством и землею. Положительная обязанность государства относительно народа есть защита и охранение жизни народа, есть внешнее его обеспечение, доставление ему всех способов и средств, да процветает его благосостояние, да выразит оно все свое значение и исполнит свое нравственное призвание на земле, f...] Общественное мнение — вот чем самостоятельно может и должен служить народ своему правительству, и вот та живая, нравственная и нисколько не политическая связь, которая может и должна быть между народом и правительством (1, стр. 80—81).
Петр, скажут, возвеличил Россию. Точно, он много придал ей внешнего величия, но внутреннюю ее целость он поразил растлением; он внес в ее жизнь семена разрушения, вражды. Да и все внешние славные дела совершил он и преемники его силами той России, которая возрастала и окрепла на древней почве, на других началах. Доселе солдаты наши берутся из народа, доселе еще не вовсе исчезли русские начала и в преобразованных русских людях, подверженных иностранному влиянию.
109 '
Итак, петровское государство побеждает с силами еще допетровской России; но силы эти слабеют, ибо петровское влияние растет в народе, несмотря на то что правительство стало говорить о русской национальности и даже требовать ее. Но для того чтобы благое слово обратилось в благое дело, нужно понять дух России и стать на русские начала, отвергнутые со времени Петра. Внешнее величие России при императорах точно блестяще, но внешнее величие тогда прочно, когда истекает из внутреннего. Нужно, чтоб источник был не засорен и не оскудевал. — Да и какой внешний блеск может вознаградить за внутреннее благо, за внутреннюю стройность? Какое внешнее непрочное величие и внешняя ненадежная сила могут сравниться с внутренним прочным величием, с внутреннею надежною силою? Внешняя сила может существовать, пока еще внутренняя, хотя и подрываемая, не исчезла. Если внутренность дерева вся истлела, то наружная кора, как бы ни была крепка и толста, не устоит, и при первом ветре дерево рухнет, ко всеобщему изумлению. Россия держится долго потому, что еще не исчезла ее внутренняя долговечная сила, постоянно ослабляемая и уничтожаемая; потому, что еще не исчезла в ней допетровская Россия. Итак, внутреннее величие — вот что должно быть первою главною целью народа и, конечно, правительства. [...]
Современное состояние России представляет внутренний разлад, прикрываемый бессовестною ложью. Правительство, а с ним и верхние классы, отдалилось от народа и стало ему чужим. И народы и правительство стоят теперь на разных путях, на разных началах. Не только не спрашивается мнения народа, но всякий частный человек опасается говорить свое мнение. Народ не имеет доверенности к правительству; правительство не имеет доверенности к народу. Народ в каждом действии правительства готов видеть новое угнетение; правительство постоянно опасается революции и в каждом самостоятельном выражении мнения готово видеть бунт [...]. Правительство и народ не понимают друг друга, и отношения их не дружественны. И на этом-то внутреннем разладе, как дурная трава, выросла непомерная, бессовестная лесть, уверяющая во всеобщем благоденствии, обращающая почтение к царю в идолопоклонство, воздающая eMyj как идолу, божескую честь, [...]
110
Но доведение людей до животного состояния не может быть сознательною целью правительства. Да и дойти до состояния животных люди не могут; но в них может быть уничтожено человеческое достоинство, может отупеть ум, огрубеть чувство, и, следовательно, человек приблизится к скоту. К тому ведет по крайней мере система угнетения в человеке самобытности жизни общественной, мысли, слова. Такая система, пагубно действуя на ум, на дарования, на все нравственные силы, на нравственное достоинство человека, порождает внутреннее неудовольствие и уныние. Та же угнетательная правительственная система из государя делает идола, которому приносятся в жертву все нравственные убеждения и силы (1, стр. 88—91).
Давая свободу жизни и свободу духа стране, правительство дает свободу общественному мнению. Как же может выразиться общественная мысль? Словом устным и письменным. Следовательно,, необходимо снять гнет с устного и письменного слова. Пусть государство возвратит земле ей принадлежащее: мысль и слово, — и тогда земля возвратит правительству то, что ему принадлежит: свою доверенность и силу.
Человек создан от бога существом разумным и говорящим. Деятельность разумной мысли, духовная свобода есть призвание человека. Свобода духа более всего и достойнее всего выражается в свободе слова. Поэтому свобода слова — вот неотъемлемое право человека. [...]
Есть в России отдельные внутренние язвы, требующие особых усилий для исцеления. Таковы раскол, крепостное состояние, взяточничество. Я не предлагаю здесь о том своих мыслей, ибо это не было моею целью при сочинении этой записки. Я указываю здесь на самые основы внутреннего состояния России, на то, что составляет главный вопрос и имеет важнейшее общее действие на всю Россию. Скажу только, что истинные отношения, в которые станет государство к земле, что общественное мнение, которому дается ход, оживя весь организм России, подействует целительно и на эти язвы, в особенности же на взяточничество, для которого так страшна гласность общественного мнения. Сверх того, общественное мнение может указать на средства против зол народных и государственных, как и против всяких зол,
•111
Да восстановится древний союз правительства с народом, государства с землею на прочном основании истинных коренных русских начал!
Правительству — неограниченная свобода правления, исключительно ему принадлежащая, народу — полная свобода жизни и внешней и внутренней, которую охраняет правительство. Правительству — право действия и, следовательно, закона; народу — право мнения и, следо-. вательно, слова.
Вот русское гражданское устройство! Вот единое истинное гражданское устройство! (1, стр. 95—96).
ОБ ОСНОВНЫХ НАЧАЛАХ РУССКОЙ ИСТОРИИ
Нравственный подвиг жизни принадлежит не только каждому человеку, но и народам, и каждый человек и каждый народ решает его по-своему, выбирая для совершения его тот или иной путь. [...]
История представляет нам сии многоразличные пути, сии многотрудные борьбы противоречащих стремлений, верований, убеждений нравственных. Страшная игра материальных сил поражает с первого взгляда; но это один призрак: внимательный взор увидит одну только силу, движущую всем, мысль, которая всюду присутствует, но которая медленно совершает ход свой; часто готовая перерядиться в новый образ, она сообщает еще могущество свое образу прежнему, хранит его, пока вполне не созреет и с полным правом не явится в новом сиянии, пересоздав все в новый образ. Избавиться от мысли люди не могут: они могут загромоздить ее материальными внешними силами, могут поставить на поприще насилия; но, обремененная недостойною себя громадою, она тем не менее движет ее, и тогда страшно столкновение грубых масс, прильнувших к этой духовной силе: страшно разбиваются и разрушаются они друг об друга (2, стр. 1—2).
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О РУССКОЙ ИСТОРИИ, ВОЗБУЖДЕННЫХ ИСТОРИЕК) г. СОЛОВЬЕВА'
[...] Дело Петра как принимание (только) полезного от чужих стран не внесло ничего нового; все это делалось и до него, но свободно, постепенно и самобытно. Великое дело Петра как исключительное поклонение Западу, как исключительное отрицание всего русского, даже в языке и в одежде, как резкое насильственное,
Ш
поспешное и подражательное преобразование, другими словами, как переворот было точно дело новое, небывалое на Руси и не принадлежит к тем мирным изменениям, которые совершаются легко и неприметно; напротив, это именно переворот, и в этом отношении продолжателем Петр назваться не может. Нет, у него не было предшественников в древней Руси. Хотя переворот Петра прямо подействовал только на верхние классы, но с изменением этих классов и народ, само собою разумеется, должен был стать в особые отношения. Таким образом, переворот подействовал на всю Россию, разным образом в ней обозначась. Россия разделилась на две резкие половины: на преобразованную Петром, или верхние классы, и на Россию, оставшуюся в своем самобытном виде, оставшуюся на корню, или простой народ. Разумеется, две сии половины, между которыми разрушена связь понимания, не остаются без соприкосновения если не внутреннего, то внешнего; разумеется, одна действует на другую, и преимущества и выгоды играют здесь, конечно, большую роль (2, стр. 43—44).
ХОМЯКОВ

Алексей Степанович Хомяков (1804—1860) —русский философ-идеалист, идеолог славянофильства, видный публицист 40—50-х годов, крупный поэт. Выходец из старинного дворянского рода, получил блестящее домашнее образование, сдал экзамены на кандидата математических наук.
С 1857 г. бессменный председатель «Общества любителей Российской словесности», под его руководством «Общество» готовило издание словаря В. И. Даля, писем Карамзина и Грибоедова, сборника песен П. В. Киреевского. С конца 30-х годов занялся активной пропагандой своих философских и социологических идей, защищает православие от критики шеллингианцев, проповедует «славянскую идею». Сближается с братьями Киреевскими, с Чаадаевым, братьями Аксаковыми и др.
Герцен считал Хомякова «действительно опасным противником», «старым бретером
диалектики», отмечал его одаренность и эрудицию, применяемые для защиты ложных славянофильских воззрений. В философии Хомяков — объективный идеалист-мистик, враг рационализма,
Ш
предпринявший попытку синтеза философии и веры, веры и науки. В социологии — сторонник мессианской роли «славянского мира» и русской общины. Среди сочинений Хомякова важное место занимают работа «О современных явлениях в области философии» (1859) и «Записки о всемирной истории» — оригинальный философски-исторический труд.
Фрагменты из его произведений подобраны автором данного вступительного текста В. В. Богатовым по изданиям: 1) А. С. Хомяков. Полное собрание сочинений, изд. 2. М., т. 1, 1878; 2) Там же, т. 3. М., 1882; 3) А. С. Хомяков. Полное собрание сочинений, изд. 3, т. 2. М., 1886.
[ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ]
(....] Прежняя ошибка уже невозможна, человек не может уже понимать вечную истину первобытного христианства иначе как в ее полноте, т. е. в тождестве единства и свободы, проявляемом в законе духовной любви. Таково православие. Всякое другое понятие о христианстве отныне сделалось невозможным. Представителем же этого понятия является Восток, по преимуществу же земли славянские и во главе их наша Русь, принявшая чистое христианство издревле по благословению божьему и сделавшаяся его крепким сосудом, может быть, в силу того общинного начала, которым она жила, живет и без которого она жить не может. Она прошла через великие испытания, она отстояла свое общественное и бытовое начало в долгих и кровавых борьбах, по преимуществу же в борьбе, возведшей на престол Михаила [...], и, сперва спасшая эти начала для самой себя, она теперь должна явиться их представительницею для целого мира. Таково ее призвание, ее удел в будущем. Нам позволено глядеть вперед смело и безбоязненно (1, стр. 151 — 152).
Частное мышление может быть сильно и плодотворно только при сильном развитии мышления общего; мышление общее возможно только тогда, когда высшее знание и люди, выражающие его, связаны со всем остальным организмом общества узами свободной и разумной любви и когда умственные силы каждого отдельного лица оживляются круговращением умственных и нравственных соков в его народе. История призывает Россию стать впереди всемирного просвещения; она дает ей на это право за всесторонность, и полноту ее начал, а право, данное историей народу, есть обязанность, налагаемая на каждого из его членов (1, стр. 174).
114
[...] Ей, [Византии], не было суждено представить истории и миру образец христианского общества; но ей было дано великое дело уяснить вполне христианское учение, и она совершила этот подвиг не для себя только, но для нас, для всего человечества, для всех будущих веков. Сама империя падала все ниже и ниже, истощая свои нравственные силы в разладе общественных учреждений с нравственным законом, признаваемым всеми; но в душе лучших ее деятелей и мыслителей, в учении школ духовных, и особенно в святилище пустынь и монастырей, хранилась до конца чистота и цельность просветительного начала. В них спаслась наша будущая Русь (1, стр. 219.).
[Просвещение народов Запада развивалось быстрее оттого, что оно выросло] на почве древнеримской, неприметно пропитывавшей их началами просвещения, или в прямой от нее зависимости, и оттого, что просвещение их по односторонности своих начал могло, как я уже сказал, развиваться при многих недостатках в жизни общественной и частной; древняя же Русь имела только один источник просвещения — веру, а вера разумная далеко не обнимала земли, которой большая часть была христианскою более по наружному обряду, чем по разумному сознанию, между тем как всесовершенное начало просвещения требовало жизненной цельности для проявления своей животворящей силы (1, стр. 233—234).
Всякое общество находится в постоянном движении; иногда это движение быстро и поражает глаза даже не слишком опытного наблюдателя, иногда крайне медленно и едва уловимо самым внимательным наблюдением. Полный застой невозможен, движение необходимо; но, когда оно не есть успех, оно есть падение. Таков всеобщий закон. Правильное и успешное движение разумного общества состоит из двух разнородных, но стройных и согласных сил. Одна из них основная, коренная, принадлежащая всему составу, всей прошлой истории общества, есть сила жизни, самобытно развивающаяся из своих начал, из своих органических основ; другая, разумная сила личностей, основанная на силе общественной, живая только ее жизнею, есть сила никогда ничего не созидающая и не стремящаяся что-нибудь созидать, но постоянно присущая труду общего развития, не позволяющая ему перейти в слепоту мертвенного инстинкта или вдаваться в
115
безрассудную односторонность. Обе силы необходимы, но вторая, сознательная и рассудочная, должна быть связана живою и любящею верою с первою силою жизни и творчества. Если прервана связь веры и любви, наступают раздор и борьба (1, стр. 127—128).
Общество восстает не против формы своей, а против всей сущности, против своих внутренних законов. [...] Отжили не формы, но начала духовные, не условия общества, но вера, в которой жили общества и люди, составляющие общество. Внутреннее омертвление людей высказывается судорожными движениями общественных организмов; ибо человек — создание благородное: он не может и не должен жить без веры (1, стр. 147).
[...] Никогда не искала она, [церковь], насильственного управления над людьми, но и не могла его искать; ибо для такого управления она должна была отделиться от людей, т. е. от своих членов, от самой себя. Такое отделение церкви от человечества возможно и понятно при юридическом рационализме западных определений и совершенно невозможно при живой цельности православия. В ней учение не отделяется от жизни. Учение живет, и жизнь учит. Всякое слово добра и любви христианской исполнено жизненного начала, всякий благой пример исполнен наставления. Нигде нет разрыва, ни раздвоения. [...] Действительно, как бы ни было совершенно человеческое общество и его гражданское устройство, оно не выходит из области случайности исторической и человеческого несовершенства: оно само совершенствуется или падает, во всякое время оставаясь далеко ниже недосягаемой высоты неизменной и богоправимой церкви. Самый закон общественного развития есть уже закон явления несовершенного. Улучшение есть признание недостатка в прошедшем, а допущение улучшения в будущем есть признание неполноты в современном. Нравственное возвышение общества, свидетельствуя о возрастающей зрелости народа и государства и находя точки отправления или опоры в нравственном и умственном превосходстве законодателей и нравственных деятелей общественных, двигается постепенно и постепенно делается достоянием всех. В законе положительном государство определяет, так сказать, постоянно свою среднюю нравственную высоту, ниже которой стоят многие его члены (что доказывается преступным нарушением call®
мых мудрых законов) и выше которой стоят всегда некоторые (что доказывается последующим усовершенствованием закона). Такова причина, почему общество не может допустить слишком быстрых скачков в своем развитии. Закон, слишком низкий для него, оскорбляя его нравственность, оставляется без внимания; слишком высокий непонят и остается без исполнения. Между тем каждый христианин есть в одно и то же время гражданин обоих обществ, совершенного, небесного — церкви и несовершенного, земного — государства (1, стр. 238— 240).
[...] Революция [во Франции] была не что иное, как голое отрицание, дающее отрицательную свободу, но не вносящее никакого нового содержания, и Франция нашего времени живет займами из богатств чужой мысли [...], искажая чужие системы ложным пониманием, обобщая частное в своих поверхностных и ложных приложениях, размельчая и дробя все цельное и живое и подводя все великое под мелкий уровень рассудочного формализма (1, стр. 51).
Во-первых, человек по своему вещественному составу подчинен общим уставам земной природы, и черты, неизменно передаваемые от поколения поколению, служат основанием разделения всего человечества на несколько племен, отличных одно от другого. [...]
Во-вторых, человек приближается к жизни более истинной и достойной его определения, вступая произвольно в общество других людей. Начинается размен сил и взаимных пособий, поставляются условия, возникают законы, рождаются государства. [...]
Наконец, человек, царь и раб земной природы, признает в себе высшую, духовную жизнь. Он сочувствует с миром, стремится к источнику всякого события и всякой правды, возвышается до мысли о божестве. [...]. Темно ли, ясно ли его понятие, вечной ли истине или мимолетному призраку приносит он свое поклонение, во всяком случае вера составляет предел его внутреннему развитию. Из ее круга он выйти уже не может, потому что вера есть высшая точка всех его помыслов, тайное условие его желаний и действий, крайняя черта его знаний. В ней его будущность личная и общественная, в ней окончательный вывод всей полноты его существования разумного и всемирного (2, стр. 7—8).
117
[...] Свобода мысли и суждений невозможна без твердых основ, без данных, сознанных или созданных самобытною деятельностью духа, без таких данных, в которые он верит с твердою верою разума, с теплою верою сердца. Где эти данные у нас? Эклектизм не спасает от суеверия, и едва ль даже суеверие эклектизма не самое упорное изо всех: оно соединяется с какой-то самодовольною гордостью и утешает себя мнимой деятельностью ленивого рассудка (1, стр. 33).
[...] Связь веры с наукою восходит до первого озарения русской земли верою христовою (1, стр. 247).
Я назвал верою ту способность разума, которая воспринимает действительные (реальные) данные, передаваемые ею на разбор и сознание рассудка. В этой только области данные еще носят в себе полноту своего характера и признаки своего начала. В этой области, предшествующей логическому сознанию и наполненной сознанием жизненным, не нуждающимся в доказательствах и доводах, сознает человек, что принадлежит его умственному миру и что миру внешнему. Тут, на оселке воли, сказывается ему, что в его предметном (объективном) мире создано его творческою (субъективною) деятельностью и что независимо от нее. Время и пространство, или, лучше сказать, явления в этих двух категориях, сознаются тут независимыми от его субъективности или по крайней мере зависящими от нее в весьма малой мере. [...]
Сознательное определение времени и пространства будет: время есть сила в категории причинности, а пространство — в категории взаимности, т. е. время и пространство суть категории причинности и взаимности в мире явлений, независимых от субъективной личности человека.
[...] Время и пространство утратили всякое самостоятельное значение в отношении к разуму вообще, сохраняя значение только в отношении к личности. Таков логический вывод. [...]
Сознание не сознает явления: оно может понять его законы, его отношение к другим явлениям, более — его внутренний смысл [...], но оно не понимает его как явление (1, стр. 327—330).
Мир субъективного сознания с его пространством и временем так же действителен, как мир внешний;
118
а мир внешний есть только всем общий божий мир
(1, стр. 334).
[...] Необходимость есть только чужая воля, а так как всякая объективация есть уже вольное самоотчуждение мысли — не-я, то необходимость есть проявленная воля. Закон, т. е. условие понятий и, следовательно, отношения между всем, что есть, не имеет ничего общего с необходимостью. Это не что иное, как мыслимость или возможность существования (1, стр. 344).
Вера не есть действие одного постижения, но действие всего разума, т. е. постижения и изволения в их внутреннем единстве. Вера — жизнь и истина в одно и то же время [,..], есть такое действие, которым человек, осуждая свою собственную несовершенную и злостную личность, ищет соединиться с существом нравственным по преимуществу, с Иисусом праведным, с богочеловеком. Вера есть начало по самому существу нравственное; нравственное же начало, которое бы не заключало в себе стремления к обнаружению·, обличило бы тем самым свое бессилие, точнее, свое ничтожество, свое небытие. Обнаружение веры и есть дело (3, стр. 127—128).
Наука должна расширять область человеческого знания, обогащать его данными и выводами, но она должна помнить, что ей самой приходится многому и многому учиться у жизни. Без жизни она так же скудна, как жизнь без нее, может быть, еще скуднее
(1, стр. 22).
[...] Разум жив восприятием явления в вере и, отрешаясь, самовоздействует на себя в рассудке; разум отражает жизнь познаваемого в жизни веры, а логику его законов — в диалектике рассудка (1, стр. 279).
Философское мышление строгими выводами возвращается к незыблемым истинам веры, а разумность церкви является высшею возможностью разумности человеческой, не стесняя ее самобытного развития. [...] Науки философские, понятые во всем их живом объеме, по необходимости отправляясь от веры и возвращаясь к ней, в то же время дают рассудку свободу, внутреннему знанию— силу и жизни — полноту (1, стр. 283—284).
В наше время философия в тесном смысле этого слова остановилась в своем развитии по всей Европе и живет более в своих разнообразных, часто бессознательных, приложениях, чем в виде отдельной и самостоятельной
119
науки. Эпоха наша питается трудом недавно минувшей великой эпохи германских мыслителей (1, стр. 290).
«Человечество» — таков смысл Фейербаха. [...] У Фейербаха судьба человеческого развития является без всякой связи с общею мировою жизнью: это какое-то полудуховное пятнышко в бесконечной толкотне грубо-вещественного мира, чистая случайность. [...]
Гегель [...] был, бесспорно, полновластным владыкою германского ума. Его философия не была обследуема критически, его творения редко бывали читаемы в их систематической последовательности, но учение его было принято с какою-то религиозною верою. Почти безмолвный протест Шеллинга и нескольких отдельных мыслителей долго не имел никакого значения. Целое поколение выросло в гегелизме. [...]
Гегель был несколько лет верою, теперь остался привычкою немецкого ума. Ему перестали поклоняться, но выйти из него не могут. Когда наступило для него время критики, многие из прежних его последователей, разочарованные, пристали к прежним его критикам, но тут они не нашли уже философской системы (ибо шеллин-гизм был пережит) и живут теперь в каком-то грустном чаянии будущей философии [...].
Критика сознала одно: полную несостоятельность гегельянства, силившегося создать мир без субстрата. Ученики его не поняли того, что в этом-то и состояла вся задача учителя, и очень простодушно вообразили себе, что только стоит ввести в систему этот недостающий субстрат и дело будет слажено. [...] Гегельянство прямо хватилось за вещество и перешло в чистейший и грубейший материализм. Вещество будет субстратом, а затем система Гегеля сохранится [...].
Система [Гегеля] есть не что иное, как возможность понятия, развивающаяся до всего разнообразия действительности и завершающаяся действительностью духа. И вот у его учеников вещь вообще является как общий субстрат, и именно вещь в себе самой, не как самоограничивающееся понятие, что было уже отвергнуто критическим судом, произнесенным над чистым гегельянством, и даже не как предмет понятия, что предполагало бы предсуществующее понимание, а именно в себе самой. [...]
Для осуществления всей системы (...) введено было
Ш
новое начало — вещь как вещество вообще, f...] Смутный и чувственный образ вещества получил значение понятия, область ощущений сделалась точкою отправления для мысли (1, стр. 299—304).
Так получаем мы антиномию: ограниченное безгранично, измеримое неизмеримо, ощутимое неощутимо и т. д., или иначе вещество — не-вещество. Конечно, антиномия не отрицает действительности предмета, выражающего в ней свою двойственность, но она, бесспорно, отрицает в каждой из двух сторон, в которых она является, право на самостоятельность и особенно право выдавать себя за всемирный субстрат. Материализм, подвергнутый испытанию логики, обращается в бессмысленный звук (1, стр. 307).
[...] Материализм не выдерживает ни малейшей научной, критики, но перед чистым рационализмом он имеет то кажущееся превосходство, что представляет какой-то (хотя и мнимый) субстрат и тем удовлетворяет внутреннему требованию действительности, которое лежит в душе человека; оба же, и рационализм чистый, и материализм, суть не что иное, как две стороны одной и той же системы, которую я [...] [называю] системою нецессариа-низма, иначе безвольности (1, стр. 312).
Вещество является нам всегда в пространстве, в это* мистическом состоянии. Очевидно, никакая частица ве~ щества не может действовать вне своих пределов, т. е. действовать там, где ее нет. Итак, никакой частной силы быть не может, и сила является принадлежностью не дробного вещества, но все-вещества, т. е. уже не вещества, но идеи, уже не дробной, но всецелой, не рабствующей чему иному, но свободно творящей силу. Итак, сила сама есть только иное название воли. [...] Эта воля есть воля божия (3, стр. 341—342).
Гегелизм пройдет, как всякое заблуждение, и теперь он уже живет более в жизни бытовой, чем в науке; но феноменология Гегеля останется бессмертным памятником неумолимо строгой и последовательной диалектики, о котором никогда не будут говорить без благоговения им укрепленные и усовершенствованные мыслители. Изумительно только то, что до сих пор никто не заметил, что бессмертное творение есть решительный приговор над самим рационализмом, доказывающий его неизбежный исход (1, стр. 267).
121
