Джордано бруно: первая поездка в париж
| Вид материала | Документы |
СодержаниеГлава xviджордано бруно: второй приезд в париж |
- Джордано бруно: первая поездка в париж, 7905kb.
- Джордано Бруно реферат джордано Бруно, 74.95kb.
- Джордано Бруно (1548-1600) рассуждение ноланца о героическом энтузиазме, написанное, 2057.39kb.
- Российской Государственной Библиотеки, хранится уникальный рукописный памятник,, 58.48kb.
- И политика, 23089.17kb.
- И политика, 23126.12kb.
- Р. Штайнер Галилей, Джордано Бруно и Гёте, 285.67kb.
- Краткое изложение следственного дела Джордано Бруно (Извлечения), 1406.98kb.
- Программа 8 дней\ 7 ночей День 1 Париж Прибытие в Париж. Трансфер в отель выбранной, 78.48kb.
- Учебник мнемотехники Система запоминания «Джордано», 2096.95kb.
ГЛАВА XVI
ДЖОРДАНО БРУНО: ВТОРОЙ ПРИЕЗД В ПАРИЖ
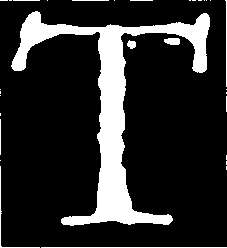
ак, как в Англии, Бруно никогда писать уже не будет. Хотя бы потому, что он ничего уже не напишет на итальянском, который был ему удобней, чем латынь. Дж. Аквилеккиа предположил, что в Англии Бруно писал по-итальянски под влиянием новых течений в английской науке и философии, использовавших живой язык'. А диалогическая форма, к которой он обращался в лондонских сочинениях (за исключением «Тридцати печатей», которые, кстати, написаны по-латы-ни), отвечала его выдающемуся драматическому дарованию. Он сознавал в себе этот дар и говорил, что выбирает между трагической и комической музой2. Хотя пьес он в Англии не писал, в диалогах есть блестящие, хотя и шутовские сцены — например, между педантами и философом в «Вечере». В Англии таланты Бруно развивались в поэтическом, в литературном направлении, возможно, потому, что это был последний благополучный период его жизни. Живя в Англии, он чувствовал поддержку и защиту — если и не самого французского короля, то уж точно французского посла, который, судя по всему, был к нему очень расположен и у которого он жил так благоустроенно, как, наверное, никогда в жизни. И, безусловно, Бруно вдохновляли горячие отклики на его идеи. Далее, несмотря на всю грубую толкотню на улицах3, жизнь в Англии была гораздо спокойнее, чем в любой европейской стране, — что для Бруно служило еще одним поводом восхищаться «божественной Елизаветой»:
Ее... счастливый успех, которым с благородным восхищением любуется наш век. Б то время как Тибр бежит оскорбленный, По угрожающий, Рона неистовствующая, Сена окровавленная, Гаронна смятенная, Эбро бешеный, Тахо безумствующий, Маас озабоченный, Дунай беспокойный, Елизавета в тылу Европы блеском очей своих уже более 25 лет успокаивает великий океан, который, непрерывно сменяя прилив на отлив, радостно и тихо принимает в свое обширное лоно свою
261
возлюбленную Темзу; она же, далекая от всякого беспокойства и неприятности, безопасно и весело движется, извиваясь среди зеленых берегов4.
В октябре 1585 года Мовиссьер, французский посол, был отозван из Англии, и Бруно уехал вместе в его свитой. Переправа через Ла-Манш вышла неудачной — корабль ограбили пираты5. А когда путешественники приехали в Париж, стало ясно, что Сена действительно вскоре потечет кровью. Положение было крайне тяжелое. Гиз, при поддержке испанцев, уже мобилизовал свои силы; в июле 1586 года Генриху Ш пришлось заключить Немурский трактат, отменявший права, прежде дарованные гугенотам. Фактически король сдался Гизу и крайне реакционной католической Лиге, за которой стояла Испания. В сентябре происпански настроенный папа Сикст V издал буллу против Генриха Наваррского и принца Конде, в которой говорилось, что, будучи еретиками, эти члены королевской семьи не имеют прав на французский престол. Из-за этого шага война стала неизбежной. Проповедники Лиги оглашали Париж кровожадными проповедями, а неудачливый король все чаще затворялся ради молитв, появляясь на людях только в угрюмых покаянных процессиях. Итак, пока Бруно не было в Париже, ситуация резко ухудшилась, а это значило, что на королевскую поддержку он уже не может рассчитывать. Собственно, ухудшением ситуации был вызван и отзыв Мовиссьера — его место в Англии занял Шатонеф, сторонник герцога Гиза6. Прошли времена и для трапез во французском посольстве, и для загадочной любовной поэзии его обитателей. А Филип Сидни, которому эта загадочная любовная поэзия была посвящена, уехал из Англии через месяц после Бруно, чтобы сражаться с испанцами в Нидерландах, где в следующем году и был убит.
Венецианским инквизиторам Бруно сказал, что во время второго пребывания в Париже жил большей частью на собственный счет, и в обществе «людей, которых я знал»7. Эти скудные сведения были пополнены, когда упоминания о Бруно обнаружились в письмах Якопо Корбинелли к Джану Винченцо Пинелли8. Корбинелли, профессиональный ученый, выполнял самые разные поручения Генриха Ш и, возможно, был в более близких отношениях с королем, чем любой другой итальянец9. По распоряжению Пинелли Корбинелли посылал ему из Парижа отчеты о политике и литературе и поставлял ему книги и рукописи для великолепной библиотеки, которую тот создавал в Падуе. Преданный королю и его окружению, Корбинел-
262
ли был противником Гизов и Лиги. Его переписка с Пинелли не только изобилует литературными и учеными вопросами, но еще и отражает политические и религиозные настроения характерные в конце XVI века для определенных кругов в Венето и во Франции. Эти круги, хотя и католические, ждали от Генриха Наваррского какого-то выхода из тупика, в котором оказалась Европа. Тесно связан с Кор-бинелли (и постоянно упоминается в его письмах) был Пьеро дель Бене, аббат Бельвильский, агент Генриха Наваррского10. Так вот, две книги, которые Бруно издал в 1586 году в Париже, посвящены этому дель Бене11, из чего — а также из дружеских упоминаний о Бруно в письмах Корбинелли — можно почти с полной уверенностью заключить, что «люди, которых [он] знал» и с которыми он был в дружеских отношениях во время второго приезда в Париж, — это Корбинелли, дель Бене и их круг, иначе говоря, группа итальянцев, преданных Генриху Ш, заинтересованных в Генрихе Наваррском и его судьбе и связанных с Пинелли в Падуе. Как мы узнаем позже, Бруно, видимо, надеялся, что именно Генрих Наваррский начнет новую эру либеральности и терпимости.
Удивительным (хотя, если я сумела показать, что Джордано Бруно был вообще мало похож на остальных людей, то читатель, наверно, уже не удивится) эпизодом второго пребывания Бруно в Париже стал случай с Фабрицио Морденте и его циркулем12. Фабрицио Морденте изобрел новый циркуль, дававший, если к его плечам приделать некое устройство, «чудесные результаты, необходимые для Искусства, которое подражает Природе», — как заявляет сам Морденте в кратком описании, с приложением рисунка и чертежа, которое он издал в Париже в 1585 году13. Было сделано предположение, что циркуль Морденте был предтечей пропорционального циркуля Галилео Галилея14. Бруно знал Морденте, который тогда находился в Париже, и пришел от циркуля в восторг. Он говорил о нем со своим терпеливым слушателем, библиотекарем аббатства Сен-Виктор, назвал Морденте «богом геометров» и сказал, что поскольку Морденте не знает латыни, то он, Бруно, издаст его изобретение по-латински15. И он выполнил свое обещание с лихвой, написав четыре диалога о циркуле Морденте, в которых свысока заявлял, что сам изобретатель не понял смысла своего божественного изобретения во всей полноте — как понял его сам Бруно. Из писем Корбинелли нам известно, что Морденте — понятным образом — «впал в бешеную ярость»16; что он скупил тираж диалогов и уничтожил его17 (упустив два экземпляра —
263
один полный и один неполный, дошедшие до нас); и что он «отправился к Гизам» просить поддержки против Бруно18. Последняя новость звучит страшновато, если вспомнить, что Париж был полон сторонников Гиза, вооруженных до зубов.
Чтобы понять этот эпизод, нужно вспомнить Бруно и Коперника в «Великопостной вечере»: Коперник, достойный человек, совершил великое открытие и сам его не вполне понял, поскольку был всего лишь математик; Ноланец постиг истинный смысл чертежа Коперника, увидел в нем сияние божественного смысла, иероглиф божественной истины, иероглиф возврата египетской религии — одним словом, тайны, скрытые от жалких, слепых оксфордских педантов. Я думаю, что-то похожее случилось, когда Ноланец увидел циркуль Морденте и его чертеж.
В одном из диалогов Бруно превозносит Морденте до небес за то, что тот открыл нечто, чего не знали даже «любознательный Египет, красноречивая Греция, деятельная Персия и утонченная Аравия»19 — набор древних традиций мудрости, по которому ясно, в каком направлении работала мысль Бруно. А в странном фрагменте «Сонное видение» («Insomnium»}, приложенном к этим диалогам, уже с первой фразы ясно, что, по мнению Бруно, это изобретение относится к «блуждающим светилам» и к «божественной Науке»20. Слово «наука» (mathesis) встречается и в диалоге с весьма необычным названием «Торжествующий простак» («Idiota Triumphans») и очень знаменательно. Ибо «Наука», как нам известно по «Тридцати печатям», — это не математика, а одна из четырех «наставниц в религии», наряду с Любовью, Искусством и Магией21. На центральном месте в «Торжествующем простаке» стоит та идея, что в Морденте говорит «вдохновенное незнание», он и есть «торжествующий простак». И следует анализ двух видов вдохновения — одно посещает людей простых, которые вдохновенно изрекают то, что сами не до конца понимают, а другое приходит к тем, кто полностью осознает смысл своих вдохновенных речей22. С подобным рассуждением мы уже встречались в «Героическом энтузиазме», где посещаемые вдохновением простые люди уподоблялись Ослу, везущему святые дары23. Здесь сравнением служит валаамова ослица, и ясно, что такой вот ослицей и является Морденте. Затем Бруно переходит непосредственно к священной теме египетского культа — что это был культ «божества в вещах» и что так египтяне восходили к самому божеству24.
264
Нет ничего удивительного в том, что Морденте не захотел зваться ни торжествующим простаком, ни валаамовой ослицей, но (мне кажется) Бруно хочет сказать, что Морденте вывел на свет божественную истину, которую сам не понимает, но в которой обладатели более глубокой проницательности — как, например, Ноланец — могут распознать чудесное откровение. Дальше сказано совершенно ясно, что чертеж Морденте нужно мистически истолковать с помощью «науки» (mathesis) по методу пифагорейцев или кабалистов25. Короче говоря, Бруно превратил циркуль Морденте в то, что Кеплер называл герметикой — то есть когда математические чертежи понимаются не математически, а «пифагорейски».
В средние века пифагорейский и нумерологический подход к чертежам был традиционным, и эту традицию ренессансный оккультизм не только санкционировал, но расширил и развил с помощью герметики и кабализма. Лишь в следующем веке начнется сознательное отталкивание от этого подхода, а во времена Бруно он был в большой моде. Это можно проиллюстрировать тем, как Джордж Пиль описывает занятия графа Нортумберлендского, «Волшебника»:
Знатный лорд, прекрасный цвет Нортумберленда,
Возлюбленный, покровитель и любимец Муз,
Ты принимаешь умельцев и ученых
И облекаешь Науку в богатые украшения —
То удивительное математическое искусство,
Знакомое со звездами и зодиаком,
Для которого небеса открыты будто книга;
Под чьим безошибочным руководством,
Оставив торные пути наших профессоров
И ступая по древним почтенным следам
Трисмегиста и Пифагора,
По нехоженым и недоступным путям
Ты идешь в пространные прекрасные области
Божественной науки и философии*.
Что поразительно, так это невероятная отвага, с которой Бруно выпускает такие вызывающие сочинения, как «Великопостная вечеря» против оксфордских профессоров (да и Коперник, будь он жив, наверно, захотел бы скупить и уничтожить весь тираж «Вечери») и эти диалоги о Морденте. Может быть, он полагал, как и в случае с чер-
265
тежом Коперника в «Вечере»27, что наука (mathesis) циркуля Фабри-цио — это знаменье о конце века педантов и что с возвратом Египта католическая Лига превратится в ничто? Как бы то ни было, Морденте к Гизам пошел — действительно грозный педант.
Я не претендую на окончательное разрешение загадок полемики между Бруно и Морденте. Как я отметила в статье, рассказ Корбинелли об этой ссоре стоит в контексте его сообщений Пинелли о политико-религиозной ситуации, и прежде всего — о реакции на буллу папы против Генриха Наваррского28. Когда переписку Корбинелли с Пинелли издадут целиком29, мы, наверно, увидим тогдашнюю деятельность Бруно в Париже в более ясном свете.
Другим подвигом Бруно во время второго пребывания в Париже стал публичный диспут в Коллеж де Камбре, на который он вызвал парижских ученых, чтобы они послушали, как он излагает «сто двадцать тезисов о природе и мире против перипатетиков». Эти тезисы в 1586 году были изданы в Париже их автором под именем его ученика — Жана Эннекена, с посвящением Генриху Ш и письмом к ректору Парижского университета Жану Фильсаку30. Зная Бруно, это письмо можно назвать довольно миролюбивым и скромным — особенно если сравнить его, например, с обращением Бруно к вице-канцлеру и ученым Оксфорда. Он благодарит Фильсака за былую доброту к нему Парижского университета (имея, скорее всего, в виду кафедру, которую ему предоставили в предыдущий приезд в Париж) и сообщает, что собирается уехать из Парижа31. Видимо, «Сто двадцать тезисов» вышли до диспута в качестве его программы. Под названием «Camoeracensis Acrotismus» [«Слушания (?) в Камбре»] сочинение было переиздано, в целом без изменений, двумя годами позже в Вит-тенберге, где Бруно тогда находился32.
Отец Котен (так звали библиотекаря аббатства Сен-Виктор) заинтересовался публичным выступлением завсегдатая своей библиотеки, и из его дневника мы узнаем, что числами, на которые Бруно вызвал «королевских чтецов и всех слушателей в Камбре», были 28 и 29 мая (1586 года), приходившиеся на «среду и четверг недели Пятидесятницы»33. Защищал тезисы Эннекен, ученик Бруно, занимавший «главную кафедру», а сам Бруно занимал «малую кафедру, у двери в сад»34. Возможно, это была мера предосторожности, на случай, если придется убегать, — и убегать действительно пришлось.
266
Во вступительной речи, зачитанной Эннекеном, есть пассажи, почти дословно совпадающие с «Великопостной вечерей» (если отвлечься от того, что «Вечеря» — по-итальянски, а тезисы — на латыни). Мы были заключены в темную башню, откуда еле различали далекие звезды35. Но теперь мы на свободе. Мы знаем, что есть единое небо, бескрайняя эфирная область, где движутся пламенные тела, возвещающие нам величие и славу Божий36. Зрелище этих бесконечных проявлений побуждает нас к созерцанию их бесконечной причины; и мы видим, что божество не вдали от нас, а внутри нас, ибо его центр — везде, столь же близко к обитателям иных миров, как и к нам. Поэтому нашим руководителем должны быть не глупые и невразумительные авторитеты, а упорядоченные ощущения и просвещенный разум. Бесконечная вселенная больше подходит величию Бога, чем конечная37. Самые проницательные наставники в науках приглашаются высказать свое мнение об этих вопросах перед лицом истины, и пусть они судят не злонамеренно и косно, а в духе справед-ливости и примирения38.
Согласно Котену, когда речь была произнесена, Бруно встал и обратился ко всем с призывом опровергнуть его и защитить Аристотеля. Никто ничего не сказал, и тогда он закричал еще громче, словно одержав победу. Но тут встал молодой адвокат, по имени «Rodolphus Calerius», и в длинной речи защищал Аристотеля от Бруновых клевет, начав ее с замечания, что «королевские чтецы» потому не выступили прежде, что считали Бруно недостойным ответа. В заключение он призвал Бруно ответить и защититься, но Бруно молча покинул свое место. Студенты схватили его и заявили, что не отпустят, пока он не отречется от клеветы на Аристотеля. Наконец он от них освободился под условием, что на следующий день вернется, чтобы ответить адвокату. Тот вывесил объявление, что на следующий день явится. И на следующий день «Rodolphus Calerius» занял кафедру и очень изящно защищал Аристотеля от уловок и тщеславия Бруно и снова призвал его к ответу. «Но Брунус не появился, и с тех пор в этом городе не показывался»39.
Непосредственно я не учил тому, что противоречит христианской религии, — сказал Бруно венецианским инквизиторам, — хотя косвенным образом выступал против, как полагали в Париже, где мне, однако, было разрешено защищать на диспуте положения под названием «Сто двадцать тезисов против перипатетиков и других
267
вульгарных философов», напечатанные с разрешения начальствующих лиц. Было признано допустимым защищать их согласно естественным началам, но так, чтобы они не противоречили истине, согласно свету веры. На основании этого было разрешено излагать и объяснять книги Платона и Аристотеля, которые косвенно противоречат вере, но гораздо больше, чем положения, выставленные мною и защищавшиеся философским образом40.
Одна из самых примечательных черт сцены в Коллеж де Камбре — роль, доставшаяся этому «Rodolphus Calerius», который ведет себя так, будто «вдохновлен» (не в смысле героического энтузиазма) заткнуть Бруно рот. Котен делает приписку, в которой сообщает, что этот «Calerius» в настоящее время «затворился с господином Дю Перроном, оратором и хроникером короля»41. Жак Дави Дю Перрон входил в ближайшее окружение короля и читал вызывавшие восхищение проповеди, пронизанные «древним богословием» и религиозным герметизмом, в духовной академии в Венсенне — то есть в одном из тех религиозных сообществ, куда все чаще удалялся Генрих Ш в эти тяжелые годы42. Затворившийся с Дю Перроном «Rodolphus Calerius» — это, видимо, Рауль Кайе, тоже входивший в венсеннскую группу и сочинивший восхищенный сонет на одну из произнесенных там проповедей бесед Дю Перрона:
Quand je t'oy discourir de la Diuinité,
I'admire et ton esprit une grandeur Diuine,
Qui tout le monde embrasse, & qui ne se termine
Que par les larges fins de son infinité
I'admire tes discours remplis de vérité,
Qui font qu'à l'immortel le mortel s'achemine,
Par les diuers degrez de ceste grand' machine,
Où tu nous vas guidant à l'immortalité.
Comme l'Ame du monde en ce grand tout enclose
Fait viure, fait sentir, fait mouuoir toute chose:
Tout de mesme ton Ame infuse en ce grand corps,
Void tout ce qui se fait en la terre et en l'onde,
Void les effects des cieux & leurs diuers accords:
Puis fait en nos esprits ce que Dieu fait au monde.
268
[Когда я слышу, как ты рассуждаешь о Божестве,
В твоем уме я восхищаюсь Божественным величием,
Которое обнимает весь мир и которое завершается
Лишь широкими пределами своей бесконечности.
Я восхищаюсь твоими беседами, полными истины,
Которые открывают смертным путь к бессмертному,
По различным ступеням этой великой машины,
По которой ты ведешь нас к бессмертию.
Как Душа мира, заключенная в этой великой вселенной,
Дает жизнь, дает чувства, дает движение всему:
Точно так же и твоя Душа входит в это великое тело,
Видит все, что происходит на земле и в воде,
Видит дела небес и их многоразличные гармонии:
Затем творит в наших умах то, что Бог творит с миром]43.
Дю Перрон изображен здесь как религиозный маг, слившийся воедино с мировой душой. Если против Бруно на диспуте в Камбре выступил автор этого сонета и друг Дю Перрона, то отсюда следует, что выступление его было вдохновлено не Гизами или Лигой, а окружением самого короля. Генрих Ш отрекается от престола руководителя небесной реформы в созвездии Южной Короны как от места слишком опасного и дает понять своим недругам, что лишает Бруно своего покровительства. В книге «Французские академии шестнадцатого века» я выдвинула предположение, что исходившая из французского посольства деятельность Бруно в Англии могла повредить Генриху, если сведения о ней доходили до Франции, где злобные враги короля непрестанно искали способа подорвать уважение к нему среди его подданных-католиков44.
По выступлению Кайе Бруно, видимо, понял, что поддержки французского короля, которую он имел — в реальности или в надеждах, — у него больше нет.
Осознав, что переходящий под власть Лиги Париж ему не подходит, Бруно уже решил оттуда уехать, поэтому вряд ли он хотел этим диспутом вновь завоевать себе какое-то положение — в университете или при короле. А от очень хорошо осведомленного Корбинелли он, конечно, знал, что и сам король в совершенно безнадежном положении и ничем не сможет ему помочь. Зачем же он устроил этот дис-
269
пут и подверг себя такой опасности? Отчасти, видимо, из-за принципиальной неспособности сохранять молчание и спокойствие. Характер Бруно понять очень нелегко: с одной стороны, постоянная самореклама и хвастовство, а с другой — безусловно искреннее сознание своей миссии. Требовалась очень большая смелость, чтобы в такое время и в таком месте высказать идею (а смысл тезисов, по-моему, в этом), что «религия космоса» лучше, чем христианство, как его понимает католическая Лига, — даже если он сидел поближе к выходу в сад и не явился на следующий день. Очень вероятно, что его неудача объясняется тем, что отпор был дан с неожиданной стороны.
В том же 1586 году неутомимый Бруно издал еще одну книгу — длинный труд под названием «Лекция по физике Аристотеля в образах» («Figuratio Aristotelici Physici Auditus»)45, посвященный Пьеро дель Бене — адресату диалогов о циркуле Морденте. Эта «Лекция в образах» — одно из самых темных сочинений Бруно, следовательно — крайне темное. Перед нами своего рода мнемоника; пятнадцати принципам физики Аристотеля приданы образы — такие, как Олимпийское древо, Минерва, Фетида, Натура, или Вышний Пан, и т.п. И они расположены на схеме, которая, безусловно, относится не к математике, а к «науке» (mathesis). Схема напоминает квадрат с нарисованными домами гороскопа, но испещренный совершенно безумными, странными геометрическими фигурами46. Классическая мнемоника, использующая для образов места в здании, сочетается здесь с «наукой» и бог знает какими еще изощренными плодами сумасшедшей изобретательности. Я подозреваю, что и в этой книге в той или иной форме присутствует центральная «идея» Бруно.
Таким образом, произведения парижского периода примерно соответствуют произведениям английского. Есть странная мнемоника, соответствующая «Тридцати печатям». Диалоги о Морденте, особенно «Торжествующий простак», продолжают темы «Кабалы пегасского коня» и «Изгнания торжествующего зверя». Диспут в Коллеж де Камбре с парижскими учеными соответствует стычке с оксфордскими учеными и повторяет темы «Великопостной вечери». Но парижские тексты намного темнее и неразборчивей; в них нет ничего похожего ни на великолепную образность «Героического энтузиазма», которой Бруно обогатил елизаветинскую поэзию, ни на блестящий драматизм, поднимающийся до поэзии, с которым в «Вечере» изображено состязание с английскими педантами (воплощающими про-
270
тестантскую нетерпимость). Возможно, сгустившаяся в Париже атмосфера католического педантизма была настолько гнетущей, что талант Бруно потускнел, по крайней мере на этот период.
Поскольку все изданные за это время в Париже произведения посвящены агенту Генриха Наваррского Пьеро дель Бене (за исключением программы диспута в Камбре, посвященной Генриху III — впрочем, напрасно), то можно предположить, что Бруно, как и его друг Корбинелли и корреспондент последнего в Падуе, считал Генриха Наваррского именно тем государем, которого теперь нужно поддерживать. Генрих III и его мать тоже надеялись на Наваррца, и на юг отправлялись тайные эмиссары, убеждавшие его разрядить обстановку переходом в католичество. Впоследствии, когда Генрих Ш погиб, а Наваррец победоносно завершил те страшные войны с Лигой, которые разрушили ренессансную культуру Франции, именно Жак Дави Дю Перрон, епископ Эвре и впоследствии кардинал, сыграл главную роль в обращении Наваррца и в переговорах о его принятии в лоно Церкви в качестве Генриха IV, христианнейшего короля Франции47. Это имеет отношение к жизни и гибели Бруно, поскольку почти несомненно, как отметил Корсано, именно общеевропейское воодушевление при восшествии Генриха IV на французский престол подтолкнуло Бруно к роковому возвращению в Италию48.
Еще об одном эпизоде парижского периода нужно упомянуть, поскольку это важная часть связанной с Бруно сложной проблематики. За это время он предпринял попытку вернуться в католическую церковь. С этими планами он приступил к Мендосе, которого знал по Лондону и который теперь был в Париже, и к папскому нунцию, епископу Бергамо, но безрезультатно. Он хотел вернуться в церковь и получить отпущение, чтобы иметь право на принятие таинств; но в свой орден он возвращаться не хотел49. Был ли этот шаг Бруно продиктован в какой-то мере расчетом, поскольку он снова оказался в католической стране? Мне кажется, что Бруно никогда не действовал расчетливо; расчеты были чужды его натуре; на протяжении всей жизни он совершал поступки необдуманные и чистосердечные. Поэтому и желание вернуться в церковь, скорее всего, было искренним и добровольным и соответствовало его взглядам. Его возмущали еретики и их презрение к «делам»; душевный склад у него был совершенно католический, протестантизму принципиально чуждый. А его «великая реформа» должна была произойти так или иначе внутри католицизма, если только решить проблемы с таинствами — а это
271
можно сделать «быстро», как он объяснил библиотекарю из аббатства Сен-Виктор. Поэтому я полагаю, что его попытка вернуться в церковь в это пребывание в Париже была совершенно искренней и последовательной. Его целью была египтианизированная и толерантная католическая и универсальная религия, с реформированной магией и этикой.
Бруно еще оставался в Париже 4 августа 1586 года — в этот день Корбинелли написал Пинелли, что Джордано боится «нападения из-за того, что устроил бедному Аристотелю такую выволочку»50, и сообщил, что Морденте «отправился к Гизам». Видимо, вскоре после этого Бруно покинул Париж. Венецианским инквизиторам он скажет, что уехал «из-за смут»51, что, в общем, верно.
Он отправился в Германию.
272
