Научный журнал
| Вид материала | Документы |
- Научный журнал "Вопросы филологии" Оргкомитет: Сопредседатели, 47.73kb.
- Научный журнал «Вопросы филологии» Оргкомитет: Сопредседатели, 53.54kb.
- «Агентство гуманитарных технологий», 75.45kb.
- Образование и общество: Научный, информационно-аналитический журнал. 2009, №1. С. 29-34, 186.43kb.
- Источник: Культура народов Причерноморья. Научный журнал. №36. Симферополь, 2002., 160.13kb.
- В. О. Бернацкий д-р филос наук, профессор, 3289.12kb.
- Статья опубликована в Вестнике Российского Государственного Торгово-Экономического, 259.77kb.
- Ежемесячный аналитический журнал, 26.94kb.
- Шмелева Т. В. Речевой жанр. Возможности описания и использования в преподавании языка, 230.32kb.
- Международный научный журнал "рхд" Всероссийская конференция "динамические системы,, 36.92kb.
Б.В. Тюркин
В статье предлагается обобщенный взгляд на ту проблематику, которая поднимается в драматургии Великобритании последних десятилетий. Отбор авторов и текстов переводов их произведений сделан целенаправленно только по публикациям таких отечественных журналов, как «Иностранная литература» и «Современная драматургия», поскольку именно они наиболее доступны широкому кругу отечественных читателей.
Анализ последних публикаций пьес зарубежных авторов таких периодических изданий, как «Иностранная литература» и «Современная драматургия» за 2006–2007 гг., подтверждает устойчивый интерес к творчеству драматургов Великобритании в нашей стране. Это можно объяснить общим интересом к данной литературе во всем мире, связанным со статусом английского языка и тем резонансом в современной культуре, который она получила за последние десятилетия (Нобелевскими лауреатами в области литературы 2005 и 2007 гг. стали Гарольд Пинтер и Дорис Лессинг – оба, отдавшие дань драматургии).
С 1707 года – времени образования Объединенного королевства – наблюдается внутреннее дробление литературы Великобритании на собственно английскую, ирландскую и шотландскую. Ирландцы и англичане являются лидерами современной отечественной периодики в области драмы. Их произведения включают в себя все разновидности конфликтов, о которых говорит С.И. Кормилов: «Конфликт (лат. conflictus – столкновение) в литературе – столкновение между персонажами либо персонажами и средой, героем и судьбой, а также противоречие внутри сознания персонажа <…>» [1; стб. 392]. Особую актуальность здесь приобретает и следующее заключение: «Новейшей теории литературы понятие конфликта представляется одним из дискредитированных. Высказывается мнение о том, что связанные с ним понятия экспозиции, завязки, развития действия, кульминации, развязки полностью применимы лишь к криминальной литературе и лишь частично к драме» [1; стб. 393]. В современных пьесах Великобритании криминальная основа действия становится одной из составляющих драматургического действия.
На уровне противодействия персонажей можно говорить о конфликте отцов и детей, а также проблеме гендерных отношений. Противостояние персонажей и среды порождает националистические и психологические конфликты. Столкновение героя с предрешением его судьбы ведет к возникновению конфликта нравственного выбора и обреченности. Противоречие внутри сознания персонажа разрушает его «Я – концепцию».
Сначала обратимся к творчеству ирландских драматургов, среди которых особенно интересны два имени: Алан Титли, посетивший Россию в 2006 году и прочитавший доклад «Уроки русского» на конференции Kelto-Slavika в МГУ, а также «прижившийся в русском театре» (П. Руднев) Мартин Мак-Донах.
В журнале «Иностранная литература» (№ 6, 2007) была опубликована пьеса А. Титли «Годо приходит» в переводе Т.А. Михайловой, написанная еще в 1987 году. Ее название – прямая отсылка к творчеству С. Беккета. Причина трагического существования «маленького человека» в современном мире обостряется в этой пьесе тем, что Годо – мечта, истина, смысл и цель существования беккетовских героев Владимира и Эстрагона – приходит. Однако окончательно превратившиеся в обывателей герои Титли не способны осознать этого: мир масс-медийной культуры предлагает им лишь сиюминутные радости, навязанные неким Прогастоном и его «свитой» (Момо и Невезухой, которого мучают на электрическом стуле). С ними связано решение конфликта гендерной самоидентификации, поднимаемого и в пьесе С. Беккета. Так, известные герои теряют последние признаки «человека разумного»: они отказываются даже от своих знаменитых интеллектуальных игр. При этом их переполняет нарочитый оптимизм, способный привести к гибели: «Владимир: Тебе не кажется, что мы зашли слишком далеко? / Эстрагон: Люди постоянно заходят слишком далеко, без этого мир бы остановился» [4; 162].
Произведения М. Мак-Донаха публикуются в журнале «Современная драматургия» с 2000 года. Одной из последних была пьеса 2001 года «Лейтенант из Инишмора» в переводе П. Руднева (№ 2, 2007). Переводчик определяет ее жанр как гиньоль, комедия-моралите, комедия-хоррор и т. д. Наличие кинематографического определения особенно значимо своим соответствием ритмико-интонационному звучанию перевода, который очень напоминает стилистику фильмов Квентина Тарантино. «Черный юмор» автор использует для раскрытия такого конфликта современности, как националистическая агрессия среди молодежи. Главный герой – Падрайк Осборн – бывший член ИРА (Ирландская республиканская армия) и настоящий ИНЛА (Ирландская независимая освободительная армия), устраивает кровавую бойню в родном городке из-за гибели своего кота Малыша Томаса, который в финале оказывается живым. Одно из высказываний героя звучит как ироническая аллюзия на знаменитый роман Д. Дж. Сэлинджера: «О, Мейрид, все, о чем я на самом деле мечтаю, это чтобы Ирландия была свободна. Свободна для детей, чтобы они носились по ней как угорелые и мирно играли, во что им вздумается. Свободна для девушек и парней, чтобы они танцевали и пели вместе. Свободна для котов, чтобы они гуляли сами по себе без страха быть застреленными. Много ли я требую, а, скажи мне, Мейрид?» [3; 139], – и это слова неуравновешенного маньяка. В финале его убивает возлюбленная, и тоже из-за кота, только своего. Интересно, что натуралистичность сцен насилия при постановках в театре только усиливает комический эффект пьесы (например, постановка в Национальном театре Финляндии, режиссер Мика Мюллюха).
Однако данная пьеса намного оптимистичнее того, о чем говорилось в более ранних произведениях Мак-Донаха. Например, «Королева красоты» 1997 года, опубликованная в № 4 «Современной драматургии» за 2000 год, представляет реалистическую картину разрешения вполне традиционного конфликта отцов и детей: сорокалетняя Морин Фолан, страдающая психическим расстройством, жестоко убивает свою семидесятилетнюю мать Мэг. Другой конфликт пьесы – националистический (героиня-ирландка сходит с ума после работы в Англии) – остается в тени семейной драмы. «В Англии всем друг на друга наплевать, и это, между прочим, не так уж и плохо. Правда, иногда… в общем, и так плохо и так плохо» [2; 132], – говорит Пато, несостоявшийся жених Морин, сбежавший позднее не только из родной Ирландии, но и из Англии в Америку. Особое место в пьесе занимает романтическое столкновение красоты внешней с уродством внутренней сути современного человека, которое заявлено уже в названии.
Из последних переводов драматургии англичан можно выделить пьесу 1985 года «Ионадав» Питера Шеффера, опубликованную в «Иностранной литературе» (№ 4, 2006). Противостояние «маленького человека» Ионадава (племянника царя Давида) и его дяди-властителя раскрыто как семейная и личная драма каждого из персонажей пьесы. Перед нами переложение библейского сюжета о поругании чести дочери Давида – Фамари – ее старшим братом Амноном, которое в пьесе происходит по вине незаметного Ионадава, говорящего о себе: «Я – никто!» [7; 54], – и разрушающего великое царство.
Пьеса 1998 года «Поцелуй Иуды» Дэвида Хэйра была опубликована в «Иностранной литературе» (№ 5, 2007) в переводе С.Э. Таска, как и «Ионадав», но ее действие никак не связано с Новым Заветом. Она – о последних днях известного писателя-парадоксалиста ирландского происхождения О. Уайльда, много читавшего (по версии Д. Хэйра) Библию во время своего заключения и пришедшего к выводу, что трагичнее для Иисуса было бы предательство, совершенное не чужим ему Иудой, а любимцем Иоанном. Центральный конфликт пьесы – непонимание между гением и толпой, которое осложняется гомосексуальной природой Уайльда, усиливающей тотальность его одиночества. Другие конфликты вытекают из творческого наследия самого классика. Например, трагическая обреченность красоты, которую способны оценить лишь избранные: «Красота – единственное, к чему я был неравнодушен» [5; 169], – произносит главный герой пьесы. Причина всех бед Уайльда обозначена уже в первом эпиграфе: «По-моему же, то прекрасно, что кому любо» (Сафо). Это умозаключение несет в себе главную идею гедонизма: получать от жизни удовольствие любым путем, ничего не предлагая взамен.
Бесспорное достоинство пьесы Д. Хэйра – точная передача стиля самого О. Уайльда (например, «Неаполитанский залив весь в жемчугах, как тощая шея стареющей вдовы» [5; 168]).
Пьеса 2000 года «Там вдали» Кэрил Черчилл была опубликована и в «Современной драматургии» и в «Иностранной литературе» (№ 4, 2007) в переводе А. Гениной. Ее главный конфликт – это угроза терроризма, ставшего главным признаком апокалипсиса наших дней: «Пьеса была написана под непосредственным впечатлением от событий в Югославии, но в тексте нет никаких примет времени и места. Читатели и зрители могут сами домыслить географические и временные координаты – Германия или СССР 1930-х, Руанда 1970-х, Афганистан, Ирак, Чечня третьего тысячелетия от Рождества Христова… к сожалению, список можно продолжать долго» [6; 171].
В пьесе действуют три персонажа: Джоан, Харпер (ее тетя) и Тодд. Юные герои формируются под воздействием революции и вырастают циничными убийцами всего прекрасного на земле: растений, насекомых, животных и детей. Драматург создает пьесу-предупреждение, в финале которой террористка Джоан признается: «Когда ты делаешь первый шаг, ты еще не знаешь, что произойдет потом. Но в любом случае ты уже по щиколотку в воде» [6; 186]. Будущее стоит под угрозой тех действий, которые совершаются сегодня, здесь и сейчас.
Таким образом, своеобразие конфликтов драматургии Великобритании последних двадцати лет определяется:
- обращением к предшествующей литературной и культурной традиции, не только национальной, но и мировой;
- стремлением констатировать кризисное состояние современной действительности, не предлагая возможных вариантов выхода из него;
- отсутствием возможности разрешения столкновений любого рода (внутри себя, семьи, страны, вовне), что порождает пессимистический взгляд на природу человека.
Библиографический список
Кормилов, С.И. Конфликт // Литературная энциклопедия терминов и понятий / под ред. А.Н. Николюкина. Ин-т научн. информации по общественным наукам РАН. – М. : НПК «Интелвак», 2003. – Стб. 392–393.
- Мак-Донах, М. Королева красоты / пер. с англ. В. Хитрово-Шмырова ; вст. В. Ряполовой // Современная драматургия. 2000. – № 4. – С. 126–145.
- Мак-Донах, М. Лейтенант с Инишмора / пер. с англ. и вст. П. Руднева // Современная драматургия. – 2007. – № 2. – С. 120–141.
- Титли, А. Годо приходит / пер. с англ. Т.А. Михайловой // Иностранная литература. – 2007. – № 6. – С. 126–167.
- Хэйр, Д. Поцелуй Иуды / пер. с англ. С.Э. Таска // Иностранная литература. – 2007. – № 5. – С. 134–199.
- Черчилл, К. Там вдали / пер. с англ. и вст. А. Гениной // Иностранная литература. – 2007. – № 1. – С. 170–186.
- Шеффер, П. Соглядатай (Ионадав) / пер. с англ. и вст. С.Э. Таска // Иностранная литература. – 2006. – № 4. – С. 3–69.
| ЛИНГВИСТИКА и МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ |
УДК 81’374
КОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНОЛОГИИ
КОГНИТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ТЕРМИНА «КОНЦЕПТ»)
Ю.В. Ведерникова
В статье проводится анализ определений термина «концепт», выявляются общие черты и отличия определений, подтверждается положение о «мягкой» структуре терминологии гуманитарных областей знаний.
В рамках современной антропоцентрической парадигмы назрела необходимость посмотреть на язык с точки зрения его участия в познавательной деятельности человека [8, с. 9]. Исследованием этого занимается когнитивная лингвистика – направление сравнительно новое, молодое; в нем много дискуссионных моментов как в теоретических вопросах, так и в исследовательской практике, в методах исследования [9, с. 3].
Если говорить о становлении когнитивной лингвистики как самостоятельной научной дисциплины, то нужно формировать ее категориально-понятийный аппарат, потому что выработка метаязыка описания – первоочередная и важная задача науки. При этом нужно отметить, что терминологическая система когнитивной лингвистики характеризуется не столько новыми терминами, сколько уточненными и унифицированными терминами, уже имеющимися в лингвистике или заимствованными из других наук, в связи с чем при их трактовке возникает множество споров и разногласий по поводу того или иного понятия [8, с. 13].
Однозначность термина в рамках конкретной терминологии традиционно считается одним из ведущих критериев. Это связано в первую очередь с тем, что многозначность того или иного термина воспринимается как недостаток, создающий путаницу в научных представлениях, затрудняя тем самым общение специалистов. С другой стороны, это требование диктуется и тем, что термин занимает определенную позицию в системе понятий той или иной терминосистемы. Отсюда следует, что в идеале термин должен изначально иметь одно ограниченное и твердо фиксированное содержание, которое выполняет функцию адресации к определенному узлу понятийной системы. Поэтому в пределах одной терминосистемы многозначность терминов традиционно считается недопустимой. Однако знакомство с научными текстами в сфере когнитивной лингвистики показывает, что многие термины оказываются в действительности многозначными. В частности, это связано с тем, что когнитивная лингвистика, относящаяся к гуманитарной области знания, обладает мягкой структурой, а ее терминосистема характеризуется как нечеткие множества в отличие от точных наук, терминосистемы которых, как правило, являются жесткими и фиксированными. Поэтому своей задачей мы ставим исследование информационно-семиотической природы терминологии когнитивной лингвистики, что предполагает изучение соответствующего терминополя и терминосистемы, а также семиотических отношений, которые связывают данные термины в единое семиотическое пространство когнитивной лингвистики.
Словарное дело в каждой стране – неотъемлемая часть культуры. При этом очень трудно найти словарь, который содержал бы всю необходимую терминологию и одновременно был бы достаточно компактен и удобен для использования [7, с. 4].
Нужно также учитывать и то, что каждая область знания оперирует определенной системой понятий, то есть терминополем. Научно определить какое-либо понятие можно, лишь точно установив, какое место оно занимает среди других понятий. При этом надо помнить, что термины, которые используются для обозначения этих понятий, образуют терминосистемы, отражающие понятийный аппарат той или иной области знания. Важно также помнить, что системные отношения термина – это именно то, что лежит в основе метаязыка, или языка «второго порядка», то есть является составляющим металингвистики.
Важно отметить, что даже отбор наиболее правильных и желательных для построения терминов признаков не может быть произведен для какого-либо понятия без учета его связей с другими понятиями. Определяя понятие, необходимо учитывать все его непосредственные, в том числе и чисто классификационные связи, и на основе этого формировать определение термина и его означаемое, соответствующие схеме развития понятий. Следовательно, при конструировании терминов необходимо установить, какое место занимает каждое понятие среди всех других понятий данной системы или данного классификационного ряда и в зависимости от этого осуществлять выбор концептов, которые должны быть положены в основу построения термина. Правильный выбор концептов позволяет термину выполнять системно-различительную функцию в определенной терминологической системе.
Именно поэтому наиболее удачной формой представления такого раздела, как когнитивная лингвистика, будет построение тезауруса, поскольку именно тезаурусное моделирование позволяет максимально четко и логично представить категориально-понятийную систему любой области знания.
Одним из первичных этапов тезаурусного моделирования является выделение ключевых терминов исследуемой области знаний, а также компонентный анализ, который позволяет разложить значение термина на составляющие элементы и определить, совпадают ли термины из разных источников в плане содержания (означают ли они одно и то же) при том, что план выражения у них одинаков (они обладают одной и той же знаковой оболочкой).
Рассмотрим принципы компонентного анализа на примере одного из базовых терминов когнитивной лингвистики – концепта.
Данный термин для этой науки является и старым, и новым одновременно. Несмотря на то, что впервые в отечественной науке он был употреблен С.А. Аскольдовым в статье «Концепт и слово» еще в 1928 году [1, с. 267], до 80-х гг. XX в. «концепт» не воспринимался как термин в научной литературе. Однако в конце прошлого века в связи с появившимися переводами англоязычной научной литературы на русский язык это понятие вновь возникает и в отечественной науке.
В настоящее время можно с уверенностью говорить о том, что термин «концепт» прочно вошел в терминосистему когнитивной лингвистики и является одним из ключевых понятий. Однако употребление этого термина у разных ученых отличается большой произвольностью, границы его размыты, и он часто смешивается с близкими по значению или языковой форме терминами. Дело в том, что «концепт» – это мыслительная категория, а следовательно, ненаблюдаемая, в связи с чем возникает большое количество разных трактовок и толкований. Следует также помнить, что данный термин в настоящее время фигурирует в исследованиях не только в области когнитивной лингвистики, но также философии, логики, психологии и культурологи. Каждая из этих наук дает свою интерпретацию данного термина. Поэтому этот термин и в когнитивной лингвистике несет на себе отпечаток внелингвистических исследований.
Рассмотрим некоторые определения термина «концепт» в рамках лингвистических работ.
По мнению Е.С. Кубряковой, концепт – это «термин, служащий объяснению единиц ментальных или психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [6, c. 90].
З.Д. Попова дает следующее определение. Концепт – это «дискретное ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и несущее комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении общественного сознания к данному явлению или предмету» [9, c. 34].
Обратимся к рабочему определению термина «концепт» в работе В.А. Масловой. Концепт – это «семантическое образование, отмеченное лингвокультурной спецификой и тем или иным образом характеризующее носителей определенной этнокультуры. Концепт, отражая этническое мировидение, маркирует этническую языковую картину мира и является кирпичиком для строительства «дома бытия» (по М. Хайдеггеру). Но в то же время – это некий квант знания, отражающий содержание всей человеческой деятельности. Концепт не непосредственно возникает из значения слова, а является результатом столкновения словарного значения слова с личным и народным опытом человека (по Д.С. Лихачеву). Он окружен эмоциональным, экспрессивным, оценочным ореолом» [8, с. 36].
Согласно Ю.С. Степанову, концепт – это «идея, включающая абстрактные, конкретно-ассоциативные и эмоционально-оценочные признаки, а также спрессованную историю понятия» [11, с. 41–42].
А. Соломоник определяет концепт как «абстрактное научное понятие, выработанное на базе конкретного житейского понятия» [10, с. 246].
В.И. Карасик характеризует концепты как «ментальные образования, которые представляют собой хранящиеся в памяти человека значимые осознаваемые типизируемые фрагменты опыта» [4, с. 59], а также как «многомерное ментальное образование, в составе которого выделяются образно-перцептивная, понятийная и ценностная стороны» [4, с. 71].
А. Вежбицкая понимает под концептом «объект из мира «Идеальное», имеющий имя и отражающий культурно-обусловленное представление человека о мире «Действительность» [2, с. 204].
Р.М. Фрумкина определяет концепт как «вербализованное понятие, отрефлектированное в категориях культуры» [12, с. 60].
По мнению А.А. Залевской, концепт – это «объективно-существующее в сознании человека перцептивно-когнитивно-аффективное образование динамического характера» [3, с. 39].
В.В. Красных, в свою очередь, считает, что концепт – это «максимально абстрагированная идея «культурного предмета», не имеющего визуального прототипического образа, хотя и возможны визуально-образные ассоциации, с ним связанные» [5, с. 272].
Интерпретация термина «концепт» отнюдь не исчерпывается данными определениями, однако рассмотрение всех дефиниций невозможно и нецелесообразно в рамках данной работы, поэтому ограничимся вышеуказанными определениями для проведения компонентного анализа.
Для начала остановимся на некоторых общих чертах, присущих, по крайней мере, части определений.
Во-первых, несколько авторов сходятся во мнении, что концепт – это минимальная единица. Однако, по мнению Е.С. Кубряковой, – это «единица ментальных и психических ресурсов сознания» [6, c. 90], а также «единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua mentails), всей картины мира » [6, c. 90]. З.Д. Попова считает, что это «единица мыслительного кода» [9, c. 34], в то время как В.А. Маслова говорит, что это «квант знания» [8, с. 36] (считаем допустимым соотнесение понятий «единицы» и «кванта» (как минимальной единицы энергии) в рамках данных определений).
Во-вторых, концепт, по мнению некоторых, – это образование. В свою очередь, следует отметить, что З.Д. Попова и В.И. Карасик считают его ментальным, тогда как В.А. Маслова признает его семантическим. А.А. Залевская, однако, полагает, что это «перцептивно-когнитивно-аффективное образование» [3, с. 39].
Такие авторы, как Ю.С. Степанов и В.В. Красных считают, что концепт – это некая абстрагированная идея.
Многие авторы сходятся на том, что концепт обладает оценочной компонентой:
- «отношение общественного сознания к данному явлению или предмету» (З.Д. Попова) [9, c. 34];
- «эмоционально-оценочные признаки» (Ю.И. Степанов) [11, с. 41-42];
- «оценочный ореол» (В.А. Маслова) [8, с. 36];
- «ценностная сторона» (В.И. Карасик) [4, с. 71];
- «отрефлектированное» понятие (А. Вежбицкая) [2, с. 204].
Позволим сделать некоторое допущение, посчитав, что под понятием «отрефлектированный» А. Вежбицкая понимает некоторую оценочную компоненту, так как рефлексия есть анализ и размышление, которому неизбежно будет сопутствовать оценка анализируемого.
Следующим общим для нескольких определений признаком является связь концепта с общественным опытом. Такую связь видят З.Д. Попова («результат познавательной деятельности общества» [9, c. 34]) и В.А. Маслова, которая считает, что концепт появляется, когда значение слова сталкивается «с личным и народным опытом» [8, с. 36], а также В.И. Карасик, определяющий концепт как «типизируемый фрагмент опыта» [4, с. 59].
В определениях А. Соломоника и Р.М. Фрумкиной отсутствует разграничение между терминами «концепт» и «понятие» (одно определяется через другое).
Очень многие из вышеуказанных авторов считают, что концепт ментален:
- «единица ментальных или психических ресурсов нашего сознания» (Е.С. Кубрякова) [6, c. 90];
- «ментальное образование» (З.Д. Попова, В.И. Карасик) [9, c. 34; 4, с. 59];
- «объективно-существующее в сознании человека» (А.А. Залевская) [3, с. 39].
Однако лишь немногие считают, что концепт вербализован, то есть выражен словесно. К таким авторам относятся Р.М. Фрумкина и А. Вежбицкая. В.В. Красных, в свою очередь, полагает, что даже в сознании концепт не имеет «визуального прототипического образа» [5, с. 272], а только лишь некоторые визуально-образные ассоциации, хотя и такое бывает не всегда.
В некоторых определениях можно выявить такой общий компонент, как многомерность концепта, или, как говорят авторы, его некоторые признаки. У В.А. Масловой их три: эмоциональный, экспрессивный и оценочный. Ю.С. Степанов объединяет эмоциональный и оценочный признаки в один – эмоционально-оценочный, а также добавляет абстрактный и конкретно-ассоциативный. В.И. Карасик также выделяет оценочный, или, по его словам, ценностный признак, а также добавляет еще два: образно-перцептивный и понятийный. А.А. Залевская, в свою очередь, выделяет три стороны концепта: перцептивную, когнитивную и аффективную.
Немаловажным, по мнению нескольких авторов определений, является связь концепта с культурой. Так, В.А. Маслова заявляет, что в концепте не только присутствует лингвокультурный компонент, но он также характеризует носителей определенной этнокультуры. А. Вежбицкая также подчеркивает культурную обусловленность концепта. Р.М. Фрумкина утверждает, что собственно оценка концепта производится посредством категорий культуры. И наконец, В.В. Красных говорит о концепте как об идее «культурного предмета» [5, с. 272].
Авторы некоторых определений, хотя и немногие, подчеркивают роль концепта в создании картины мира. Это Е.С. Кубрякова, которая называет концепт единицей всей картины мира, и В.А. Маслова, которая говорит также о том, что концепт помогает не только создавать, но и маркировать картину мира, причем эта картина мира является этнической.
Теперь поговорим о некоторых особенностях определений. Несмотря на то, что были отобраны определения концепта в сфере лингвистики, нетрудно заметить, что многие из них заимствуют понятия, термины и идеи из других областей знаний. Например, определение А. Вежбицкой некоторым образом перекликается с концепцией Платона о «мире идей» и «мире вещей». Другим автором, который обращается к категориям философии, является В.А. Маслова, заимствующая понятие «дома бытия» у М. Хайдеггера. Она же, описывая концепт как минимальную единицу, использует термин точной науки, а именно физики, – квант. Наконец, очень многие авторы прибегают к терминологической базе психологии, заимствуя у нее такие термины, как «образный», «перцептивный», «ассоциативный», «аффективный» и некоторые другие.
Также следует отметить абсолютно индивидуальные особенности некоторых из определений. К примеру, только З.Д. Попова считает, что концепт обладает упорядоченной внутренней структурой. Ю.С. Степанов полагает, что концепт обладает не только признаками, но и спрессованной историей понятия. А. Соломоник относит концепт к научным понятиям, вырастающим из житейского опыта, т. е. в его понимании концепт носит метаязыковой характер. А.А. Залевская подчеркивает динамичность концепта, то есть его способность к изменению. И, как уже было отмечено выше, В.В. Красных считает, что концепт не представлен в нашем сознании не только в качестве некоего семантического образования, но даже и некоторого визуального образа. По ее мнению, концепт иногда может быть представлен лишь в визуально-образных ассоциациях, которые связаны с ним.
Итак, проанализировав данные определения термина «концепт», можно заключить, что его структура действительно может быть охарактеризована как «мягкая» и что границы данного термина чрезвычайно размыты. В ходе анализа не удалось обнаружить ни одного признака, который присутствовал бы во всех определениях, однако некоторые определения группируются по одному или нескольким сходным признакам. Можно сказать, что определения В.А. Масловой и З.Д. Поповой несут в себе наибольшее количество общих признаков, но даже они не могут претендовать на абсолютную универсальность и точность. Следовательно, терминосистема когнитивной лингвистики требует дальнейшего уточнения и разработки.
Библиографический список
- Аскольдов, С.А. Концепт и слово / С.А. Аскольдов // Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. Антология. – М., 1997. – С. 267–279.
- Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание / А. Вежбицкая. – М. : Русские словари, 1996. – 231 с.
- Залевская, А.А. Психолингвистический подход к проблеме концепта / А.А. Залевская // Методологические проблемы когнитивной лингвистики, 2001. – С. 39.
- Карасик, В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / В.И. Карасик. – М. : Гнозис, 2004. – 390 с.
- Красных, В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? / В.В. Красных. – М. : Гнозис, 2003. – 375 с.
- Кубрякова, Е.С. Краткий словарь когнитивных терминов / Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина. – М. : ЦИИ МГУ, 1996. – 248 с.
- Марчук, Ю.Н. Основы терминографии : метод. пособие / Ю.Н. Марчук. – М. : ЦИИ МГУ, 1992. – 76 с.
- Маслова, В.А. Когнитивная лингвистика : учеб. пособие / В.А. Маслова. – Минск : ТетраСистемс, – 2004. – 256 с.
- Попова, З.Д. Когнитивная лингвистика / З.Д. Попова, И.А. Стернин. – М. : АСТ : Восток – Запад, 2007. – 314 с.
- Соломоник, А. Семиотика и лингвистика / А. Соломоник. – М. : Молодая гвардия, 1995. – 352 с.
- Степанов, Ю.С. Константы. Словарь русской культуры / Ю.С. Степанов. – М. : Языки русской культуры, 1997. – 824 с.
- Фрумкина, Р.М. Теории среднего уровня» в современной лингвистике / Р.М. Фрумкина // ВЯ. – 1996. – № 2. – С. 55–67.
УДК 81’33.373-374
ТЕЗАУРУСНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЧЕТКО-МНОЖЕСТВЕННОЙ ПРИРОДЫ АНГЛИЙСКИХ ГРАММАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЧАСТЕЙ РЕЧИ
Е. Ю. Горбунов
Статья посвящена разработке приемов моделирования плохо структурированных, так называемых «мягких» лингвистических систем, отражающих нечетко-множественную природу естественного языка в русле современной доказательно-экспериментальной парадигмы на материале английских грамматических терминов для обозначения частей речи.
В настоящее время модельное описание английской грамматики представлено значительным числом направлений, каждое из которых характеризуется своей специфической терминологией, а также различными семиотическими и таксономическими принципами. В результате, например, предметная область (ПО) «Английская морфология и морфосинтаксис» по-разному членится в работах современных грамматистов, а одни и те же лингвистические объекты получают различные терминологические обозначения. В итоге возникает терминологический разнобой, который проявляется в синонимии и полисемии английских морфологических и морфосинтаксических терминов, что крайне затрудняет не столько разыскания в области английской теоретической грамматики, сколько развитие таких прикладных дисциплин, как лингвистическая семиотика и синергетика, лингвистическая терминография, а также построение таких инженерно-лингвистических моделей и систем, как машинный перевод, автоматизация лингвистических исследований, компьютерная лингводидактика, компьютерная лексикология и лексикография.
Современная наука чаще всего имеет дело с прямо ненаблюдаемыми объектами и их совокупностями. Причиной этого является обычно принципиальная ненаблюдаемость внутренних свойств изучаемого объекта в связи с ограниченными способностями наших органов чувств и мозга. Так, сложные лингвистические явления невозможно прямо наблюдать из-за нерасчленимости или отсутствия прямой выраженности. Например, процесс анализа и синтеза текста в мозгу человека не поддается методу прямого (оперативного) наблюдения, т. к. это могло бы привести к нарушению целостности мозга. Невозможно также непосредственно наблюдать семную организацию слова, поскольку семы не имеют такого выражения, которое непосредственно воспринималось бы нашими органами чувств. В этом случае приходится использовать особый метод исследования – моделирование, который позволяет проникнуть во внутреннюю структуру исследуемых объектов [2, c. 78–79; 7, c. 10–11].
Предметные области в том виде, в каком они функционируют в сознании носителей языка, имеют характер нечетких лингвистических систем с ненаблюдаемыми прямо внутренними отношениями. Однако для моделирования ПО используются уже четкие лингвистические множества – модели, где аналог плана содержания включает основные семантические единицы ПО и их связи. Таким образом, реально существующая ПО любой терминологии представляет собой ненаблюдаемый нечеткий натурный объект, а в функции его упрощенной модели используются наблюдаемые четкие графы. При этом для моделирования семантических и формальных отношений в лингвистике используется тезаурусно-сетевая методика, базирующаяся на теории множеств, алгебры отношений и теории графов [1; 3, c. 9–26; 4; 5; 6; 8], что позволяет приводить нечеткие лингвистические совокупности к четким множествам дискретных лингвистических элементов.
В связи с положением о бинарной природе терминологического знака (ТЗ), терминологию любой ПО можно моделировать с учетом выбора одного из следующих критериев:
- критерий формального сходства между ТЗ в плане выражения (здесь исследователь ориентируется на означающее ТЗ);
- критерий понятийно-функционального схождения ТЗ (в этом случае мы ориентируемся на их означаемые).
Построение терминологии в технических и естественных науках опирается на предположение о полной симметрии означаемого и означающего в знаке. Поэтому уже существующие тезаурусы по научно-технической терминологии моделировались с позиций первого, формального подхода к исследуемым терминам. В результате такого моделирования, разметка терминосистемы (план выражения) механически переносится на терминополе (план содержания), исходя из принимаемого по умолчанию предположения, что между означаемым и означающим существует одно-однозначное отношение. Если такое облегчающее задачу исследователя предположение (принципиально неверное) связано со сравнительно небольшой потерей научной информации в достаточно жестко формируемых и контролируемых технических и естественнонаучных терминологиях, то в гуманитарных науках, где асимметрия между означаемыми и означающими ТЗ обнаруживается на каждом шагу, такой упрощающий подход ведет к значительным потерям ценной научной информации.
На материале тезаурусного моделирования терминов для обозначения частей речи в ПО «Английская морфология и морфосинтаксис» показаны два семиотических подхода к построению лингвистических классификационных моделей: формальный, ориентирующийся на означающее ТЗ (рис. 1), и понятийно-функциональный (рис. 2), опирающийся на его означаемое.
Первый, т. е. формальный, подход оправдывает себя при моделировании грамматических систем языков синтетического (флективно-агглютинативного) «покроя».
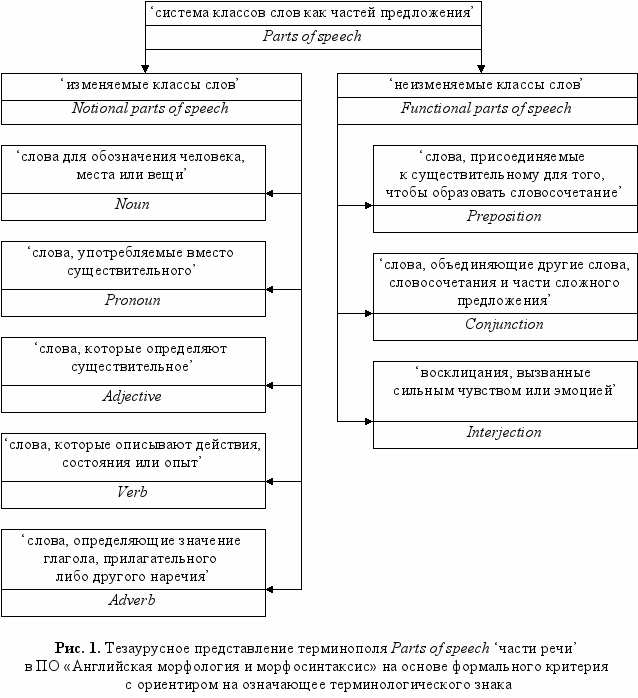
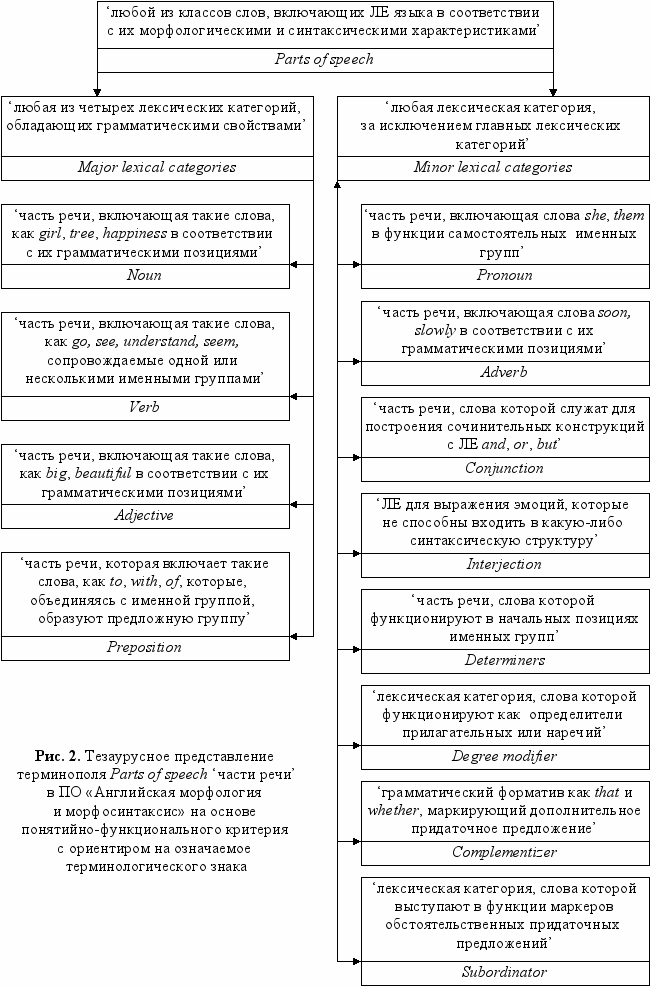
Применительно к «мягкой» системе ПО «Английская морфология и морфосинтаксис» эффективнее использовать второй подход, опирающийся на компонентный анализ. Ведь только он позволяет выявить лексические и морфосинтаксические примитивы в языке аналитического строя, определяющие положение рассматриваемой лексической единицы (ЛЕ) в терминологической системе. Компонентный анализ интенсионалов терминов для обозначения частей речи в схеме по П. Мэтьюзу [9], построенной по формальному критерию, и классификационной модели, построенной, исходя из функционального и частично понятийного критериев, в версии схемы Р. Траска [10], позволил выявить ненаблюдаемые расхождения между наборами примитивов. В качестве иллюстрации сопоставим интенсионалы трех терминов из сравниваемых таксономий, а именно Pronoun ‘местоимение’, Adverb ‘наречие’ и Conjunction ‘союз’.
Так, объем интенсионала ТЗ Pronoun в схеме Мэтьюза превышает интенсиональный объем термина Pronoun в классификации Траска. Это объясняется тем, что автор понятийно-функционального подхода исключил из класса местоимений неопределенные (many, few, no, some, several, all), притяжательные (my, your, her) и указательные (this, these, that) местоимения. Соответственно в интенсионале ТЗ Pronoun Траска, помимо отсутствия категориальной семы ‘род-пол’, также не предполагается наличие таких сем, как ‘неопределенность’, ‘обладание’, ‘обобщенность’ и ‘указание’. Эти семы включаются в интенсионал другого в схеме Траска термина, а именно Determiners ‘определители’. В совокупности в объем интенсионала ТЗ Pronoun классификации Мэтьюза входят наборы примитивов интенсионалов ТЗ Pronoun и ТЗ Determiners из схемы Траска. Однако интенсионал ТЗ Pronoun классификации Мэтьюза не предполагает наличия морфосинтаксической семы ‘начальная позиция в предложении’, которая характеризует функциональную природу интенсионалов терминов Pronoun и Determiners из схемы Траска.
Далее, объем интенсионала ТЗ Adverb схемы Мэтьюза больше, чем объем интенсионала ТЗ Adverb из классификации Траска. Это объясняется тем, что последний автор исключил из класса наречий те ЛЕ, которые указывают на степень выражаемого качества. Следовательно, в интенсионале термина Adverb Траска отсутствуют лексико-грамматические семы ‘качество’ и ‘степень’. Перечисленные примитивы формируют объем интенсионала другого в понятийно-функциональной классификации термина, а именно Degree modifier ‘определитель степени’. В совокупности объем интенсионала ТЗ Adverb классификации Мэтьюза включает в себя примитивы интенсионалов терминов Adverb и Degree modifier из схемы Траска.
В результате сопоставления интенсионалов ТЗ Conjunction в обеих классификациях выясняется, что объем интенсионала термина Мэтьюза превышает объем интенсионала термина Траска. Это объясняется тем, что под союзами Траск понимает только те ЛЕ, которые традиционно считаются Мэтьюзом и другими представители формального подхода сочинительными союзами. Соответственно в интенсионале термина Conjunction Траска отсутствуют такие семы, как ‘время’, ‘намерение’, ‘предосторожность’, ‘предположение’, ‘причина’, ‘условие’ и ‘цель’, а также морфосинтаксическая сема ‘подчинительная связь’. Перечисленные примитивы распределяются в понятийно-функциональной схеме Траска по интенсионалам терминов Complementizer ‘дополнитель’ и Subordinator ‘подчинитель’. В совокупности объем интенсионала ТЗ Conjunction классификации Мэтьюза включает в себя примитивы интенсионалов терминов Conjunction, Complementizer и Subordinator из схемы Траска.
Таким образом, выявление, систематизация и унификация глубинных механизмов исследуемой ПО возможны только при компонентном анализе интенсионалов моделируемых терминов с выделением набора примитивов, выступающего в качестве доказательно-экспериментального инструмента упорядочения плохо структурируемых грамматических объектов с нечетко-множественной природой. Такой подход позволяет уменьшить сложности, связанные с моделированием «мягких» грамматических систем, которые характерны для лингвистики, равно как и для других гуманитарных ПО, а также минимизировать информационные потери.
Библиографический список
- Алексеев, П.М. Частотные словари : учеб. пособие / П.М. Алексеев. – СПб. : Изд-во СПб. гос. ун-та, 2001. – 156 с.
- Апресян, Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики : краткий очерк / Ю.Д. Апресян. – М. : Просвещение, 1966. – 302 с.
- Дюбуа, Д. Общий подход к определению индексов сравнения в теории нечетких множеств : пер. с англ. / Д. Дюбуа // Нечеткие множества и теория возможностей. Последние достижения : сб. ст. / под ред. Р.Р. Ягера. – М. : Радио и связь, 1986. – С. 9–26.
- Заде, Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений : пер. с англ. / Л. Заде. – М. : Мир, 1976. – 165 с.
- Налимов, В.В. Язык вероятностных представлений / В.В. Налимов. – М. : Изд-во АН СССР, 1976. – 60 с.
- Налимов, В.В. Непрерывность против дискретности в языке и мышлении / В.В. Налимов. – Тбилиси. : Изд-во Тбилис. ун-та, 1978. – 8 с.
- Пиотровский, Р. Г. Лингвистический автомат: (в исследовании и непрерывном обучении) : учеб. пособие / Р. Г. Пиотровский. – СПб. : Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена, 1999. – 25 с.
- Фор Р. Современная математика : пер. с фр. / Р. Фор, А. Кофман, М. Дени-Папен ; под ред. А. Н. Колмогорова. – М. : Мир, 1966. – 27 с.
- Matthews P.H. Morphology: an introduction to the theory of word-structure / P.H. Matthews. – Cambridge : Cambridge univ. press, 1974. – 24 p.
- Trask R.L. Key concepts in language and linguistics / R.L. Trask. – London ; New York : Routledge, 1999. – 37 p.
УДК 81′42: 008
ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ФЕНОМЕНЫ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ
Ю.И. Горбунов
В настоящей статье рассматривается один из фрагментов понятийного поля лингвокультурологии, который включает прецедентные феномены. Материал исследования охватывает явления французской и русской лингвокультур в сопоставительном плане, что имеет особую ценность для студентов, обучающихся по направлению «Лингвистика и межкультурная коммуникация».
В 90-х гг. ХХ века в языкознании происходит новый поворот, в основе которого лежит тезис о том, что язык – это не только система разноуровневых единиц, но и история, культура, традиции, дух народа. Данный тезис послужил толчком для формирования нового междисциплинарного направления в лингвистике – лингвокультурологии, которая располагается на стыке лингвистики, страноведения и культурологии и исследует проявления культуры народа, отраженной и закрепленной в его языке. Лингвокультурология непосредственно связана с изучением национальной картины мира, языкового сознания, особенностей ментально-лингвального комплекса (Красных, 2002: 12).
По мнению В.В. Воробьева, лингвокультурология как научная дисциплина характеризуется рядом специфических особенностей:
- это научная дисциплина синтезирующего типа, пограничная между науками, изучающими культуру, и филологией (лингвистикой);
- основным объектом лингвокультурологии являются взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в процессе его функционирования и изучение интерпретации этого взаимодействия в единой системной целостности;
- предмет лингвокультурологии – национальные формы бытия общества, воспроизводимые в системе языковой коммуникации и основанные на его культурных ценностях, все, что составляет «языковую картину мира»;
- объективная, полная и целостная интерпретация культуры народа требует от лингвокультурологии системного представления культуры народа в его языке, в их диалектическом взаимодействии и развитии, а также разработки понятийного ряда, который способствует формированию современного культурологического мышления (Воробьев, 1997).
В результате анализа научных источников (научных статей, монографий и т. п.) в предметной области лингвокультурологии были выявлены ключевые понятия и термины, которые отражают основное содержание этой новой лингвистической области знаний. Компонентный анализ дефиниций ключевых терминов лингвокультурологии позволяет выявить их иерархическую зависимость, установить родо-видовую или гиперо-гипонимическую связь и представить их в виде синоптической схемы, которая является основой разрабатываемого нами «Тезауруса лингвокультурологических терминов» и связанного с ним «Тезауруса французской лингвокультуры» (см. табл. 1).
Таблица 1
Синоптическая схема лингвокультурологии
| Лингвокультурология | ||
| Языковая личность | ||
| Языковая картина мира | ||
| Ментефакты | ||
| Знания | Культурные концепты | Представления |
|
|
|
В статье рассматривается один из фрагментов понятийного поля лингвокультурологии, который включает прецедентные феномены. Материал исследования охватывает явления французской и русской лингвокультур в сопоставительном плане, что имеет особую ценность для студентов, обучающихся по направлению «Лингвистика и межкультурная коммуникация».
Прецедентные феномены включают следующие явления:
- хорошо известные всем представителям национально-лингвокультурного сообщества (имеющие сверхличностный характер);
- актуальные в когнитивном (познавательном и эмоциональном) плане;
- обращение (апелляция) к которым постоянно возобновляется в речи представителей того или иного национально-лингвокультурного сообщества (Красных, 2002: 44–45)].
В общем плане различают следующие виды прецедентных феноменов:
- социумно-прецедентные феномены – феномены, известные любому среднему представителю того или иного социума (генерационного, социального, конфессионального, профессионального и т. д.) и входящие в коллективное когнитивное пространство, т. е. феномены, которые могут не зависеть от национальной культуры: общие, например, для всех мусульман (конфессональный социум) или для врачей (профессиональный социум);
- национально-прецедентные феномены – феномены, известные любому среднему представителю того или иного национально-лингвокультурного сообщества и входящие в национальную когнитивную базу;
- универсально-прецедентные феномены – феномены, известные любому среднему современному homo sapiens и входящие в «универсальное» когнитивное пространство («универсальную» когнитивную базу) (Красных, 2002: 50–51).
Прецедентные феномены включают прецедентные высказывания, имена, ситуации и тексты. Прецедентное высказывание – это репродуцируемый продукт речемыслительной деятельности, законченная и самодостаточная единица, которая может быть или не быть предикативной; сложный знак, сумма значений компонентов которого не равна его смыслу: последний всегда «шире» простой суммы значений; в когнитивную базу входит само прецедентное высказывание как таковое; прецедентное высказывание неоднократно воспроизводится в речи носителей языка. К числу прецедентных высказываний принадлежат цитаты из текстов различного характера (например, «Не спится, няня!», «Кто виноват?» и «Что делать?», «Ждем-с!»), а также пословицы (например, «Тише едешь – дальше будешь») (Красных, 2002: 49)].
Если обратиться к предметной области французской лингвокультурологии, то здесь обнаруживаются такие прецедентные высказывания, как:
- «Après moi le déluge!» – «После меня хоть потоп!», высказывание, приписываемое французскому королю Людовику XV, который тем самым выражал свое полное презрение к тому, что будет после него;
- «Chercher la femme!» – «Ищите женщину!», цитируемое часто высказывание, смысл которого состоит в том, что причиной всех мужских бед является исключительно женщина.
Прецедентное имя – это индивидуальное имя, связанное или с широко известным текстом, как правило, относящимся к прецедентным (например, Печорин, Теркин), или с прецедентной ситуацией (например, Иван Сусанин); это своего рода сложный знак, при употреблении которого в коммуникации осуществляется апелляция не к собственному денотату (референту), а к набору дифференциальных признаков данного прецедентного имени; может состоять из одного (например, Ломоносов) или более элементов (например, Куликово поле, «Летучий голландец»), обозначая при этом одно понятие (Красных, 2002: 48).
Во французской лингвокультурологии в качестве прецедентных имен рассматриваются:
- персонажи волшебных сказок, имена которых приобрели нарицательный характер, как то:
- «Le Petit Chaperon Rouge» – «Красная шапочка» – персонаж сказки Ш. Перро того же названия (1697), который воплощает образ ребенка, пережившего большую опасность и который представляет собой символ открытости и доверчивости;
- «Le Petit Poucet» – «Мальчик-с-пальчик» – персонаж сказки Ш. Перро того же названия (1697), который является символом сообразительности и находчивости;
- «Le Petit Prince» – «Маленький принц» – персонаж философской сказки А. де Сент-Экзюпери того же названия, который является символом чистоты и поэтичности;
- персонажи популярных комиксов и мультфильмов:
- «Pif (le chien)» – «(собака) Пиф» – персонаж из комиксов, созданный Ж.К. Арналем (J. Arnal, 1909–1982); впервые появился на страницах газеты «Юманите» («Humanite») в 1948 году; Пиф – воплощение находчивости;
- «Asterix (le Gaulois)» – «Астерикс (житель Галлии)» – персонаж комиксов и мультфильмов, создателями которых являются А. Юдерзо (Albert Uderzo, 1927) и Р. Гошиньи (Rene Goscinny, 1926–1978). Уроженец Бретани, он храбро сражается с римскими солдатами, является воплощением французского характера: маленький, насмешливый, лукавый, патриот своей родины;
- «Obelix» – «Обеликс» – персонаж комиксов и мультфильмов об Астериксе (житель Галлии: сильный, добрый и наивный);
- персонажи литературных произведений:
- Эмма Бовари – Emma Bovary – главная героиня одноименного романа Г. Флобера, олицетворяет символ скучающей женщины. От фамилии героини образован глагол bovariser – скучать, предаваться романтическим мечтам, а также имя существительное bovarysme («боваризм»), которое в словаре «Малый Робер» определяется как «évasion dans l’imaginaire par insatisfaction» (NPR 2006: 295);
- Растиньяк – Rastignac – персонаж из романов О. де Бальзака цикла «Человеческая комедия» («La Comédie humaine»); употребляется как символ беззастенчивого карьериста;
- Тартюф – персонаж одноименной пьесы Мольера, олицетворяющий образ лицемера – притворного, неискреннего человека. В современном французском языке отмечается использование этого слова в качестве существительного («il s’y entend pour prendre des airs de tartufe, quand il veut») (R. Guerin), прилагательного («il, elle est un peu tartufe») (NPR 2006: 2569). Имеются также производные слова от прецедентного имени Tartufe (Tartuffe), например, tartuferie (tartufferie), n. f. (лицемерие): «Sa tartuferie me revolte. La tartuferie de son procédé» (NPR 2006: 2569);
- Гарпагон – Harpagon – персонаж пьесы Мольера «L’Avare» («Скупой»); олицетворяет собой крайнюю скупость, используется в современном французском языке как имя нарицательное: «harpagon» n. m.: «Homme d’une grande avarice. Un vieil harpagon» (PR 2006: 1247). Переводится на русский язык как: «гарпагон», «скряга» (Гак, Ганшина 2000: 531);
- Фигаро – Figaro – имя героя произведения Бомарше «Севильский цирюльник» («Barbier de Séville»), которое используется в разговорном французском языке в значении «парикмахер» (coiffeur) (NPR 2006: 1066), переводится на русский язык также как «цирюльник, брадобрей» (Гак, Ганшина, 2000: 457);
- прозвища, среди которых наиболее распространен «Gros Guillaume» – «Толстый Гийом»: это прозвище относится к Роберу Герену (Robert Guerin, dit Gros Guillaume, 1554–1634), популярному комическому актеру XII века, который играл в фарсах. Робер Герен был толст, подпоясан под грудью и под животом, благодаря чему его тело имело форму винной бочки, лицо густо обсыпано мукой, которая летела во все стороны, когда он двигался. Робер Герен создал образ веселого балагура-мечтателя, имя которого стало нарицательным (см. Франция: ЛСС, 1997).
- прозвища, среди которых наиболее распространен «Gros Guillaume» – «Толстый Гийом»: это прозвище относится к Роберу Герену (Robert Guerin, dit Gros Guillaume, 1554–1634), популярному комическому актеру XII века, который играл в фарсах. Робер Герен был толст, подпоясан под грудью и под животом, благодаря чему его тело имело форму винной бочки, лицо густо обсыпано мукой, которая летела во все стороны, когда он двигался. Робер Герен создал образ веселого балагура-мечтателя, имя которого стало нарицательным (см. Франция: ЛСС, 1997).
- Эмма Бовари – Emma Bovary – главная героиня одноименного романа Г. Флобера, олицетворяет символ скучающей женщины. От фамилии героини образован глагол bovariser – скучать, предаваться романтическим мечтам, а также имя существительное bovarysme («боваризм»), которое в словаре «Малый Робер» определяется как «évasion dans l’imaginaire par insatisfaction» (NPR 2006: 295);
- персонажи литературных произведений:
- «Pif (le chien)» – «(собака) Пиф» – персонаж из комиксов, созданный Ж.К. Арналем (J. Arnal, 1909–1982); впервые появился на страницах газеты «Юманите» («Humanite») в 1948 году; Пиф – воплощение находчивости;
Помимо этого следует отметить, что в современном французском языке словосочетание gros Guillaume используется также в качестве названия хлеба для слуг, выпекаемого из дешевой муки грубого помола. Возникновение такого названия объясняется, в частности, фонетическими причинами. Во французском обществе сложилась установка ассоциировать фонему [g] со словами, имеющими снисходительные, грубые коннотации, что прослеживается в словах guignol (простофиля, гиньоль), guilledou (courir le guilledou – шататься по злачным местам, прожигать жизнь). Аналогично рассматривается и gros Guillaume, благодаря аллитерации gr – g (см. Степанова, 2004: 9).
Другие прозвища:
- «Король-солнце» – Roi-Soleil – прозвище короля Людовика ХIV (Louis XIV), стремившегося к созданию культа королевской власти: король – наместник Бога на земле, центр жизни страны. Прозвище, прославляющее короля, распространялось средствами искусства того времени (архитектуры, живописи, музыки, балета), которым свойственна роскошь, масштабность, организация вокруг единого центра.
- «Король-буржуа» – Roi-bourgeois – прозвище, полученное Луи-Филиппом Орлеанским (Louis-Philippe d’Orléans, 1773–1850) после свержения Бурбонов в 1830 году.
- «Ленивые короли» – Rois fainéants – прозвище последних королей из династии Меровингов, царствовавших в 639–751 гг. (от прозвища короля Хлодвига II-Лентяя, Clovis II le Fainéant, 639–657). Реальная власть все больше переходила к мажордому или к первому служителю королей, которых затем стали называть хозяевами дворца. На смену династии Меровингов пришла династия Каролингов (751), основателем которой был Пипин Короткий.
Прецедентная ситуация – это некая «эталонная», «идеальная» ситуация, связанная с набором определенных коннотаций, дифференциальные признаки которой входят в когнитивную базу, означающим прецедентной ситуации может быть прецедентное высказывание или прецедентное имя, например, «Бородино» или «Бородинское сражение», которое в русской традиции является символом духовной победы русских над французами, в то время как во французской традиции принято иное название данной прецедентной ситуации, а именно: «la Bataille de Moscou» («Московская битва»), которая рассматривается во Франции как победоносное сражение, несмотря на большие потери и последовавшее затем бегство французских войск из России.
В качестве прецедентной ситуации можно рассматривать:
- «Столетнюю войну» – «Guerre de Cent Ans», которая велась между Англией и Францией с 1337 по 1453 гг. и представляла собой период феодальных смут и междоусобиц, знаменуемый победами французских войск под предводительством национальной героини Жанны Д'Арк, что привело к централизации французского государства.
- «Дело Дрейфуса» – «affaire Dreyfus» – дело по обвинению в шпионаже в пользу Германии офицера французского Генштаба, еврея Альфреда Дрейфуса. Стало предметом ожесточенной политической борьбы между реакционерами и демократами. В сентябре 1899 г. Дрейфус был помилован; полностью реабилитирован в июле 1906 г. (Франция: ЛСС, 1997: 31).
- «Варфоломеевскую ночь» – «la Saint-Barthélemy» – массовая «резня» гугенотов католиками в Париже в ночь с 23 на 24 августа 1572 г. в праздник Святого Варфоломея, организованная Екатериной Медичи (1519–1589) и католической партией, возглавлявшейся Гизами. События Варфоломеевской ночи нашли свое отражение в художественной литературе, в частности в романе П. Мериме «Хроника царствования Карла IX («Chronique du règne de Charles IX», 1829).
К прецедентным феноменам относятся также имена известных художников, композиторов, деятелей культуры. В некоторых случаях их творчество, отдельные ситуации из их жизни находят свое отражение в лингвистической культуре французского народа. Так, в современном модном французском языке (le français branché) получило распространение выражение, связанное с картиной художника Ван Гога «Автопортрет с отрезанным ухом» avoir l’oreille Van Gogh – буквальный перевод: «иметь ухо Ван Гога», что означает «не чувствовать уха после продолжительного разговора по телефону», например:
«Deux heures, elle m’a tenu au telephone! Deux heures ! Je l’avais pas qu’un peu, l’oreille Van Gogh!» (DFB, 1999: 22).
Как известно, Ван Гог написал свой автопортрет, будучи в тяжелом душевном состоянии, под воздействием ссоры, происшедшей между ним и его другом – художником Гогеном, ссоры, которая привела к разрыву между ними. Сложившаяся ситуация получила широкую огласку, что определило ее прецедентный характер и отразилось во французском разговорном языке.
Термин «прецедентный текст» был введен Ю.Н. Карауловым, под которым он понимает тексты:
- значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношении;
- имеющие сверхличностный характер, т. е. хорошо известные широкому окружению данной личности, включая ее предшественников и современников;
- обращение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности (Караулов, 1987: 216).
Прецедентный текст – это законченный и самостоятельный продукт речемыслительной деятельности; (поли)предикативная единица; сложный знак, сумма значений компонентов которого не равна любому среднему члену национально-лингвокультурного сообщества; обращение к прецедентному тексту может многократно возобновляться в процессе коммуникации через связанные с этим текстом прецедентные высказывания или прецедентные имена.
К числу прецедентных текстов принадлежат:
- произведения художественной литературы, например, «Война и мир» («Le Rouge et le Noir»);
- политические публицистические тексты, в частности знаменитое письмо Эмиля Золя президенту Франции «J'accuse» – «Я обвиняю», опубликованное 13 января 1898 г., которое оказало большое влияние на формирование общественного мнения в связи с так называемым «делом Дрейфуса»;
- тексты песен:
- «Марсельеза» – «La Marseillaise» – гимн Французской Республики. «Марсельеза» возникла во время Великой французской революции как песня-«Марш Рейнской армии» (1792), на слова поэта Руже де Лиля и музыку Руже де Лиля и австрийского композитора Игнаса Плейеля. Под звуки этого марша летом 1792 года в Париж вошел марсельский полк, поэтому парижане назвали этот марш «Марсельезой»;
- «Карманьола» – «La Carmagnole» – народная революционная песня-пляска, имеет задорный и насмешливый характер. Впервые прозвучала на улицах Парижа после взятия Тюильри (10 августа 1792 г.), выражала ненависть восставшего народа к деспотизму, была самой популярной песней рабочих.
- «Марсельеза» – «La Marseillaise» – гимн Французской Республики. «Марсельеза» возникла во время Великой французской революции как песня-«Марш Рейнской армии» (1792), на слова поэта Руже де Лиля и музыку Руже де Лиля и австрийского композитора Игнаса Плейеля. Под звуки этого марша летом 1792 года в Париж вошел марсельский полк, поэтому парижане назвали этот марш «Марсельезой»;
В дальнейшем планируется провести более глубокий анализ содержания ключевых терминов лингвокультурологии, а также выявить диапазон их семантических отношений в пределах русской лингвокультурологии, с одной стороны, и в рамках французской лингвокультурологии, с другой.
Сопоставительный анализ тезаурусов двух лингвокультур позволит определить общие закономерности формирования языковой картины мира и выявить национально-специфические особенности русских и французских лингвокультурем.
Библиографический список
- Воробьев, В.В. Лингвокультурология (теория и методы) : монография / В.В. Воробьев. – М., 1997.
- Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – М., 1987.
- Красных, В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология : курс лекций / В.В. Красных. – М. : Гнозис, 2002.
- Степанова, И.И. Номинация мучных изделий в современном французском языке (лингвокультурологический аспект) : ввтореф. дис. ... канд. филол. наук / И.И. Степанова. – СПб. : Российск. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена, 2004.
Словари
- Гак, В.Г. Новый французско-русский словарь / В.Г. Гак, К.А. Ганшина. – М., 2000.
- Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В.Н. Ярцева. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – (ЛЭС, 1990).
- Франция : лингвострановедческий словарь / под ред. Л.Г. Ведениной. – М., 1997. – (Франция : ЛСС, 1997).
- Dictionnaire du français branché. – P., 1999. – (DFB, 1999).
- Le Nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue française. – P., 2000. – NPR, 2006.
