Ларионов Алексей Иванович, родился 11 января 1938 года, пенсионер, проживаю в городе Покачи, ул. Молодёжная, дом 9, кв. 29. На конкурс
| Вид материала | Конкурс |
- Дума города покачи ханты-Мансийский автономный округ Югра, 26.76kb.
- Доклад по химии: «Дмитрий Иванович Менделеев», 35.99kb.
- Александр Иванович Куприн, 121.34kb.
- Я, Сергей Иванович Васильев, родился 12 апреля 1974 года в г. Красный Лиман Донецкой, 22.39kb.
- Евгений Иванович Замятин родился 20 января 1884 года в городе Лебедяни в семье священнослужителя, 73.71kb.
- Приложение Наиболее выдающиеся меценаты конца 19-начала 20 вв в России, 170.8kb.
- Оходе выполнения программы «Пожарная безопасность на период 2004-2007 годы в городе, 15kb.
- Владимир Высоцкий, 146.89kb.
- 7. 09. 1970 -25. 08. 1938, 41.65kb.
- Реферат на тему: " Мне не стало хватать его " (о творчестве В. С. Высоцкого), 81.5kb.

Ларионов Алексей Иванович,
родился 11 января 1938 года, пенсионер, проживаю в городе Покачи, ул. Молодёжная, дом 9, кв. 29.
На конкурс к 65-ой годовщине Победы.
Со слезами на глазах…
«Этот День Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах…»
В 45-ом году в день 9 мая Мы давали концерт в госпитальном фойе. Нас, малявок детдомовских, слушал, вздыхая, Молодой офицер весь в бинтах и крови.
Принесли его няньки из особой палаты, Где лежали, кто мог в миг любой умереть. Захотелось ему, словно высшей награды, Наше пенье послушать, на детей посмотреть.
Ожила вдруг «тарелка», не та, что к обеду - Так народ репродуктор тогда окрестил, И о том, что пришла на планету Победа, С дрожью в голосе диктор страну известил.
На носилках с трудом он привстал сколько смог, Прошептал еле слышно: - Победа… Победа… Потянулся, вздохнул и навеки умолк, Не успев стать отцом и, тем более, дедом.
Схоронили его от родных мест не близко, «Похоронка» ушла в городок Кузнецов. С той поры о доныне на всех обелисках Сквозь гранит я его различаю лицо.
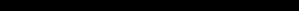
22 июня…
В тот день субботний чуть пораньше
Отец с заставы пришел домой.
Рюкзак – в коляску мотоцикла,
Меня – на бак, перед собой.
Мы о рыбалке с ним мечтали
Почти полгода и, наконец,
С приманкой, удочками, снедью
Мчим к нашей речке: я и отец.
Погода выдалась на славу:
Несильный ветер качал камыш,
И солнце красно-желтым шаром
Спускалось в омут с черепичных крыш.
Ершей с десяток наловили,
С дымком состряпали ушицу,
Её мы с аппетитом съели,
Отец велел мне спать ложиться.
Я долго не сопротивлялся:
О маме с братом чуть-чуть взгрустнул,
Залез в свой «спальник», повертелся,
Счастливым донельзя, заснул.
Проснулся я от дыма, взрывов,
Отец – в охапку и - в коляску.
И началась езда к заставе,
Езда, как бешеная пляска.
Меня, притормозив у дома,
Поцеловал и у окна
Поставил на ноги, вмиг скрылся…
Так началась для нас война!
Прошло немало зим и вёсен,
Уж голова моя совсем седа…
Июнь, число двадцать второе
Вписались в память навсегда.
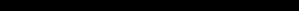
Поздравление
Наше детство прошло в годы самой жестокой войны,
Мы в голодные годы разрухи взрослели, мужали.
Возвращались домой чьи-то братья, отцы и сыны,
А у нас за войну не осталось, кого бы мы ждали.
В детском доме мы жили одною семьёю большой.
Нам страна отдала всё, что только в те годы сумела.
Научила любить, ненавидеть, работать с душой,
Жить по чести и совести: дружно, открыто и смело.
Своих названных братьев, сестёр я поздравить хочу
С юбилеем Победы народной великой, бесспорно.
Я, родные, вам всем через годы и вёрсты кричу:
- Я люблю вас и помню, надеюсь, что встретимся скоро!
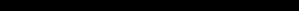
Моя семья
Нынче праздник у нас, к нам пришли наши дети и внуки,
Вновь в квартире царит суета и звучит громкий смех.
В ней в такие минуты нет места унынью и скуке,
А любви и тепла здесь хватает в избытке для всех.
И за нашим столом нам не тесно, хотя нас немало:
Мы с женою, три сына, три дочки-снохи и три внука,
Вместе нам хорошо и, как будто – бы их не бывало,
Исчезают тревоги, печали, болезни и скука.
Это – наша семья, и она для меня как награда,
Вспоминаю минувшие годы – богатство своё.
Не нажил я другого, да мне его, в общем, не надо,
И несёт меня память в далёкое детство моё.
Жил, как вся ребятня; были мать и отец, и братишка,
Жили мы на границе, где зыбкой была тишина.
Но и я, и друзья мои Петька, Серёга и Гришка
Были слишком малы, чтобы вникнуть в понятье «война».
А она ворвалась в нашу жизнь ранним утром в июне.
Самый длинный был день и короткая летняя ночь…
В этот день в искорёженном старом плацкартном вагоне
Нас везли от границы, от страшного бедствия прочь.
Но беда эшелон наш настигла под городом Гомель
Самолётом с крестами и бомбами в люках его.
Под откосы летели, горели на рельсах вагоны…
Помню крики и кровь на губах пацана одного.
Нас потом подобрали какие-то люди в халатах
И везли на телегах, и кто-то от страха орал.
Разместили нас в низеньких, маленьких, беленьких хатах,
Утром снова составы нас мчали вперёд, на Урал.
И уже рядом не было мамы, друзей и братишки,
А отец на границе погиб, защищая Отчизну, наш дом.
Я остался один, и с тех пор я ничьим был сынишкой,
Моим домом теперь стал далёкий уральский детдом.
Нас страна, даже кровью обильно в боях истекая,
Одевала, кормила, от бед и невзгод берегла.
Нам она и солдаты подарили Девятое Мая –
Праздник тот, за который застава отца полегла.
Семь исполнилось мне в январе сорок пятого года,
В мае пал Богом проклятый город фашистский Берлин.
Мир на Землю пришёл, и вздохнули свободно народы.
Слабый лучик надежды для нас засветился вдали.
Всё сложилось потом: и учёба, и жизнь, и работа.
Мне с женой повезло, не подводят меня сыновья.
И со мною теперь навсегда и любовь и забота –
Общий дом наш и общая наша большая семья.
И пока мою душу Господь не отправил на небо,
И пока я дышу, и при мне мои память и речь,
Говорю сыновьям: «Кем бы каждый из вас в жизни не был,
Честь, Любовь и Семью вы должны больше жизни беречь!»
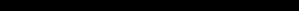
Не позабыть…
Мчат годы бурно, словно реки,
Мы забываем их, но вот
Мне в память врезался навеки
Кровавый сорок первый год.
Я был тогда ещё мальчишкой,
Счастливым, как и все в пять лет:
Отец и мать, грудной братишка,
В Ростове – бабушка и дед.
Солдат и офицеров лица,
Подъёмы в голубую рань…
И называлось всё – граница,
Наверное, от слова «грань».
За этой гранью находилась
Уже другая сторона.
Из-за неё к нам докатилась
Европу рвущая война.
Проснулся я от дыма, взрывов,
И пулей вылетел во двор.
Крыльцо горело, что-то выло,
Кусты горели и забор.
Отец, с лицом от крови красным,
Бежал к заветному крыльцу…
А дом горел. И ясно было,
Что не успеть уже отцу.
А в доме – брат грудной, и мама,
Крича, металась, видя смерть.
Отец бежал сквозь дым и пламя,
Бежал, чтоб их спасти успеть.
Он дверь ногою вышиб сходу,
И с дверью вместе в дом влетел…
Потом я буду думать годы:
-Успел он или не успел?
Кругом земля тряслась от взрывов,
Осколки рядом «хлоп» да «хлоп».
И старшина с плечом пробитым
С трудом втащил меня в окоп.
К его плечу, дрожа от страха,
Я так приник, закрыв глаза,
Что с кровью воина смешалась
Мальчишки горькая слеза.
А после – теснота вокзалов,
Мельканье вёрст, мельканье дней…
Страна советская спасала
Богатство главное – детей.
Нас увозили эшелоны к востоку,
Вглубь большой страны.
От пуль горячих, бомб жестоких,
От страха, смерти, от войны.
И нам, седыми ставшим рано,
Не позабыть, не позабыть,
Россию, павших, ветеранов,
Нам давшим счастье, счастье - жить!!!
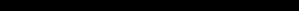
Мой друг – Володька
На штыках на солдатских Победа
Наконец – то пришла, до-жда-лись…
И любые, казалось нам, беды
Далеко навсегда унеслись.
Но судьба, видно, выпала злая:
Вдоволь хлеба не евшим «малькам»
Суждена была доля такая,
Что под силу не всем мужикам.
По погибшим не все отрыдали,
И пропавших не каждый нашёл.
По дорогам, войною разбитым,
В нашу жизнь страшный голод вошёл.
Был дружок у меня – Львов Володька,
Он в войну меня брюквой кормил:
Воровал на чужом огороде
И тайком мне в детдом приносил.
А теперь вместе с ним мы бродили
По полям и лесным полосам.
Там еду и себе находили
И таскали в детдом пацанам.
Мы из гнёзд яйца птиц забирали,
Дикий мёд воровали у пчёл,
Мы всегда вместе с ним «промышляли».
Но однажды один он пошёл.
Так никто до сих пор и не знвет,
Где гранату найти он сумел,
Что и как он с гранатою делал,
Но на воздух Володька взлетел.
Мы его хоронили всем классом.
На могиле – из жести звезда…
С той поры и до смертного часа
Боль осталась в душе навсегда.
Хоть прошло уже времени столько,
Но клянусь тебе, названный брат,
Той гранаты фашистской осколки
До сих пор в моё сердце летят.
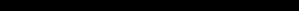
Татуировка
(На стихотворение Е. Винокурова «Незабудки»)
Прочесть мне было суждено
Стихи из моря слов и точек,
Но в память врезалось одно,
А в нём – всего лишь восемь строчек.
О том, что в поле за рекой,
Среди кровавых незабудок
Лежал убитый – молодой
Солдат, в шинели, без обуток.
Лежал от дома вдалеке,
Недвижным взором в небо глядя,
Татуировка на руке
Синела нежным словом «Надя».
Убитый будто бы хотел,
Чтоб каждый, проходящий мимо,
На слово «Надя» посмотрел
И вспомнил о своей любимой.
Прошло немало дней и лет,
Но в памяти мне не изгладить
Кровавых незабудок цвет
И ту татуировку – «НАДЯ».
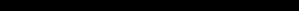
Мы дошли!
Когда победные салюты
Осветят небо над Москвой,
И головы свои седые
Опустим скорбно мы с тобой…
Когда, чеканя шаг, солдаты
По Красной площади пройдут,
И марш «Прощание славянки»
Оркестра звуки донесут…
А траки танков из брусчатки
Снопами высекут огонь,
И, сидя на броне, солдатик
Растянет тульскую гармонь…
Мы вспомним всех, кто в сорок первом
Под Брестом голову сложил,
Чтоб я и ты, ребенок каждый
До дня победного дожил.
Увидим дым, снарядов взрывы,
Услышим «мессершмитов» вой …
Отцов, что грудью заслонили,
Страну свою и нас с тобой.
Услышим как с киноэкрана
Мы комиссарские слова:
« Нам отступать нельзя ни шагу –
У нас за спинами – Москва!
Нас возвращая в сорок первый,
Покажет скорбный тот экран,
Как летчик Виктор Талалихин
Воздушный совершил таран.
Как под деревнею Чернушки
Матросов лег на вражий дзот,
На скопище фашистских танков
Гастелло бросил самолет.
Как сумрачным морозным утром
Метель в Петрищево мела,
Космодемьянскую босую,
Что гордо к виселице шла.
И как сквозь сон себя увидим
В огне пожарищ и в дыму,
С глазами, круглыми от страха,
Не понимавших, что к чему…
К концу войны мы повзрослели,
Кто выжил; те, кто не дожили,
Как и бойцы, что воевали,
Людскую память заслужили.
Я б рядом с бронзовым солдатом
В аллее скорбной тишины
Такой же памятник поставил
Всем детям – жертвам той войны.
Потом увидим сорок пятый:
Берлина штурм, рейхстаг в огне,
Над ним – Победы нашей знамя,
Автограф на его стене.
Его танкист иль пехотинец,
Писал от Родины вдали
Пропахшей порохом рукою
Всего два слова: « Мы дошли!!!»
А маршал Жуков непреклонный,
Как в завершенье всех атак,
С дрожащим Кейтелем подпишет
Капитуляции их акт.
Сегодня, в светлый День Победы,
Тех вспомним, кто дожить не смог…
И пусть от войн, навек проклятых,
Спасет нас всемогущий Бог!
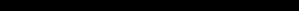
Плач матерей…
Давно закончилась война,
Что наше детство опалила.
Отцов лишила нас она,
А матерей сынов лишила.
Всё дальше страшные года:
Ведь время как шальное скачет.
Но и сегодня, как тогда,
Всё так же горько мамы плачут.
Летят высоко журавли,
Курлыча, будто бы рыдая.
Так плачут матери Земли,
Сынов погибших вспоминая.
Плач по сынам, что полегли,
Летит сквозь годы и заставы.
Он рвётся криком из земли,
Как обелиски в Парке Славы!
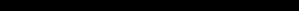
Потуши – ка лампу…
Потуши-ка лампу: свет такой от вишни, Кажется, что вечной будет наша жизнь: Над окном раскрытым белым цветом виснут
Ветки молодые, озаряя высь.
Ты запой тихонько песню о станице, Свет такой, что песня светится сама. Вижу дом родимый, синий свет криницы, Вижу довоенный над рекой туман.
Будто все живые, и улыбка деда… И станичной церкви колокольный звон. Радостный и горький первый День Победы! Слышу смех счастливый и отцовский стон.
Нежно пахнут ветки, и далёко слышно… На рубашке – струи белой тишины… Потуши-ка лампу: свет такой от вишни, Кажется, не будет никогда войны!
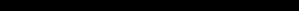
День Победы
Весна Победою венчала,
Венчала всех – живых и мёртвых.
От горя, радости кричала,
Надежды возвращала с фронта.
Я видел боль в глазах суровых…
Ремни… Линялые пилотки…
Россия улыбалась снова!
И песнями гремели глотки!
Танкист, соляркою пропахший,
Вдруг подхватил меня подмышки,
И над толпой, «У-р-ра!!!» кричавшей,
Меня он поднял, как сынишку.
И я, детдомовец со стажем,
Мир получив, как дар, в наследство,
Не мог тогда заплакать даже,
Но понял вдруг: вернулось детство…
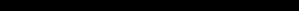
Мне сегодня не спится…
Мне сегодня не спится тёмной ночью глухой,
А засну – сразу снится мой посёлок родной,
Голубые криницы, что с хрустальной водой,
Обелиски в честь павших с ярко-красной звездой.
На исходе июня в сорок первом году,
Прикрепив на фуражки цвета крови звезду,
Уходили мужчины и мальчишки совсем,
Разделить злую долю, ту, что выпала всем.
Уходили на битву сыновья и отец,
Вместе с каской надевши свой терновый венец.
Уходили, прощаясь офицер и солдат,
Уходили с надеждой, что вернутся назад.
Но не всем довелось им возвратиться назад,
На просторах Европы в разных землях лежат.
Полегло за Победу, почитай, полсела…
Многих тех, кто вернулся, жизнь недолгой была.
И на сельском кладбище, будто скорбный парад,
Ровным строем повзводно обелиски стоят.
Остаётся всё меньше, кто прошёл этот ад
И назло всем смертям возвратился назад.
Мне обидно и стыдно, что хамьё всех мастей:
Из бездарных министров, депутатов-рвачей,
«Новых русских», чьи руки выше локтей в крови,
Призывают забыть то, что сделали Вы.
И никто почему-то им отпор не даёт,
Но я верю, что время этих тварей пройдёт.
И великий российский благодарный народ
Вспомнит Вас поимённо, гимн о каждом споёт.
Мне сегодня не спится тёмной ночью глухой,
А засну – сразу снится мой посёлок родной,
Голубые криницы с родниковой водой,
Обелиски в честь павших с ярко-красной звездой…
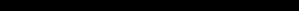
Ветераны
Медсанбаты, медсанбаты…
Серп луны, как скальпель острый.
Счастья сроки, жизни даты
Воскрешали Вы непросто…
Снова сердце бьётся птицей,
В девяносто – будто в тридцать.
Медсанбаты, медсанбаты
Вам веками будут сниться.
Ноют раны реже, тише,
Сад от неба синеватый…
Светит солнышко над крышей,
Как звезда над медсанбатом.
Светят празднично тюльпаны,
Тёплый дождик над Отчизной…
С Днём Победы! Ветераны!
С Днём бесценной Вашей жизни !
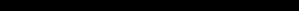
Ровесникам
Ровесники, и те, кто чуть постарше.
Нам всем сейчас уже за шестьдесят.
Для нас затихли бравурные марши,
И мы не те, что много лет назад.
А многие погодки не дожили,
Шестьдесят пятую не встретили весну…
Мы три войны кровавых пережили,
Объединённые историей в одну.
Отцы и братья старшие сражались
Сначала – с финнами, и с немцами – потом,
А после самураев добивали,
Сметая их и сталью и огнём.
Нам не пришлось за Родину сражаться,
Сердца свои бросать в пожар войны.
Но с детством рано нам пришлось расстаться:
Взрослеют быстро в горе пацаны.
С надеждой ожидая в сорок пятом
Отцов, сполна отвоевавших срок,
Не знали мы, что и в пятидесятом
Не все вернутся на родной порог.
Не знали мы, что нам ещё придётся
Несчастий полной мерою хлебнуть,
Что лиха много нам испить придётся,
Что трудным и тернистым будет путь.
Что от репрессий, беззаконья «троек»
И от застоя брежневских годов,
От горбачёвских псевдоперестроек
Докатимся до царственных орлов.
Сегодня многие плюют нам в душу,
Льют грязь на подвиг дедов и отцов.
И те о «ценностях» жужжат нам в уши,
Кто душу дьяволу продать готов.
Нас не сломили клевета и беды,
А подвиги отцов – нас вдохновляют…
С шестьдесят пятою весной Победы,
С великим праздником Вас поздравляю!
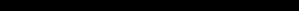
Память…
Под смертельный осколочный звон
На войне погибали родные…
И спешу я на бабушкин стон,
Я на слёзы спешу дорогие…
Те рубашки сынов молодых,
Что когда-то крестом вышивала,
Никогда после гибели их,
Никогда, никогда не стирала.
И, стыдясь, чтоб не видел никто -
Словно мог осудить её кто-то, -
Всё украдкой вдыхала святой
Горький запах родимого пота.
Проклинала ту вышивку-крест:
«Нужно б цветики алые вышить!
Маков цвет наших радостных мест –
Он помог бы вам, милые, выжить!»
Я рубашки к груди прижимал,
Будто слыша удары сердец,
Ведь в одной из них свадьбу справлял
Мой, на фронте погибший, отец.
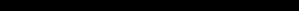
КОЛЬКА
(Повесть)
Предисловие.
Дорогой читатель! Это повествование - не совсем автобиография. Его герой Колька, это собирательный образ многих моих ровесников и людей несколько постарше. То, о чём я повествую, я узнал из рассказов моей матери и ещё многих людей, переживших в детстве все тяготы войны. Есть здесь и факты из моей биографии, и их не так уж мало. Но я использовал, пусть не в большой мере, но всё-таки и право автора на вымысел.
Много лет я проработал в детском доме в должностях от воспитателя до директора. Мне довелось встречаться со многими бывшими воспитанниками детского дома, слышать повествования о их нелёгкой жизни. Так что материала у меня накопилось очень много, и я не теряю надежды, что когда-нибудь напишу об этом поколении не маленький рассказ, а большую книгу.
А для того, чтобы читателю легче было отличить правду от вымысла, факты моей биографии от биографий других людей, я позволю себе кратко рассказать о своих истоках, о людях, родных и близких моему сердцу, а также о малой толике тех, с кем довелось мне жить рядом и работать.
Истоки (отец и мать)
Мой отец, Ларионов Иван Иванович - ровесник Революции, чем, как говорила мне мать, он страшно гордился, так как родился он 7 ноября (25 октября) 1917 года. Родился он на Ставрополье в овцеводческом районе, ныне именующемся Аппанасенковским, в селе Рагули. Его родители были крестьянами-середняками, но после революции обнищали, и дед занялся своеобразным промыслом: стал старьевщиком. С раннего утра до позднего вечера он ездил по окрестным хуторам и сёлам, собирая ветошь, лом медных изделий, кости животных и другую всячину. Не представляю, что он от этого имел, но семью содержал и даже умудрился учить в соседнем селе в школе сыновей (кроме отца был в семье старший сын - Степан). Двух же дочерей бабушка сызмальства приучала к ведению хозяйства и наука для них считалась излишней. В 16 и 17 лет они вышли замуж и ушли из семьи.
1
В 1934 году отец закончил 10 классов и поступил в сельхоз. училище, но вскоре оставил его и начал работать на нефтебазе, директором которой он стал в 20 лет за год до моего рождения.
Те, кто знал моего отца, говорят, что уже в этом возрасте он был личностью, причём, далеко не ординарной. Учился только на «ОТЛИЧНО», любое дело осваивал легко и быстро, и если уж дружил, то был в дружбе верен до фанатизма. А если ненавидел, то бескомпромиссно, жёстко и всей душой.
Но «на границе уже ходили хмуро тучи» и «в воздухе пахло грозой». Мать говорила, что отец в юности всегда мечтал стать военным.
В конце 1938 года он какими-то путями добился направления на краткосрочные командирские курсы в Армавирское пехотное училище, откуда и «загремел» на финскую, благополучно без единой царапины закончил эту кампанию и за какие-то заслуги был направлен в пограничное училище, кажется, где-то на Украине. И через некоторое время скороспелый лейтенант уже обучал желторотых юнцов премудростям пограничной службы на западных рубежах Советского Союза.
В феврале 1941 года он привёз меня и беременную мать на погранзаставу недалеко от города Бреста. Наконец-то семья собралась в одном месте, и я, трёхлетний пацанёнок, стал жить у отца с матерью, а не у дедушки с бабушкой (родителей мамы), как жил до этого фактически с пелёнок. В конце апреля родился Сашка, мой братишка. Жизнь налаживалась, входила в нужное русло.
Но раннее утро 22 июня круто изменило нашу жизнь, навсегда оставив в ней неизгладимый след. Я всю жизнь физически ощущаю вой бомб, трескотню автоматов и взрывы гранат и вижу ослепительное пламя большого костра, в котором горели мой дом и моё детство. Отец чудом успел выхватить из дома мать и Сашку, а я каким-то образом выбежал из дому чуть-чуть раньше. Отец поцеловал нас всех, посадил в невесть откуда появившуюся машину, в кузове которой уже сидело много людей, и на- всегда исчез из нашей жизни. Как стало известно позже, и он, и вся застава полегли через сутки после начала войны. И не было отцу ещё и 24 лет отроду.
2
Чудом уцелели лишь двое из новобранцев, прослуживших на заставе чуть больше месяца. Из их рассказа мать узнала, как разворачивались события после нашего отъезда, и она много раз повторяла мне эту печальную повесть.
Естественно, ни отца, ни произошедшие события я помнить не могу, всё это мне знакомо из рассказов рассказов матери. Но порою я вижу всё это так ясно, что кажется, будто это осознано запечатлели глаза и разум ребёнка трёх с половиной лет.
Моя мать, Аносова Мария Ивановна, моложе отца на два года. Она была учительницей начальных классов, прожила большую жизнь, полную лишений и тревог, радостей и печалей и скончалась в возрасте 85 лет в 2004 году.
С двухмесячным Сашкой на руках и мною, цепляющимся за подол её платья, она после очередной бомбёжки где-то на украинской земле не смогла отыскать меня в кромешном аду паники и хаоса и в полубессознательном состоянии была отправлена с Сашкой в тыл. Пройдя через многие мучения и мытарства, попали они в г. Ташкент, где Сашка, заболев дифтерией, умер. В августе 1942 года мать уму непостижимыми путями добралась до оккупированного немцами Ставрополья и стала жить в семье своих родителей, делая первые попытки найти меня. После того, как немцы были изгнаны со Ставропольской земли, она вышла замуж за фронтовика, родила ещё трёх детей, а в 1952 году похоронила своего второго мужа, оставшись одна с детьми 8-ми, 6-ти и 2-х лет.
О себе.
Я родился 11 января 1938 года в селе Отказном Воронцово-Александровского района Ставропольского края. В этом селе долгое время работал мельником мой дед, Аносов Иван Алексеевич, отец матери.
Мать до моего рождения год проработала учительницей, а отец директорствовал в селе Дивном, районном центре Аппанасенковского района и жил в общежитии какого-то учреждения. Вот почему мать приехала рожать к своим родителям. У них я и жил до февраля 1941 года. О дальнейших событиях в моей жизни подробно изложено в рассказе «Возвращение».
После описанных в рассказе событий я поступил в педучилище,
закончил его в 1957 году. Два года отработал по направлению учеб-
3
ного заведения, затем возвратился в свой детский дом, где проработал без малого 20 лет. Здесь встретил чудесную девушку, и через 3 месяца после знакомства мы сыграли свадьбу и стали мужем и женой. Случилось это в 1962 году, и вот уже вместе мы живём почти 42 года.
Моя жена, в девичестве Архипова Раиса Михайловна, окончила тремя годами позже то же педучилище, затем, уже будучи замужем и имея сначала одного, а потом и двух сыновей, без единого академического отпуска окончила два института. Большую часть своей жизни работала и работает по сей день учителем-логопедом. Я уверен, что без моей жены я не состоялся бы как личность
После того, как расформировали детский дом, работал на разных руководящих хозяйственных, советских и партийных должностях. А в 1992 году приехал в город Покачи, где 10 лет проработал директором, а ныне работаю инспектором городской службы занятости населения. Вместе с нами в городе живут трое сыновей с семьями, в которых по снохе и уже 4 внуков, кстати, скоро будет пятый.
О людях.
В жизни мне всегда везло на хороших людей. Многих из них я помню и буду помнить до последнего моего дыхания. Без них я, наверное, просто не выжил бы. Примером тому может служить тот незнакомый мужчина, который под градом пуль и осколков тащил меня в далёком 41-ом к спасительной опушке леса.
А как забыть большой коллектив работников детского дома на уральской земле, которые недоедали и недосыпали, чтобы создать осиротевшим детям хотя бы какой-то минимум условий для выживания в те грозовые военные годы.
Позже судьба связывала меня с замечательными людьми, параллельно с которыми длительное время шла моя жизнь. Прежде всегоэто директор Колтуновского детского дома Хвостов Иван Тимофеевич, ставший впоследствии третьим мужем моей матери и прожившей с нею более 30 последних лет своей жизни. Он стал и для меня и трёх детей мамы от второго брака настоящим отцом, ничем не отличая нас от двоих своих сыновей, оставшихся с ним после смерти его жены - их матери.
4
Всех шестерых он считал своими детьми и помогал нам во всём.
Навсегда запомнился и Видутов Николай Иванович. Это был замечательный педагог, руководитель и совершенно изумительный по отношению к людям человек. Он был заведующим РОНО, когда я был ещё воспитанником детского дома. Затем судьба свела нас в педучилище, где он работал директором в годы моей учёбы в этом училище. А потом он работал заведующим Ставропольским КрайОНО. Именно он назначил меня директором детского дома, несмотря на то, что все, в том числе инструктор крайкома партии, курирующий образование, высказывали сомнение из-за моего возраста. Он сказал тогда запомнившуюся мне фразу: «Я не вижу препятствий для назначения Ларионова А. И. на должность директора. А тот недостаток, о котором вы все говорили (он имел в виду мой возраст), не требует никаких усилий со стороны того, кто счастливо им обладает: он проходит сам собой». А потом добавил: «Этого молодого человека я знаю больше десяти лет».
Переломную роль в моей жизни сыграл первый секретарь Андроповского райкома партии Бирюков Борис Дмитриевич. Это был жёсткий, требовательный руководитель. Его боялись, но уважали. А меня он заметил, когда я, будучи назначенным зам. директора ПТУ, пытался сломать установившиеся в училище порядки, навести дисциплину и среди учащихся, и среди педагогических работников. И на одном из совещаний критиковал райком за позицию невмешательства. Борис Дмитриевич только что был прислан к нам из другого района, но раньше его приезда докатилась молва о том, какой он «зверь». Он вызвал меня к себе в кабинет и в открытую задал вопрос: «А ты меня не боишься?» И хотя поджилки противно тряслись, я ответил: «Вроде бы ни рогов, ни копыту вас не видно. Я не ворую, не пьянствую, требую не для себя. Чего же бояться?» В его глазах промелькнуло какое-то удивление и даже ...замешательство. Видимо, к таким ответам он не привык.
Повисла пауза, показавшаяся мне вечностью. А он вдруг рассмеялся и сказал: «Сработаемся... Иди». Вскоре я уже работал заместителем председателя районного комитета народного контроля, потом инструктором райкома партии, секретарём самой крупной в районе партийной организации. Насколько это было возможно в те времена и позволительно для нашего положения на партийной иерархической лестнице, мы сдружились, и я достаточно хорошо узнал этого
5
человека. За его внешней суровостью скрывалась очень ранимая душа, любящая поэзию, юмор, шутку. Он уважал людей неординарных, не ноющих, умеющих защищать свои взгляды, и, самое главное, тех, кто ставил перед собой трудные задачи и решал их без лишнего шума и трескотни. А его переломная роль в моей судьбе заключалась в том, что я уже больше не вернулся к педагогической работе, которой отдал 25 лет своей жизни.
Мне пришлось пережить немало трудных времён, но больнее всего было в 1991 году, когда были ликвидированы парткомы и тысячи секретарей парткомов казались не у дел. Кое-где на них смотрели как на «врагов народа», под разными благовидными предлогами, но с плохо скрываемым злорадством отказываи в приёме на работу. Я был секретарём парткома колхоза в Андроповском районе Ставрополья. У председателя, в недавнем прошлом занимавшем моё место, должности для меня не нашлось. Но и здесь мнe повезло на хороших людей. Благодаря управляющему делами администрации Крицкому Александру Петровичу и Главе администрации Рогачёву Виктору Яковлевичу я был принят на работу в районную администрацию. Ходили разные слухи и о бывших партработниках и о тех, кто им помогает. Чтобы не подводить этих людей, я в 1992 году уехал на Север, хотя было мне уже почти 55 лет.
Нас «перетянули» на Север, приютили на время обустройства наши друзья Владимир Иванович и Полина Григорьевна Попушоя, за что мы им бесконечно благодарны. А бывшая Глава администрации города Покачи Татьяна Николаевна Успенская приняла на работу, помогла с жильём, дала возможность уйти на самостоятельную руководящую работу и всячески поддерживала, помогая освоить совсем новое для меня дело.
И таких людей на моём жизненном пути было немало, обо всех не напишешь. Но я помню, не забуду и никогда не подведу этих людей.
А может, как я говорил в начале своего рассказа о тех, кто сыграл в моей жизни определённую роль, мне действительно просто повезло?
6
Возвращение.
Колька проснулся рано, очень рано: было всего пять часов, а подъём сегодня будет в семь, потому, что сегодня - воскресенье. В воскресенье не нужно идти в школу, в воскресенье воспитанники не работают в подсобном хозяйстве. Поэтому в воскресенье подъём в семь, а не в шесть, как в будние дни. За девять лет, которые Колька прожил в Воронцовском детском доме, он привык к такому режиму и даже не представлял, как можно жить по-другому. Вообще-то в детском доме он жил уже одиннадцать лет, но до этого два года он жил в другом, дошкольном детском доме. В Воронцовском детдоме он жил с семи лет, то есть с первого класса, а теперь он учился уже в девятом классе. Учиться в этом учебном году оставалось всего два месяца, а потом -лето, каникулы, поездка на Чёрное море. А там – купание, загорание, экскурсии. В том, что он поедет на море, Колька не сомневался: он был отличником, а отличников возили на море ежегодно. Их возили всегда в одно место. Причерноморский посёлок назывался Архипо-Осиповка, и это название всегда напоминало Кольке скороговорку: «Архип - осип, а Осип - охрип».
В спальне было десять кроватей, и девять Колькиных одноклассников крепко спали предрассветным сном, посапывая, похрапывая, а иногда бормоча что-то во сне. А Колька никак не мог заснуть, сам не понимая почему, но испытывая при этом какое-то неясное, но приятное чувство.
Потом он ощутил удивительную лёгкость во всём теле, ласковое тепло; он перестал слышать ранние утренние звуки, доносившиеся до его слуха от домов, где жили работники детского дома:
учителя, воспитатели, обслуживающий персонал, рабочие подсобного хозяйства. Он засыпал. И сразу же ему начал сниться сон. Как наяву он увидел большого плюшевого медведя и услышал ласковый голос. Почему-то он сразу решил, что это голос мамы. Мама теребила его за щёки, а голос говорил: «Вставай, вставай, мой маленький Ленин. С днём рождения тебя! А это тебе подарок». Плюшевый Мишка уселся ему на грудь. Колька открыл глаза, увидел подарок и поднял глаза на маму. Но её лицо было каким-то размытым и нечётким, как отраже- ние в старом мутном зеркале, висевшим в предбаннике детдомовской бани.
Жили они на одной из западных пограничных застав недалеко от Брестской крепости в небольшом деревянном домике. Десять – две
7
надцать таких домиков стояли на заставе за высоким деревянным же забором. Поотдаль было два длинных дома - казармы, где жили солдаты - пограничники. Позади казарм до забора была хорошо утоптанная площадка - плац с какими-то сооружениями. Там маршировали, бегали, выполняли разные упражнения пограничники. А Колькин отец был старшим лейтенантом и учил этих ребят.
Вся семья - отец, мать, Колька и полугодовалый его брат Сашок собрались вместе и жили здесь на заставе всего четыре месяца, с февраля 1941 года, а до этого Колька жил в семье деда по материнской линии Ивана Алексеевича Мельникова. Мать и отец, а потом и маленький Сашок «мотались» по местам службы и учёбы отца. Но наконец-то отец с семьёй «осел» на этой заставе, и Колька впервые жил в своей родной семье. А вообще, Колька мало что помнил об этом коротком периоде своей жизни. Но было, наверное; очень хорошо. Потом он чаще всего вспоминал плюшевого медведя, да ещё ощущение холодка где-то внутри, когда отец, будучи почти двухметрового роста, подбрасывал его высоко-высоко и ловил у самой земли. Лицо отца он представлял очень смутно, почти не помнил. Закончилась эта жизнь быстро внезапно и жестоко 22 июня... Как и сегодня, Колька проснулся, а вернее был разбужен очень рано. Разбудили его грохот, взрывы и голос матери: «Вставай, вставай же!..» Потом они выбежали во двор, где всё горело, в том числе и их домик. Прибежал отец, лицо чёрное, гимнастёрка мокрая... Он что-то говорил, целовал всех и куда-то вёл… Кричала мать...
Потом их стали усаживать на невесть откуда появившиеся машины и подводы. Долго куда-то везли, а затем посадили в вагоны, и поезд помчал их в неизвестность, подальше от заставы и от отца, которого Колька больше никогда не увидит.
Эшелон разбомбили ночью, когда он стоял на каком-то полустанке, ожидая своей очереди двигаться дальше. Слетали с рельсов под откос одни вагоны, другие горели на рельсах. Паника, крики и стоны. Колька очнулся в высокой траве, болела спина и левая рука, лицо в ссадинах и крови, ноги в синяках, нестерпимо хотелось пить. Недалеко бегали, стояли и лежали какие-то люди, мамы и Сашки рядом не было. Хотелось закричать, но он только слабо хрипел, то ли с испуга, то ли от жажды.
«Вот, ещё один»,- услышал Колька чей-то голос, и его тут же поднял на руки какой-то мужчина в белом халате. Он куда-то понёс
8
его и усадил на землю, где кружком сидело человек двадцать мальчишек и девчонок примерно Колькиного возраста.Всходило солнце, быстро набирая высоту и прогревая воздух и землю, не успевшие остыть за короткую летнюю ночь. И опять их усадили в подошедшие машины и повезли дальше. За машинами тянулись длинные шлейфы пыли, которая набивалась в рот и глаза, не давала дышать. Впереди показался то ли лесок, то ли рощица. И тут послышался гул и рёв моторов, и три самолёта с чёрными крестами коршунами понеслись к земле. От них отделялись бомбы и с воем, увеличиваясь в размерах, падали на раскалённую зноем землю, вздымая вверх чёрные фонтаны взрывов. Машины остановились. Люди спрыгивали на землю, стаскивали детей и бежали с ними к спасительной опушке. Кольку схватил какой-то человек в белом костюме и белых парусиновых туфлях, которые Колька потом вспоминал довольно часто, потому что запомнил их очень хорошо. Дело в том, что этот толстенький низенького роста человек в левой руке держал огромный кожаный жёлтого цвета чемодан, а правой рукой пытался удержать Кольку, но получалось это плохо, и Колька оказался вскоре зажатым подмышкой, причём таким образом, что голова его свешивалась вниз, а попка поднималась вверх. Вот и видел он только чемодан и туфли своего спасителя. Совсем рядом что-то защёлкало по пыли, поднимая её маленькими серыми фонтанчиками. Это немецкие ассы щедро поливали бегущих людей из пулемётов… Видя, что с Колькой и чемоданом ему далеко не убежать, человечек бросил чемодан, подхватил Кольку двумя руками, придав наконец ему нормальное положение, и уже гораздо быстрее засеменил к лесу. Люди бежали, падали, поднимались и бежали, бежали... Некоторые падали и больше не вставали. Наконец-то Колька оказался около леса. Самолёты, между тем, улетели. Недалеко от Кольки лежал на спине парнишка лет пятнадцати - шестнадцати. Из уголочка его рта медленной струйкой текла кровь, а широко раскрытые большие зелёные глаза с удивлением смотрели в голубое безоблачное небо.
Так Колька впервые увидел смерть близко-близко, хотя ещё и не осознавал её суть.
Ночью всех уцелевших вновь посадили на машины, довезли до какой-то станции и опять посадили в вагоны. Здесь всех потерявшихся детей собрали в один вагон, чем-то кормили и
9
записали их в толстую тетрадь. Колька, растерянный и испуганный, смог рассказать, как зовут его, что ему недавно было уже пять лет, что отца зовут Володя, маму - Таня, а маленького брата зовут Саша. Сказал, что папа остался тушить пожар, а мама и Сашок потерялись, когда горел поезд. На вопрос о его фамилии он ответил, что его фамилия Мельников. Эта фамилия была ему привычнее, потому что у дедушки все его называли Колькой Мельниковым. Так записали в тетрадь, и был он Колькой Мельниковым уже одиннадцать лет. Но уже очень скоро Колька узнает, что он вовсе не Мельников. А пока... Пока Колька Мельников, крепкий, рослый парнишка, именинник, лежал в своей постели и вспоминал всё, о чём напомнил ему сон.
Команда «Подъём!» прозвучала неожиданно, хотя Колька уже окончательно проснулся. У дверей спальни стоял физрук Олег Петрович Ежов, он-то и дал эту команду. Вместе со всеми Колька выскочил во двор, где уже стояло несколько человек, ожидая начала утренней зарядки.
В детском доме Кольке и ещё ста пятидесяти таким же, как и он сиротам, жилось в общем-то неплохо. Даже в голодном 1947 году их неплохо одевали, вполне сносно кормили, по крайней мере, хлеба всегда было вдоволь - выручало подсобное хозяйство, больше похожее на средний по площади пашни колхоз. Воспитанники даже тайком выносили из столовой «лишний» хлеб для своих «домашних» друзей, так называли детей сотрудников детского дома, которые учились вместе с ними, и которые зачастую были полуголодными. Воспитатели были очень заботливыми и внимательными, они жалели воспитанников не меньше, чем собственных детей.
В дни рождения каждого воспитанника поздравляли в столовой во время завтрака, дарили незамысловатые подарки. А в последний день месяца был «именинный ужин», на котором поздравляли всех, кто родился в прошедшем месяце. Всегда на этом ужине был традиционный пирог, который разрезали на кусочки по числу именинников. Традиционно для именинника готовился небольшой концерт под руководством художественного руководителя, артиста и музыканта от Бога, Петра Петровича Новака. Пётр Петрович, которого все называли «наш ПП», был до войны артистом какого-то ленинградского театра, кроме того, он играл на всех музыкальных инструментах, в том числе, и на всех инструментах старенького духового оркестра, пода-
10
ренного детскому дому пожарной частью. Пётр Петрович в самые последние дни перед блокадой города сумел выбраться из него, обосновался сначала в Подмосковье, а затем на счастье воспитанников Воронцовского детского дома какими-то ветрами занесло его на Ставрополье. Семьи у него не было. И об этом ходили всякие легенды, от версии, что его молодая жена сбежала с каким-то военным, до слухов о неразделённой любви к знаменитой балерине, из-за чего семью он вовсе не заводил. Но семьи у него не было, и он фактически никогда не покидал территории детского дома. Даже жил он в небольшой комнатке при клубе. Запомнились и проводы семиклассников в техникумы, ремесленные училища (РУ) и фабрично-заводские училища (ФЗУ). Раньше в детском доме была школа - семилетка. Семиклассников после окончания школы провожали совсем по-домашнему: хорошо одевали, выдавали всё постельное бельё, продукты и деньги на дорогу. Их принимали в период каникул и даже ждали их приезда, так как они удовольствием работали в подсобном хозяйстве и, как правило, благотворно влияли на воспитанников. В прошлом году при детском доме открылась десятилетка, и были теперь восьмой и девятый классы. В девятом классе и учился Колька. А в следующем году он и ещё семнадцать воспитанников должны были стать первыми выпускниками средней школы. Казалось, что всё было так, как дома. И всё же каждый воспитанник ощущал отсутствие своей семьи, и с возрастом это чувство становилось острее. В первые два-три года после войны довольно часто отыскивались родители и забирали ребят домой. Таким безмерно завидовали, и каждый в душе надеялся, что следующим будет обязательно он, что в следующий раз найдутся непременно его родители. Но такие события случались с каждым годом всё реже и реже, а за последние три года их не было вовсе. Постепенно оставшиеся привыкли к мысли, что они остались одни на этом свете, привыкли быть ничьими детьми...
В детском доме Колька был самым высоким и самым сильным, и у всех ребят, даже у тех, что были постарше его, он пользовался авторитетом. И авторитет этот, если быть до конца честным, он не всегда поддерживал только моральными и, как бы он в дальнейшем сказал сам, чисто педагогическими методами. Хотя, и это тоже честно, физическими методами он не злоупотреблял.
11
А вот чего он не прощал никому, так это обид, нанесённых женскому полу, будь то девочке или женщине. В таких случаях он долго не думал, как наказать обидчика, и не особо размышлял в выборе методов этого наказания. Может быть, это он перенял у своего очень им уважаемого учителя физкультуры, а может... Олег Петрович, бывший колхозный тракторист, потерявший на войне в возрасте двадцати трёх лет левую руку, был прирождённым воспитателем, педагогом с большой буквы. Демобилизовавшись, он стоял перед выбором, чем ему заняться, так как трактористом работать не смог, хотя и пытался это сделать.
Он случайно встретился со своим бывшим учителем физкультуры, работавшим уже заведующим РОНО, и тот, помня его спортивные успехи во время учёбы в школе, предложил ему пойти физруком в детский дом. Сегодня это показалось бы смешным, но в те годы учителей катастрофически не хватало, а уж о мужчинах-учителях и говорить было нечего. Отсутствие руки у физрука как-то не смущало. И дай Бог, что всё случилось именно так. Олег Петрович, этот не педагог, однорукий физрук-диленант, привил любовь к своему предмету многим своим воспитанникам, вырастил немало разрядников в разных видах спорта. Из восемнадцати первых выпускников десятого детдомовского класса пятеро поступили на отделения физической культуры в ВУЗы и стали его коллегами, а три выпускника стали профессиональными спортсменами. Правда, в то время считалось, что в СССР спортсменов-профессионалов нет, а все спортсмены являются любителями. Так вот, Олег Николаевич, многое прощавший своим подопечным, терпеть не мог, когда обижали женщин. Для таких нарушителей он придумал наказание, которое заключалось в следующем: все нарушители делились на две команды, одна из которых вслед за ним шла строем в дальний угол двора, где были свалены глыбы бутового камня, зачем-то привезён-ные из карьера с горы Змейка. Поговаривали, что их привезли «по заказу ОП». Вторая команда шла в противоположный конец детдомовского двора. Члены первой команды брали глыбы и тащили их туда, где стояла вторая
12
команда нарушителей, сбрасывали камни на землю и бегом возвращались назад за следующей ношей. Когда они несли её второй раз, команда номер два взваливала на плечи камни, принесённые ранее командой номер один, и несли их на прежнее место. И так в течение часа. «Экзекуция» проводилась один раз в неделю, в субботу перед мытьём в бане и собирала толпу зевак, гогочущих, свистящих и дающих советы, как лучше работать.
...Много позже, когда Колька был студентом педвуза, он понял, насколько это было непедагогично, но не мог сказать, что это было недейственно. Действовало это очень эффективно. Многие, попавшие в «команды», просили заменить им это наказание на одну из самых неприятных, но полезных для всего детского дома работ - мытьё надворных туалетов.
Колька в душе одобрял подобное наказание для этой категории провинившихся. Но такое отношение к женскому полу имело для Кольки одно исключение. Этим исключением была его одноклассница с первого класса Орешина Лариса. Ларка, по мнению всех, в том числе и Кольки, была самой красивой девчонкой в детском доме. Но Колька люто ненавидел её за то, что, сколько он её помнил, она была ябедой и доносчицей. Сам он её никогда не обижал, тем более, никогда не бил. Но он сквозь пальцы смотрел на тех, кто это делал. А без его защиты ей частенько доставалось от тех, кого она «закладывала», И вот, надо же...
Закончились занятия, начались каникулы. Уже объявили список тех, кто поедет на море. Колька, как он и думал, в этом списке значился. Выезд намечался на двадцать пятого июня. Это был последний «детдомовский» выезд Кольки на море. Дальше был десятый класс, а по его окончании будет уже не до отдыха: нужно будет готовиться к поступлению в ВУЗ или техникум.
До отъезда оставалось три дня. Сборы шли вовсю. Из Колькиного класса в списке было семь человек. Но сегодня провинился его лучший друг Володька, и Анна Ивановна, их любимая воспитатель-
ница, пригрозила, что о проступке Володьки она поставит в извест-
ность директора. А это было для него почти равносильно концу всяческих надежд попасть на море. И вот, когда группа вышла из учебной комнаты, где перед обедом проводилось какое-то мероприятие,
13
Колька с другом задержались, чтобы «покаяться» и попросить Анну Ивановну наказать Володьку без участия в этом деле директора. Разговор несколько затянулся. А группа построилась на тротуаре и ждала Кольку - старосту группы, чтобы идти на обед. По установившемуся в детском доме порядку группу без старосты в столовую не впускали. Поэтому вскоре с улицы стали доноситься крики: «Мельников, давай вали сюда. Кушать хочется!» И опять: «Мельников, Колька...» Колька, вышел, подошёл к группе и вдруг увидел, что женщина, которую с утра он видел осматривающей вместе с директором детского дома спальный и учебный корпуса, обхватила руками одно из деревцев, росших возле тротуара, ведущего к столовой, и медленно сползает вниз. Директор и подбежавшие воспитанницы подняли её и, поддерживая под руки, повели обратно к конторе, где находилась бухгалтерия и кабинет директора. Не успев сообразить, что произошло, Колька повёл свою группу в столовую, дал команду сесть и сам приступил к обеду. Но поесть он не успел. В столовую влетела Ларка Орешина и с порога известила: «Колька, а тебя директор вызывает!» И добавила ехидно и нараспев: «Срочно!»
Когда Колька вошёл в кабинет директора, он увидел сидящую на диване и плачущую женщину, которую он принял за одну из многочисленных проверяющих и удивился тому, что её «принесло» в воскресенье. По поводу её слёз он почему-то сразу решил, что у неё что-то стащили: может быть, часы, кошелёк. И сразу мелькнула грозная мысль: «Узнаю кто, убью!» Такого в детском доме давненько не было, пожалуй, с тех пор, как отправили в трудовую колонию за воровство и другие проступки Тюрина Бориса и Петина Сергея. А было это года два-три назад. Но директор как-то очень буднично, как показалось Кольке, сказал: «Николай (он всегда называл старшеклассников полным именем), это - твоя мама»... «Мама, так мама», - мелькнуло в голове у Кольки, не успевшего вникнуть в смысл сказанного директором. А женщина, которую назвали его мамой, поднялась, на ватных ногах маленькими шажками подошла к Кольке, обняла его и, плача и что-то причитая, целовала его голову, щёки, губы, глаза...
А потом они долго сидели на диване в кабинете директора, оставившего их одних, и мать долго, то смеясь, то плача, всё говорила и говорила. Она сказала, что, увидев Кольку рядом, сразу поняла, что это он.
14
Потому что перед ней стоял парень, как две капли воды похожий
на её мужа, Богатырева Ивана Ивановича, погибшего в первый день войны - двадцать второго июня 1941 года, ровно одиннадцать лет назад двадцати пяти годов от роду. Из этого долгого разговора Колька узнал, что потеряв его во время бомбежки, мать с Сашкой попали в другой эшелон, который увёз их в далекий город Ташкент. Там Сашка заболел дизентерией, и врачи не смогли его спасти. А она всё пыталась найти Кольку, рассылая письма-запросы везде, куда было можно. Она писала и писала до 1950 года. И отовсюду приходили стандартные ответы о том, что Богатырёв Николай Иванович в списках не значится. Ответы были правдивыми, так как в списках значился Мельников, который только сейчас узнал свою подлинную фамилию. Много лет спустя, Колька, будучи директором Воронцовского детского дома Николаем Ивановичем, нашёл в архиве два таких запроса со стандартными ответами. Мать получила их в 1946 и 1949 годах, живя и работая на хуторе, всего в 35 километрах от детского дома, куда она возвратилась к своим родителям в 1944 году.
Здесь её нашла «похоронка» на мужа, Колькиного отца. В том же году она вышла замуж. Её второй муж был участником финской войны, где был ранен, контужен и засыпан мёрзлой землёй разорвавшимся рядом снарядом. Нашли его через сутки, Он простудил лёгкие, получил инвалидность и в войне с немцами не участвовал. Второй муж умер в прошлом году, прожив с матерью семь лет и оставив ей трех детей. И теперь у Кольки было два брата и сестра шести, четырёх и двух лет.
«Торопился мужик,» - совсем по-взрослому подумал Колька о незнакомом ему отчиме, но в душе обрадовался, что у них будет большая семья , и он будет не единственным ребёнком у матери. О том, что им предстоит испытать, он ещё не думал и даже не догадывался. В хуторе, где жила и работала учительницей начальных классов его мать, школу закрыли. Мать обратилась в РОНО - районный отдел народного образования, и её направили воспитательницей в Воронцовский детский дом. И завтра директор даст ей грузовую машину, и мама привезёт сюда дедушку, бабушку и троих детей. И будет в их семье вместе с Колькой семь человек.
Колька слушал мать, и не мог он сразу всё осознать, понять и представить, как всё теперь будет. Неожиданно в его памяти всплыла
16
последняя строфа стихотворения, написанного им в прошлом году к пятилетию Победы:
И я, детдомовец со стажем,
Мир получив, как дар в наследство,
Не мог тогда заплакать даже,
Но понял вдруг: вернулось детство!
И вновь по-взрослому он подумал: «Детство, пожалуй, ушло и уже никогда не вернётся. Но вернулось то, о чём я долгие-долгие детские годы мечтал, на что надеялся: вернулась семья, я вновь её обрёл. И пусть в этой семье пока нет ни одного Богатырёва, скоро Богатырёвым стану я, а потом... Потом - моя жена, дети, внуки, правнуки... Нас, Богатырёвых, будет обязательно много».
Эпилог
Прошло много лет... В один из осенних дней в семье Богатыревых состоялось семейное торжество. Дети и внуки пришли поздравить своих родителей с 40-летием их совместной жизни. Когда все приготовления были закончены, и за стол сели юбиляры, трое их сыновей, три снохи и трое внуков, глава семьи Николай Иванович (Колька) встал, поднял бокал шампанского и сказал: «Мы собрались, чтобы отметить сорокалетний юбилей начала нашей семьи. Сорок лет назад в этот день ваши мать и отец стали мужем и женой, стали семьёй. Нас было двое. Теперь нас одиннадцать, и, даст Бог, будет ещё больше. Сыновья, берегите каждый свою семью. И давайте вместе беречь нашу общую семью, семью Богатыревых. Дороже семьи у человека нет ничего. Поверьте...»
17
