Антология мировой философии в четырех томах том з
| Вид материала | Документы |
Содержание[люди и герои] Vi. идеализм |
- Философское Наследие антология мировой философии в четырех томах том, 11944.29kb.
- Антология мировой философии: Античность, 10550.63kb.
- Лейбниц Г. В. Сочинения в четырех томах:, 241.84kb.
- Собрание сочинений в четырех томах ~Том Стихотворения. Рассказы, 42.25kb.
- Собрание сочинений в четырех томах. Том М., Правда, 1981 г. Ocr бычков, 4951.49kb.
- Книга первая (А), 8161.89kb.
- Джордж Гордон Байрон. Корсар, 677.55kb.
- Антология мировой детской литературы., 509.42kb.
- Собрание сочинений в пяти томах том четвертый, 3549.32kb.
- Готфрид вильгельм лейбниц сочинения в четырех томах том , 8259.23kb.
гармонии монад была причудливым плодом Лейбницева сознания. Что же в самом деле является абсурдным, так это представление, будто возможно объяснить, каким образом одна вещь является причиной другой вещи. Единственный изъян доктрины Лейбница, который возникает тогда, когда он пытается объяснить причинность, это выдвижение гипотезы о предустановленной гармонии, где мы имеем лишь видимое разрешение проблемы, от которой мы таким образом уходим в сторону. В самом же деле причинность существует во внешних отношениях, которые создаются бытием, несущим в себе предустановленную гармонию.
Если это бытие мыслится как единственное, а все вещи как имманентные по отношению к нему, оно пребывает в своей собственной природе, в развитии своих внутренних актов: с чем же в таком случае соотносится гармония, v какой причинности она должна сводиться? Отбросим вышеизложенную гипотезу и представим гармонию как универсальный, ни к чему не сводимый факт. Мы выйдем тогда аа пределы признающего свою несостоятельность лейбницеанства и придем к реальному знанию. Мы будем в таком случае утверждать: универсальный факт причинной коммуникации существ идентичен гармонии феноменов, пребывающих во времени; эта гармония сама себя .производит, поскольку представления как сила определяют отношения феноменов; гармония есть один из аспектов и одно из проявлений порядка мира, свойственного самому миру.
И если мы не будем считать, как это по существу делает Лейбниц, имманентным свойством мира в целом единственное бытие, а примем в качестве такового творческую реальность, то установление гармонии также будет творчеством или первопричиной, как causa sui и causa mnndt, как два аспекта единой непроницаемой сущности.
Тот, кто непосредственно будет иметь дело с проблемой причинности — если мы продолжаем это называть проблемой, признав ее неразрешимость, для чего достаточно рассмотреть, с одной стороны, силу в ее собственном понимании, с другой стороны, внешнее воздействие этой силы, то есть данную извне силу, и существующее между этими двумя моментами абсолютное отсутствие познания, -— тот превратит порядок мира в истинную идею, самую высокую и самую непроницаемую идею, которая находится за пределами идеи о первичном данном, за пределами каких-либо феноменов. Теперь следует распространить это понимание на другие сущностные формы отношения, как этого требует наука; более того, следует признать факт свободы в человеческом сознаний, затем признать, что этот факт влечет за собой вопрос об образовании феноменов, и, наконец, усвоив все это, отвергнуть все то, что философия писала в пользу абсолюта, бесконечного, субстанции и вечного предсуществования вещей: тогда перед мыслителем откроется бесконечный простор для анализа и построения теорий и ему останется только углубиться в философию (стр. 11—17).
КАРЛЕЙЛЬ
Томас Карлейль (1825—1881) родился в крестьянской семье, но благодаря писательскому таланту выдвинулся и приобрел широкую известность. Много читал немецких романтиков, пере-
655
писывался с престарелым Гёте, выработал у себя визионерский, пророческий и в то же время дидактический стиль. Расцвет его творчества падает на 40—60-е годы, и из многочисленных его работ литературного, исторического и политического характера больше всего философии содержалось в его трактате «О героях и поклонении героям» («.On heroes and hero-worship», 1841).
Это была своеобразная философия истории, сплетенная с пантеистическим взглядом на мир и соответствующими этическими воззрениями. Будучи в общем самоучкой, Карлейлъ соединил
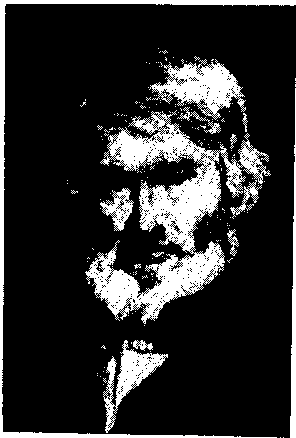
в своем пантеизме положения «Системы природы» Гольбаха о единстве мира с кантианским агностицизмом, одухотворением природы у Шеллинга и апофеозом человеческой активности у Фихте, Он стал рассматривать природу как совокупность явлений, обнаруживающих божественную сущность мира. Эта сущность открывается только интуиции того, кто стоит на позициях «натуралистского супранатурализма».
Главной областью интересов Карлейля стала философия истории, которую он попытался построить как обоснование культа великих людей. К последним он причислил всех тех, у кого активность духа, яркость индивидуальности и преобладание веры над разумом составляли особенность их поведения. Певец романтически-аристократического индивидуализма,
Карлейлъ выдвинул «духовную силу» как критерий и моральное оправдание господства одних людей над другими и даже пришел к выводу, что в принципе прав тот, кто добился успеха. Его поздние воззрения получили широкую известность, разными своими сторонами повлияли на Рёскина, нашли отклик в «Единственном и его собственности» Штирнера и в некоторой мере подготавливали экспансионистскую идеологию империалистического периода. В то же время сам Карлейлъ выступал с критикой алчности английской буржуазии, приближаясь в отдельных пунктах к представителям так называемого феодального социализма.
Ниже даны отрывки по кн.: Т. Карлейлъ. Этика жизни. Перевод Е. Синерукой. СПб., 1906. Эта книга состоит из фрагментов равных работ. Извлечения из них подобраны и отредактированы для данного издания А. С. Богомоловым и сопоставлены с кн.: Т. Carlyle. Auszüge aus seiner Werken. Arbeiten und nicht verzueifeln. Königstein und Leipzig. [1919].
656
[ЛЮДИ И ГЕРОИ]
[L] Искреннюю радость доставляет человеку возможность восхищаться кем-нибудь; ничто так не возвышает его — хотя бы на короткое время — над всеми мелочными условиями, как искреннее восхищение. В этом смысле было сказано: «Все люди, в особенности все женщины, склонны к преклонению» и преклоняются перед тем, что хоть сколько-нибудь того достойно. Можно обожать нечто, хотя бы оно было весьма незначительно; но невозможно обожать чистейшее, ноющее ничтожество.
[П.] Я думаю, что уважение к героям, в различные эпохи проявляющееся различным способом, является душой общественных отношений между людьми и что способ выражения этого уважения служит истинным масштабом нормальности или ненормальности господствующих на свете отношений.
[III.] Богатство света состоит именно в оригинальных людях. Благодаря им и их произведениям свет именно свет, а не пустыня. Воспоминание о людях и история их жизни — сумма его силы, его священная собственность на вечные времена, поддерживающая его и насколько возможно помогающая ему проталкиваться вперед сквозь неизведанную еще глубину.
[IV.] Можно возразить, что я проповедую «поклонение героям». Если хотите, да, друзья, но поклонение прежде всего должно выразиться в том, что сами мы будем героически настроены. Полный мир героев вместо целого мира глупцов, в котором ни один доблестный король не может царствовать, — вот чего мы добиваемся! Мы со своей стороны отбросим все низкое и лживое; тогда мы можем надеяться, что нами будет управлять благородство и правда, но не раньше.
[V.] Сказано: Если сами мы холопы, то для нас не может быть героев. Мы не узнаем героя: если мы увидим его, то примем шарлатана за героя.
[VI.] Ты и я, друг мой, можем в этом отменно глупом свете быть, каждый из нас, не глупцом, а героем, если захотим. Таким образом, получились бы два героя для начала. — Мужайся! — таким путем можно создать целый мир героев, или хотя бы по мере возможности содействовать их появлению.
[VII.] Я предсказываю, что свет снова станет правдивым, станет светом верующих людей, будет полон героических деяний, будет полон геройского духа. Тогда, и только тогда, он сделается победоносным светом.
Но что нам до света и его побед? Мы, люди, слишком много говорим о свете. Пусть каждый из нас предоставит свет самому себе; разве каждому из нас не дана личная жизнь? Жизнь — короткое, очень короткое время между двумя вечностями; другой возможности у нас нет. Благо нам, если мы проживем свой век не как глупцы и лицемеры, а как мудрые, настоящие, истинные люди. От того, что свет будет спасен, мы не спасемся; мы не погибнем, если погибнет свет. Обратим поэтому внимание на самих себя. Наша заслуга и наш долг состоит в выполнении той работы, которая у нас под рукой. К тому же, по правде говоря, я никогда не слыхал, чтобы «свет» можно было «спасти» другим путем. Страсть спасать лтры перешла к нам от XVIII века с его поверхностной сентиментальностью. Не следует увлекаться
657
слишком сильно этой задачей! Спасение мира я охотно доверяю его создателю; сам же я позабочусь лучше насколько возможно о собственном спасении, на что я имею гораздо больше права (стр. 38—39).
[XVII.] Гении — наши настоящие люди, наши великие люди, вожди тупоумной толпы, следующей за ними, · точно повинуясь велениям судьбы. [...] Они обладали редкой способностью не только «догадываться» и «думать», но знать и верить. По натуре они склонны были жить, не полагаясь на слухи, а основываясь на определенных воззрениях. В то время как другие, ослепленные одной наружной стороной вещей, бесцельно носились по великой ярмарке жизни, они рассматривали сущность вещей и шли вперед как люди, имеющие перед глазами путеводную звезду и стулающие по надежным тропам.
[XVIII.] Сколько есть в народе людей, которые вообще могут видеть незримую справедливость неба и знают, что она всесильна на земле, — столько людей стоит между народом и его падением. Столько, и не больше. Всемогущая небесная сила посылает нам все новых и новых людей, имеющих сердце из плоти, не из камня, а тяжелое несчастье, и так уже довольно тяжелое, окажется учителем людей! [...]
[XXV.] Как бы часто нам ни внушали, что более близкое и иодробное ознакомление с людьми и вещами уменьшит наше восхищение или что только темное и наполовину незнакомое может казаться возвышенным, мы все-таки не должны этому безусловно верить. И здесь, как и во многом другом, не знание, а лишь малое знание заставляет гордиться и на место восхищения узнанным предметом ставит восхищение самим узнавшим. Для поверхностно образованного человека усеянное звездами, механически вращающееся небо не представляет собой, быть может, ничего удивительного; оно кажется ему менее удивительным, чем видение Иакова. Для Ньютона же оно удивительнее этого видения, потому что здесь, на небе, царит еще все тот же бог, и священные влияния и посейчас еще, как ангелы, подымаются вверх и спускаются вниз, и это ясное созерцание делает остальную тайну еще глубже, еще божественнее. То же самое происходит и с истинным душевным величием, В общем теория «Нет великого человека для его камердинера» мало нам помогает в освещении истинной природы этого случая. Кроме довольно явной поверхностности этого утверждения оно еще может быть применено лишь к поддельным, ненастоящим героям или к слиш-•ком настоящим лакеям. Для доброго Элвуда Мильтон всегда оставался героем. [...J
[XXX.] Жизнь великого человека не веселый танец, а битва и поход, борьба с властелинами и целыми царствами. Его жизнь не праздная прогулка по душистым апельсиновым рощам [...], а серьезное паломничество через знойные пустыни, через страны, покрытые снегом и льдом. Он странствует среди людей; он любит их неизъяснимой, нежной любовью, смешанной с состраданием, любовью, какой они его в ответ любить не могут, но душа его живет в одиночестве, в далеких областях творения [...}. О свет, как тебе застраховать себя от этого человека? Ты не можешь нанять его за деньги и не можешь также обуздать его виселицами и законами. Он ускользает от тебя, как дух. Его место
658
среди звезд на небе. Тебе это может представляться важным, тебе это может казаться вопросом жизни и смерти, но ему безразлично, дашь ли ты ему место в низкой хижине на то время, пока он живет на земле, или отведешь ему помещение в своей столь громадной для тебя башне. Земные радости, те, которые действительно ценны, не зависят от тебя или от твоего содействия. Пища, одежда и люди вокруг уютного очага души, любимые им, — вот его достояние. Он не ищет твоих наград. Заметь, он не роится и твоих наказаний. Даже убивая его, ты ничего не добьешься. О если бы этот человек, из глаз которого сверкает небесная молния, не был насквозь пропитан божьей справедливостью, человеческим благородством, правдивостью и добротой, тогда я-дрожал бы за судьбу света. Но сила его, на наше счастье, состоит из суммы справедливости, храбрости и сострадания, живущих в нем. При виде лицемеров и выряженных стараниями портного высокопоставленных шарлатанов, глаза его сверкают молнией; но они смягчаются милосердием и нежностью при виде униженных и придавленных. Его сердце, его мысли — святилище для всех несчастных. Прогресс обеспечен навсегда.
Но имеешь- ли ты представление, что такое «гениальный человек»? Гений — «вдохновенный дар божий». Это бытие бога, ясно выраженное в человеке. Более или менее скрытое в других людях, оно в этом человеке заметно яснее, чем в остальных. Так говорит Мильтон, а он должен был в этом что-нибудь понимать; так говорят ему в ответ голоса всех времен и всех стран. Тебе хотелось бы свести знакомство с таким человеком? Так будь действительно подобен ему. В твоей ли это власти? Познай себя и свое настоящее, а также кажущееся место и познай его и его настоящее и кажущееся место и действуй сообразно со всем этим. [...]
[XXXVI.] В современном обществе, точно так же как и в древ
нем, и во всяком другом, аристократы, или те, что присвоили себе
функции аристократов — независимо от того, выполняют ли они
их или нет, — заняли почетный пост, который является одно
временно и постом затруднений, постом опасности,- даже постом
смерти, если затруднения не удастся преодолеть. «II faut payer
de sa vie»'. -. '
Это и есть настоящий, истинный закон. Всюду, постоянно должен человек «р а с π л а ч'и в а т ь с я ценой жизни», он должен, как солдат, исполнять свое дело за счет своей жизни. [...]
[XLIV.] Что касается власти «общественного мнения», то всем нам она хорошо знакома. Ее признают необходимо нужной и полезной и соответственно уважают, но ее никоим образом не считают решающей или божественной силой. Нам хочется спросить: какое божественное, какое действительно великое дело было когда-либо совершено силой общественного мнения? (стр. 43—49).
ЭМЕРСОН
Ральф Уолдо Эмерсон (1803—1882) родился в семье священника секты унитариев, сторонников широкой веротерпимости. Он сам был некоторое время служителем культа, а затем целиком посвятил себя писательской деятельности. Выл тесно связан
659
с бостонским «Клубом трансценденталистов» и испытал на себе влияние учения Карлейля о великих людях. В речах 1837— 1838 гг. «Об американском, типе ученого» и «Об отношении, человека к богу» провозгласил уникальность американской культуры и право каждого человека самостоятельно и по-своему решать религиозные проблемы. Широкую известность приобрели его «Эссе» (1841—1871 гг.), и Эмерсон выдвинулся в число немногих американских философов, которых в XIX в. читали в Европе.

Трансцендентальный идеализм Эмерсона был направлен против типичного для американского общества того времени духа буржуазного мещанства и явился своего рода протестом против конформизма и унификации культуры. Его сочинения отличаются блестящим стилем, но страдают эклектизмом. В них налицо довольно сумбурная смесь кантианских и платоновских идей с «культом героев» Карлейля, идеализацией частного «грюндерского» предпринимательства. Вместе с тем Эмерсон провозглашает свободу мысли и при помощи своеобразной пантеистической аргументации утверждает моральное достоинство и право личности на борьбу против обветшалых традиций и устаревших авторитетов. Причудливое смешение просветительских, пантеистических и релятивистских (в теории познания) идей, с одной стороны, способствовало распространению буржуазного либерализма на англо-американской почве, а с другой — при всем их общем спи-ритуалистском характере наносило удар по пуританскому ханжеству, которое правящий класс США пытался сохранить в виде эталона изначального «американизма».
юос1!11™6 пУбликУются отрывки из трактата «Природа» («Nature», ШЬ) в переводе с английского языка по кн.: \Р. В.] дм ев со и. Сочинения, т. 1. СПб., 1902. Подобрал их А. С. Богомолов. Для настоящего издания перевод заново сверен по кн.: R. W. Emerson. The works, vol. H. London, 1913.
ПРИРОДА
ВВЕДЕНИЕ
Наш век ретроспективен. Он строит гробницы отцов. Он пишет биографин, истории и критики (criticism). Предшествовавшие поколения созерцали бога и природу лицом к лицу; мы же это
660
делаем их глазами. Почему же нам тоже не насладиться непосредственным отношением к Вселенной? Почему и нам не иметь поэзии я философии внутреннего, проникновенного зрения, а не традиции, не иметь религии, откровения, а не их истории? Возникая и появляясь лишь на время среди природы, волны жизни которой переливаются вокруг и в нас самих и силами, которые они несут, зовут нас к действию, соразмеренному с природой, зачем нам пробираться среди иссохших костей прошлого и облачать в маскарадный костюм из его изношенного гардероба живущее поколение? Солнце и нынче светит. На полях сейчас больше шерсти и льна. Теперь есть новые земли, новые люди, новые мысли. Будем же требовать и наших собственных трудов (works), и законов, и поклонения.
Без сомнения, нет вопросов, которые бы нам приходилось ставить и на которые не "было бы ответа. Мы должны верить в совершенство творения настолько, чтобы ожидать, что какой бы интерес и любознательность ни были пробуждены порядком вещей в наших умах, тот же порядок вещей в состоянии таковые удовлетворить. Условия, в которых находится каждый человек, есть изображенное иероглифами разрешение тех вопросов, которые он мог бы поставить. Это разрешение он осуществляет своей жизнью раньше, чем он воспринимает его как истину. Подобным образом и природа в своих формах и тенденциях изображает уже свой собственный план (design). Станем же вопрошать этот великий видимый мир (apparition), сияющий так мирно вокруг нас. Зададим себе вопрос: для чего, для какой цели природа существует?
Все научное знание имеет одну задачу, а именно обосновать теорию природы. Мы имеем теории рас и жизненных функций, но вряд ли у нас есть хотя бы отдаленнейшее представление об идее творения. Мы в настоящее время так далеки от пути к истине, что вероучители наши вечно между собой спорят и ненавидят друг друга, а люди умозрения почитаются ненормальными и малозначащими. А между тем для здравого суждения самая отвлеченная истина есть самая практическая. Когда бы истинная теория ни появилась, она всегда будет очевидным доказательством самой себя. Подтверждением ее служит то, что она объясняет все явления. В настоящее время многие из них считаются не только необъясненными, но и необъяснимыми, каковы язык, сон, сумасшествие, сновидения, животная жизнь (beasts), пол.
Вселенная, если рассматривать ее философски, состоит из природы и души. Поэтому, строго говоря, все, что отделено от нас, лежит вне нас, все то, что философия различает под понятием не-Я, то есть природа и искусство, все другие люди и мое собственное тело должны быть помещены в категорию, именуемую Природой. Перечисляя ценности природы и подводя им итог, я буду употреблять это слово в обоих смыслах: в его обычном и его философском. В исследованиях столь общего характера, как настоящее, некоторая неточность терминологии несущественна: она не поведет ни к какому смешению понятий. Π ρ и -p о д а в обычном смысле этого слова объемлет собой сущности, не подвергшиеся никакому изменению со стороны человека, каковы пространство, воздух, река, лист. Искусство обозначает
661
собой соединение человеческой воли с этими самыми вещами, проявляющееся, например, в доме, канале, статуе, картине. Но воздействия человека на природу, взятые во всей их совокупности, столь незначительны — немного колки и рубки, варки, сшивания и мытья, — что в общем впечатлении, столь грандиозном, как то, которое мир производит на человеческий ум, они не изменяют результата (стр. 1, 20—21).
VI. ИДЕАЛИЗМ
[...] Люди пустые потешаются над учением идеализма, как если бы оно действительно' приводило к нелепо-смешным результатам, как если бы оно затрагивало устойчивость (stability) природы. Этого идеализм, конечно, не делает. Бог никогда с нами не шутит и не станет компрометировать цель природы допущением какой-либо непоследовательности в ее процессе. Малейшее недоверие по отношению к постоянству законов [природы] парализовало бы способности человека. Их постоянство свято чтится, я вера человека в него совершенна. Все колеса и пружины человека приспособлены к гипотезе постоянства природы. Мы созданы не как корабль, чтобы метаться по волнам, а как дом, чтобы стоять твердо. Естественное последствие такой, структуры то, что, пока активные силы преобладают над рефлективными, мы с негодованием отвергаем всякий намек на то, будто природа более кратковременна и подвержена изменениям, чем дух. Маклеру-дельцу, колеснику, плотнику, сборщику податей такое утверждение, конечно, далеко не по вкусу.
Но когда мы совершенно свыкаемся с постоянством законов природы, вопрос об абсолютности существования природы все-таки остается открытым. Однообразное, влияние культуры на человеческий ум выражается в том, что она 'не колеблет нашей веры в устойчивость частных явлений, как, например, теплоты, воды, азота, но приводит нас к взгляду на природу как на мир явлений, а не на субстанцию, к признанию за духом необходимого существования, к воззрению на природу как на то, что случается, как на эффект или действие.
Чувствам и самобытному уму свойственна особая инстинктивная вера в абсолютное существование природы. Для них человек .и природа неразрывно связаны. Вещи суть конечные сущности, и они никогда не заглядывают за пределы своей сферы. Присутствие разума портит эту веру. Первое усилие мысли направлено к ослаблению этого деспотизма чувств, прикрепляющего нас к природе, как если бы мы были ее частями, и показывает нам природу на расстоянии и, так сказать, на ходу. До тех пор пока этот высший деятель не вмешался, животное око видит с удивительной точностью резкие очертания и окрашенные поверхности. Когда открывается око разума, к очертаниям и поверхности сразу прибавляются грация и выразительность. Они происходят от воображения и влечения и несколько ослабляют геометрически различаемую обособленность объектов. Если разум поощряется К более серьезному видению, очертания и поверхности становятся прозрачными и невидимыми; сквозь них виднеются причины и духовные начала. Лучшими моментами жизни являются эти восхитительные пробуждения высших сил и почтительное стушевы-вание природы перед ее богом.
662
Приступим теперь к указаниям на действия (effects) культуры.
1. Нашим первым уроком в философии идеализма является внушение, исходящее от самой природы.
Природа .создана для того, чтобы в заговоре с духом нас эмансипировать. Известные механические перемены, некоторое изменение нашего местоположения знакомят нас с дуализмом. Мы испытываем странные впечатления, смотря на берег с плывущего корабля, с воздушного шара или же при освещении необычно окрашенного неба. Малейшая перемена в нашей точке зрения придает всему миру живописный вид. Человеку, который редко ездит, достаточно сесть в экипаж и проехаться по родному городу для того, чтобы улицы в его глазах превратились в сцены театра марионеток. Мужчины, женщины — болтающие, бегущие, торгующие, дерущиеся, серьезно глядящий ремесленник, зевака, нищий, мальчишки, собаки — все это сразу дереализуется или по крайней мере совершенно выходит из круга всяких отношений к наблюдателю и созерцается в качестве кажущихся, но не субстанциальных существований. [...]
Отсюда возникает удовольствие, смешанное со страхом (awe); я сказал бы, чувствуется низшая ступень возвышенного благодаря, вероятно, тому факту, что человек при этом узнаёт, что в то время как мир представляет собой меняющееся зрелище, в нем самом есть нечто постоянное.
2. В более высокой форме то же самое удовольствие доставляет поэт. Немногими штрихами он очерчивает, словно в воздухе, солнце, гору, лагерь, город, героя, деву, не отличающимися от того, какими мы их знаем, но лишь вознесенными над землей в витающими перед нашими глазами. Он сдвигает с места землю и море, заставляя их вращаться вокруг оси его первичной мысли, я переставляет их на новый лад. Сам находясь во власти героической страсти, он пользуется материей в качестве ее символов. Одаренный обыкновенными чувствами человек сообразует мысли с вещами; поэт сообразует вещи со своими мыслями. Первый почитает природу основательно укрепленной и твердой, второй — текучей, переливающейся и накладывает на нее отпечаток своего существа.-Для него непокорный мир покорен и податлив; он наделяет прах и камни человеческими свойствами и превращает их в слова разума. Воображение может быть определено как употребление, которое разум делает из материального мира. [...]
Восприятие реального сродства между событиями (что и есть, так сказать, идеальное сродство, ибо таковое в сущности единственно реально) дает поэту возможность свободно распоряжаться большинством импозантных форм и явлений мира и, таким образом, утвердить преобладающее господство души.
3. Одушевляя, таким образом, природу своими собственными мыслями, поэт отличается от философа только в том, что он ставит своей главной целью красоту, последний же — истину. Но философ не меньше, чем поэт, ставит видимый порядок и отношения вещей после, на втором плане за областью мысли. «Задача философии, — согласно Платону, — состоит в нахождении для всего, что существует условно, безусловного и абсолютного основания». Она основывается на вере в то, что все явления закономерны и что, если известны их законы, можно предсказывать
663
Ябяения. Закон явлений, обнимаемый умом, есть идея. Его красота бесконечна. Настоящий философ и подлинный поэт — одно И то же, и красота, которая есть истина, и истина, которая есть красота, являются целью стремлений того и другого. Разве прелесть какого-нибудь из определений Платона или Аристотеля не напоминает собой совершенно прелести такого образа, как Антигона Софокла? В том и в другом случае духовная жизнь сообщена природе, твердый на вид кусок материи проникнут и разложен мыслью, это слабое человеческое существо проникло в необъятные массы природы пытливой души и узнало себя в их гармонии или, иными словами, постигло их закон. В области физики, когда это достигается, память чувствует себя освобожденной от заваливающих ее каталогов частностей и вдвигает многовековые наблюдения в рамку одной формулы.
Таким образом, даже в физической области материальное, вещественное стушевывается перед духовным. Астроном, геометр полагаются на свой несокрушимый анализ и пренебрегают результатами наблюдений. Возвышенное замечание, вырвавшееся у Эйлера по поводу открытого им закона сводов: «Это покажется противным всему опыту, но тем не менее это верно», — переносит в ум [человека] и оставляет в стороне материю, словно выброшенный за борт труп.
4. Умозрительное знание, как это всегда наблюдалось, неизменно ведет к сомнению в существовании материи. Тюрго говорил, что «тот, кто никогда не сомневался в существовании материи, может быть уверен в том, что у него нет никакой способности к метафизическим исследованиям». Последние сосредоточивают внимание на бессмертных, стало быть необходимо несотворенных натурах, т. е. на идеях; а в их присутствии, мы чувствуем, внешняя среда — это сновидение и тень. Пока мы пребываем на этом Олимпе богов, природа представляется нашей мысли как придаток души. Мы возносимся в их царство и узнаем, что это мысли верховного существа. «Это они, что установлены испокон веков, с самого начала, или с тех пор, как существует земля. Когда всевышний создавал небеса, они уже были; они были уже, когда он вызвал облака вверху и заставил ключи бить из глубины. Тогда они были благодаря ему как нечто пришедшее вместе с ним. Их он призывал к совету».
Влияние идей пропорционально. В качестве объектов цауки они доступны немногим. Но все люди могут возноситься благодаря благочестию или страсти в их края. И ни один человек не прикасается к этим божественным натурам без того, чтобы самому не становиться в известной степени божественным. Подобно новой душе они обновляют тело. Мы становимся физически подвижными и светозарными; мы шествуем по воздуху; жизнь перестает быть тягостной, и нам кажется, что она никогда уже более таковой не будет. Никто не боится в их ясном и светлом обществе старости, или несчастья, или смерти, ибо среди них человек занесен далеко за пределы изменяющегося. Пока мы глядим на обнаженную природу Справедливости и Истины, мы ознакомляемся с различием между абсолютным и условным, или относительным. Мы познаем абсолют. Мы словно впервые существуем, мы становимся бессмертными, ибо узнаем, что время и простран-
664
ство суть отношения материи; что они не имеют никакого сродства с восприятием истины или добродетельной волей.
5. Наконец, религия и этика, которые могут быть по праву названы практикой идей или введением идей в жизнь, обладают способностью, аналогичной действию всякой культуры на низкой ступени, принижать природу и выявлять ее зависимость от духа. Этика и религия различаются в том, что первая представляет собой систему человеческих обязанностей по отношению к человеку, вторая — к богу. Религия заключает в себе личность бога. Этика ее не заключает.· Для обоснования настоящего нашего тезиса обе они — одно и то же. Обе они попирают природу ногами. Первый и последний урок религии гласит: «Видимые вещи — временны, невидимые — вечны». [...]
Преимущество идеалистической теории перед общераспространенной верой заключается в том, что она дает то миросозерцание, которое наиболее отвечает запросам и потребностям ума. Это есть в действительности миросозерцание, к которому приходит Разум, как чистый, спекулятивный, так и практический, т. е. как философия, так и добродетель. Созерцаемый при свете мысли, мир всегда феноменален, представляет собой внешние явления; но добродетель подчиняет его уму. Идеализм видит мир в боге. Он созерцает весь этот круг лиц и вещей, действий и событий, стран и религий не как мучительно накопленный, атом за атомом, акт за актом, в древнем, медленно ползущем прошлом, но взирает на него как на одну необъятную картину, которую бог" пишет на вечно настоящем для созерцаний души. Поэтому душа и держится поодаль от слишком тривиального и микроскопического изучения мировой таблицы. Она преисполнена слишком большого благоговения перед целью, для того чтобы дать себя поглотить средствами. Она усматривает нечто более важное в христианстве, чем лишь хроники церковной истории или тонкости критицизма; и, проявляя очень мало интереса к лицам и чудесам и нисколько не смущаясь бездной исторических доказательств, она принимает от бога это явление так, как она его находит, т. е. в качестве чистой и величественной формы мировой религии. Она не горит страстью при наступлении того, что она называет своим счастьем и несчастьем, при сочувственном отношении или оппозиции других лиц. Никто не враг ей. Она принимает все, что бы ни случилось, как выпадающий на ее долю урок. Она больше наблюдает, чем действует, и действует только затем, чтобы лучше наблюдать (стр. 35—39).
