Владимир Рубцов
| Вид материала | Рассказ |
СодержаниеРис. 3. Схема воплощённого состояния духа (монады). Символ души Vii. начало духовного пути Viii. дорога |
- Шестнадцатая серия, 450.3kb.
- Реферат Гель Scarfade форма полисилоксанового геля для нанесения на кожу зарегистрированный, 93.76kb.
- В. В. Рубцов 2010 г, 1197.77kb.
- Программа москва, 23-25 ноября 2011 года В. В. Рубцов (председатель) ректор Московского, 523.84kb.
- Конкурс "Знай и люби родной Владимир" «владимир и владимирцы в великой отечественной, 41.68kb.
- Владимир Маканин. Голоса, 855.51kb.
- В. И. Вернадский – книги и статьи Вернадский, Владимир Иванович. Дневники, 77.32kb.
- Константинов Владимир Андреевич, 59.72kb.
- Тема: Николай Рубцов, 54.7kb.
- Г. С. Батыгин лекции по методологии социологических исследований учебник, 2024.49kb.
Рис. 3. Схема воплощённого состояния духа (монады).
Из схемы видно, что душа является отражением в материи духа (монады), то есть сопряжённой с материей частью духа. Происходит это в результате сложнейшего процесса воплощения. При воплощении дух (монада) генерирует изначальное (совокупное) пси-поле, представленное на схеме в виде расходящегося книзу луча белого света наподобие луча от карманного фонарика или, если хотите, летающей тарелки. Это так называемый мистический белый свет, содержащий в себе всё многоцветие духа. При соприкосновении с физическим телом луч изначального пси-поля, во-первых, проходит через призму архетипов и распадается на многоцветный спектр архетипической мозаики, а во-вторых, преломляется, проходя через посредник между духом и телом, то есть через водную среду организма. В результате образуется несколько искажённое, отражённое пси-поле, собирающееся в вершину сознания, венчающую душу. Обратите внимание на то, сколь мало выходит за пределы нижней границы водной среды обычное сознание человека. На схеме хорошо видно, сколь оно ничтожно по сравнению с погружённым в пучину вод массивным основанием бессознательного. А ведь эго – это центр сознания, то есть самая верхушка этой малой вершины! Да попросту точка!!! Теперь, надеюсь, вам понятно насколько ошибается человек, отождествляя себя с этой верхушкой-точкой. Для удобства рассмотрения перевернём на 180 нижнюю часть рисунка, чтобы убедиться в мизерности обыденного узкого сознания и его центра – эго (рис. 4).
С
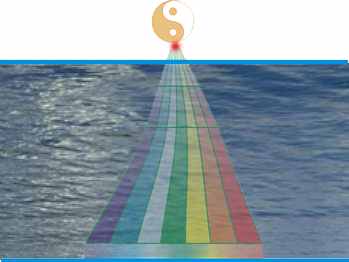 имвол души
имвол души(отражение духа)
Эго-точка
Сознание
Ближнее подсознание
Дальнее подсознание
Бессознательное
Уровень архетипов
Рис. 4. Схема души – воплощённой части духа (монады).
В результате получилось, что сознание обычного человека лишь немного выступает над уровнем бессознательного, то есть настолько мало, что с его верхушки-эго (красная расплывчатая точка) человек может обозревать (осознавать) лишь малую часть себя и окружающей его действительности. Большая же часть воплощённого человека скрывается в пучине бессознательного, поэтому первейшая задача самопознания состоит в расширении сознания по направлению к уровню архетипов, чтобы постараться пройти его многоликого Стража Порога (а сделать это очень непросто!) и проникнуть в область сверхсознания, где лишь немногим избранникам за всю историю человечества посчастливилось встретиться со своей сверхсущностью (духом, монадой) – бесконечно мудрым и безмерно любящим существом, состоящим из чистого, белого, нетварного света.
При прогрессивном духовном развитии наблюдается расширение сознания одновременно с уменьшением относительных размеров эго-комплекса (рис. 5). Становясь всё более мелким по сравнению с расширяющимся сознанием, эго-комплекс постепенно перестаёт играть исключительную, то есть главенствующую роль в осознанном восприятии окружающей действительности и внутреннего (духовного) мира человека. При этом человеческая личность преображается, для её обострённого восприятия становятся доступны ранее невидимые ауральная оболочка и энергетические центры (чакры) тонкого тела, а также различные тонкоматериальные сущности, в изобилии населяющие так называемый астральный мир. Абсолютно по-другому человек начинает осознавать себя самого, возникает насущная потребность переоценки жизненных ценностей и радикального пересмотра основных целей и задач воплощения.
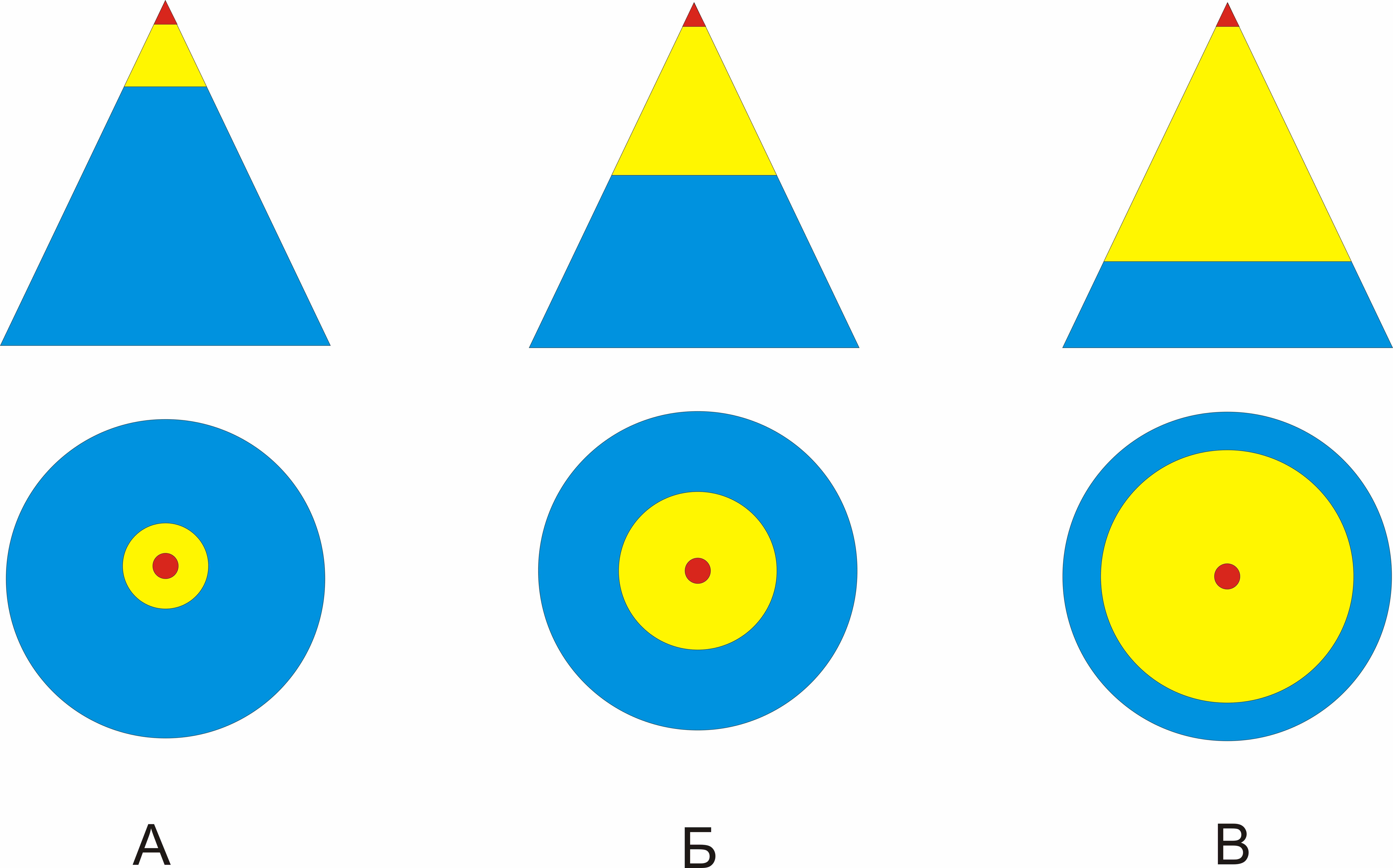
Рис. 5. Расширение сознания (жёлтый цвет ) на фоне бессознательного(синий цвет)
и уменьшение относительных размеров эго-комплекса (красный цвет).
Итак, душа представляет собой неотъемлемую часть духа, его, если можно так выразиться, информационно-энергетический зонд, заведённый в результате сложнейшего процесса воплощения в плоть – физическое тело человека. Во время воплощения дух и душа существуют в разных измерениях, но остаются неразрывно связанными. После развоплощения, то есть смерти, душа покидает тело, и дух как бы втягивает, вбирает в себя душу. Душа возвращается в объятия духа, как возвращается в руку покрытый яркой фольгой игрушечный мячик на резинке. А ведь дух может играть одновременно двумя руками, отправляя на землю сразу две души. А если вспомнить шестируких индийских божеств, то становится ясно, что наиболее продвинутые духовные сущности, воспринимаемые на Земле как боги, могут одновременно манипулировать шестью душами. Все приведённые для сравнения образные примеры служат одной лишь цели – максимально приблизить читателя к осознанию истинной сути взаимоотношений души и духа. Первая является частью второго, ни больше, ни меньше.
Как когда-то Отец послал Сына, так и дух посылает на землю душу. Как Сын единороден Отцу, так и душа человеческая единородна её духу. Как Сын сидит одёсную Отца, так и душа после развоплощения возвращается к духу, чтобы пополнить его хранилище информации бесценным опытом ещё одной прожитой на земле жизни. Всё по образу и подобию Бога!
Будучи воплощённой ипостасью духа, его земным отражением, душа царствует в физическом теле человека. Собственно она его и оживляет. Она тот, кто сидит в пруду земной жизни! Именно она может осознавать, запоминать, думать, размышлять, любить, ненавидеть, ликовать, торжествовать, дрожать, наконец, уходить в пятки. Мозг лишь сложный биологический инструмент, на котором душа мастерски исполняет музыку жизни! Душа – источник нашего сознания. Центр сознания – автономный эго-комплекс, с которым, как правило, полностью отождествляет себя воплощённый человек. Эго настолько высокомерно и заносчиво, что попросту не замечает, что оно лишь фантом, который может вдруг исчезнуть и никогда больше не вернуться. Именно непомерная самоуверенность и архиамбициозность эго-комплекса (эгоизм высшей пробы!) лежат в основе так называемого первородного греха, то есть падкости на всякого рода искушения, чему, увы, способствует предоставленная человеку Творцом свобода воли.
Но конкретный эго-комплекс не является единственным властелином человеческого тела. Вспомните далеко не единичные случаи безвозвратно утраченной памяти (амнезии) в результате серьёзной травмы, экстремальных физических нагрузок или психического перенапряжения. В таких случаях после возвращения сознания человек начинает жить заново. Постепенно образуется абсолютно другая личность, правда значительно быстрее, чем у младенца, потому что мозг уже сформирован. Неповторимая индивидуальность человека как бы надевает иную личину (маску) и продолжает своё земное существование, осознавая себя абсолютно другим человеком. Если кратко, то один эго-комплекс сменяется другим, но при этом остаётся неизменной прописанная в душе сокровенная индивидуальность, благодаря которой возвращённый из небытия и вновь осознавший своё существование человек говорит сам себе: «Я есть».
Проводя аналогии, осмелюсь немного внедриться в психиатрию, по неофициальному мнению которой нет абсолютно здоровых в психическом плане людей, а есть лишь необследованные. Шутка шуткой, а вот с таким заболеванием, как шизофрения далеко не всё ясно. Я имею в виду не явные, так сказать, классические случаи, где налицо полная деструкция личности. Я говорю о тех случаях, когда в одном человеке сосуществуют, не ведая друг о друге, поочерёдно овладевая сознанием две, а то и три автономные личности. Создаётся впечатление, что на сцене сознания поочерёдно выступают абсолютно разные личности, играющие каждая свою роль. Причём осознанное существование каждой из этих личностей нельзя назвать хаотичным, фрагментарным, сумбурным, непоследовательным и т.п. Каждая личность проживает свою жизнь, обладает собственной логикой и памятью, стремится к последовательному осуществлению своих индивидуальных целей. Они не знают друг о друге, но и только. А всё остальное практически неотличимо от нормального существования. Каково?! Вот и подумайте на досуге о том, кто вы на самом деле: возомнивший о себе Бог весть что эго-комплекс или нечто гораздо большее?
Какая из частей человеческого тела служит обителью для души? Я думаю, что всё тело, вся его водная среда, но более всего те органы, где больше всего содержится воды, а именно кровь, головной и спинной мозг. Душа пронизывает собой всё физическое тело, но в разные моменты жизни она может концентрироваться преимущественно в каком-либо участке тела, нервном сплетении или конкретном органе. Вспомните такие всем известные выражения, как «сердце кровью обливается» (чувство жалости или сожаления), «засосало под ложечкой» (тревожность, обеспокоенность), «душа ушла в пятки» (стрессорное состояние на фоне страха), «у него нет души» (рассудочно-чёрствое состояние), «он вне себя» (частичный или полный выход души из тела, утрата сознательного контроля над телом) и др. Особо хочу отметить выражение «он вышел из себя». Что это значит? А то и значит, что душа даже при жизни может на какое-то время покидать своё бренное физическое пристанище и странствовать по различным мирам, то есть измерениям. У обычных людей это неосознанно происходит каждую ночь во время сна. Духовно развитые люди могут вводить себя в особый транс и совершать осознанные внетелесные путешествия. И во время сновидений, и во время осознанного внетелесного опыта душа остаётся связанной с телом так называемой «серебряной нитью» или, по словам Лобсанга Рампы, волокном лучистой энергии, которое может удлиняться практически до бесконечности. Эта связующая энергетическая нить наподобие оптоволокна соединяет душу со всеми мириадами точек сопряжения на уровне интерфейса биокомпьютера, где основную роль играет центральная нервная система. Обратимый надрыв «серебряной нити» означает клиническую, а полный разрыв – биологическую смерть.
Теперь необходимо рассмотреть понятия «подсознание» и «бессознательное», как я их понимаю, покончить с этим раз и навсегда, а затем перейти к более подробному рассмотрению наиболее знаменательных событий моего настоящего воплощения.
Подсознание хранит в себе неосознанные или вытесненные воспоминания текущего воплощения. Причём в ближнем подсознании хранится когда-то осознанная, принятая к сведению и пока отложенная за ненадобностью информация практически о всех событиях, произошедших в настоящей жизни. В дальнем подсознании хранятся сведения о зачатии, внутриутробном развитии, родах и событиях, в которых новорожденный, а впоследствии младенец принимал, так сказать, пассивное, неосознанное участие. Разделительным критерием между ближним и дальним подсознанием является момент обретения ясного сознания.
Бессознательное представляет собой коллективный многовековой опыт предков, кристаллизованный в виде архетипов, которыми вымощен фундамент человеческой психики. На пути духовного развития жаждущему обрести истину с каждым разом придётся всё глубже и глубже погружаться в пучину бессознательного, где его неизменно будут поджидать всякого рода испытания, прежде чем будет дозволено преодолеть очередной уровень погружения. Тут всё почти как в компьютерной игре: прошёл уровень – получи бонус и переходи на следующий, не прошёл – будь добр, начни всё сначала. Почти, но не всё и, впрочем, совсем не так.
VII. НАЧАЛО ДУХОВНОГО ПУТИ
Как я дошёл до жизни такой, что начал заниматься самокопанием? Всё очень просто. В один прекрасный день я впервые осознал, что когда-нибудь непременно умру. История не то, чтобы жуткая, но впечатляющая и уж конечно имеет самое прямое отношение к самопознанию.
Когда мне стукнуло четыре с половиной года, мы с родителями переехали от бабушки жить в новую двухкомнатную квартиру, которую дали отцу. На дворе тогда верховодил январь1968 года. По тем временам для молодой семьи иметь отдельную квартиру со всеми удобствами, выражаясь по-современному, было круто.
Нас в семье в ту пору было четверо: отец, мама, старший брат Паша и я. К новому жилью мы привыкли довольно быстро и вскоре уже не представляли себе никакого другого дома, хотя до этого около десяти лет прожили, как выразился мой отец, у тёщи, и, судя по родительским воспоминаниям, это были далеко не самые плохие годы.
Тёщу, то есть мою бабушку по маме, звали баба Тая. Я её очень любил и долгое время называл мамой, потому что в раннем детстве зачастую рядом оказывалась именно она, а не мама или отец, которые, как и вся трудовая молодёжь того времени, с утра до вечера неустанно строили коммунизм – наше светлое будущее. От дома бабы Таи до нашей новой квартиры было полчаса хода по улице Профсоюзной, которая в конце пути довольно круто брала вверх и вызывала основное затруднение и безобидное ворчание всех моих пожилых родственников. Не помню от кого именно из своих родных я узнал, что раньше, ещё до того как начали строить наш новый посёлок хрущёвских пятиэтажек, улица Профсоюзная носила совсем иное и даже пугающее название – Кладбищенская.
С каждым годом, по мере взросления до меня стал доходить истинный смысл названия нашего посёлка, который изобретательная народная молва окрестила как «Живые и мёртвые». Долгое время никто не знал названия автобусной остановки «Автомобилист», все пассажиры «десятки» или «двойки» всегда спрашивали: «На «Живых и мёртвых» выходите?» Или просили водителя автобуса: «Остановите, пожалуйста, на «Живых и мёртвых». Была и другая остановка «Восток», но многие всё же выходили на «Живых и мёртвых». Долгое время эта остановка оставалась «по требованию».
Такое название наш посёлок получил по одной единственной причине: он был построен на месте поспешно снесённого старого покровского кладбища, которому на момент начала строительства панельных пятиэтажек было около ста лет. Конечно же, положенный двадцатипятилетний срок после закрытия старого кладбища был полностью выдержан, прежде чем его снести. Срок санитарной выдержки человеческих останков в земле. Но срок – это бюрократия и только. Ничем другим я не могу объяснить решение тогдашней власти одним махом, каким-то корявым росчерком пера лишить возможности моих и не только моих вполне ещё бодрых бабушек и дедушек навещать могилы своих родителей, безвременно ушедших в небытие братьев и сестёр. Было старое кладбище и в одночасье его не стало, оно обрело новый статус социалистической стройплощадки домов для остро нуждающихся в жилье молодых и не очень молодых семей.
Так вот к чему я веду разговор. Фактически мы жили на старом кладбище и там, где между котлованами остались нетронутые участки земли до сих пор покоятся кости покровчан минувшей эпохи царизма и начала эпохи социализма, кстати сказать, тоже уже минувшей. Мы каждый день ходили и продолжаем по сей день ходить над ними. А было время, что ходили прямо по ним и не только ходили, а глумились, пинали, топтали, раскалывали на куски. Конечно, это делали не взрослые, а безумные дети 70-х, к числу которых относился и ваш покорный слуга. Но взрослые это допустили, хотя могли и должны были не допускать.
Задам вам один вопрос: что является спутниками, этакими сателлитами любого посёлка многоэтажек? Гаражи, конечно. При строительстве гаражей бок о бок с моим посёлком, когда бригада экскаваторщиков под натужно-чавкающее рычание дизельных двигателей, равнодушно и неумолимо наносила всё новые и новые раны слежавшемуся глиняному грунту старого кладбища, рождая стройные ряды глубоких ям для будущих погребов, все мальчишки посёлка от мала до велика с превеликим любопытством наблюдали все подробности этой широкомасштабной эксгумации. И тут уж мы созерцали такое и в таком количестве, что головы шли кругом. Нас буквально завораживало зрелище груд самых разных человеческих костей, остатков истлевшей одежды, обломков сгнивших гробовых досок, иссохших могильных червей, и, конечно же, черепов. Черепа, как и другие кости, были самые разные: белые, жёлтые и даже почерневшие, целые, надтреснутые и раздробленные. Они взирали на нас с устрашающей укоризной, а мы обращались с ними с какой-то дерзкой и даже глумливой небрежностью. Будучи детьми, ещё не научившимися задумываться о последствиях своих шаловливых поступков, мы надевали скалящиеся остатками зубов черепа на палки и бегали с ними по двору или постепенно приходившему в упадок, расположенному рядом с посёлком парку-стадиону. Пробовали черепа на прочность, разбивая их вдребезги камнями или кусками толстых арматурных прутьев. Наконец, просто пинали их ногами, отбрасывая в сторону с многочисленных тропинок нашего детства. Короче мы проявляли к человеческим костям самое жуткое неуважение, которое только могут проявлять безумные дети. Не знаю, как для других, но для меня вид изобилия человеческих костей на протяжении множества летних дней однажды перешёл из количества в качество, приоткрыв завесу жуткой тайны, о которой все знают, но предпочитают не задумываться.
В одно пасмурное августовское утро я прогуливался в полном одиночестве вдоль ряда недавно вырытых погребных ям. Серое небо не располагало к радужному настроению, и я пребывал в мрачной задумчивости. На глинистом дне одной из ям я увидел два не вполне целых, но хорошо сохранившихся позвоночных столба. По сути, это были поясничные позвонки с крестцами, которые чудом не распались на отдельные кости, а продолжали сохранять подобие целостности. Желтизна и крупность позвонков всецело приковали моё внимание. Я захотел рассмотреть их поближе и даже потрогать руками. Яма для погреба была глубокой, но в тот момент я не думал, как буду потом из неё выбираться. Мне хотелось поскорее оказаться в этой яме и прикоснуться к таинственным позвонкам. Какая-то сила неумолимо влекла меня к ним, и вскоре я уже сидел на дне ямы, склонившись над останками человеческих хребтов. Постепенно их вид настолько сильно удручил меня, что моя душа вдруг наполнилась безысходной тоской, быстро превратившейся в чёрную меланхолию. И в этот момент тяжкого душевного мрака небо моего разума больно ослепила молния прозрения: «Я смертен! Когда-нибудь я обязательно умру, и от меня останется лишь груда желтоватых костей, которые захочет пнуть ногой какой-нибудь глупый мальчишка!»
Пребывая в шоке от своего нежданного открытия, я в панике стал карабкаться по стене ямы, стараясь поскорее выбраться наружу из этой давящей со всех сторон, распотрошённой могилы, где много лет назад упокоились, но так и не нашли вечного приюта какие-то неизвестные мне люди. Я старался изо всех сил, но земля осыпалась под судорожным натиском моими ногами, а тонкие корни, за которые я пытался схватиться руками, всё время обрывались под тяжестью моего отнюдь не худощавого тела. Я оказался в западне наедине с пугающими меня человеческими останками, и душу мою затопил настоящий ужас безысходности.
К счастью просидел я в могиле не так уж и долго. Примерно через полчаса такие же любопытные как я поселковые мальчишки заглянули, пробегая мимо, в эту самую яму и со смехом помогли мне зарёванному выбраться из коварной западни. Потешившись вволю над моей неловкостью, они поспешно удалились по своим важным мальчишечьим делам. Я же, стряхнув с одежды глинистый грунт, рассеянно поплёлся домой.
Придя домой, я был мрачнее тучи. В душе возился огромный могильный червь, а тут ещё брат Паша слушал на проигрывателе грустную песню «Каравелла» в исполнении Эдиты Пьехи.
Триста дней не спускаю с моря глаз,
Ведь у меня есть каравелла…
Заунывная мелодия песни оказалась последней каплей, переполнившей мою устрашённую жуткой истиной душу, и накопившаяся горечь безысходности ринулась наружу с бурным потоком горючих слёз. Мой истеричный плач, конечно же, привлёк внимание родителей. Они успокоили меня, как могли. Но успокоившись и перестав всхлипывать, я не стал прежним беззаботным мальчиком.
С той самой поры призрак неминуемой смерти нет-нет, да и замаячит на моём жизненном горизонте, заставляя вспомнить пасмурный летний день из моего уже далёкого детства, когда одиннадцатилетним мальчишкой я впервые осознал, что рано или поздно наступает конец жизни, называемый смертью. Подгоняемый страхом смерти уже тогда я стал задумываться над тем, есть ли в человеке нечто неподвластное физическому уничтожению. Не сумев отыскать ничего более оригинального, я ухватился за спасительную соломинку, имя которой душа. Я долго искал в себе эту самую душу и спустя десятилетия, в конце концов, нашёл.
Так начался мой путь самопознания, который, как и все подобного рода пути, повторяется и продолжается из воплощения в воплощение, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие…
VIII. ДОРОГА
В продолжение к предыдущей главе поведаю вам ещё один эпизод из моего далёкого детства, который имеет для меня символическое значение.
Иногда дети уходят, то есть теряются. Делают они это быстро, в один миг или в два счёта, как уж получится. Только что был ребёнок и вот его уже нигде не видно. Чаще всего этот родительский кошмар случается на базаре, рынке, стадионе или других густонаселённых общественных местах. Но бывает, знаете ли, совсем обыденно: вышел ребёнок во двор погулять и вдруг исчез. А всего лишь пять минут назад мама его окликала с балкона, чтобы он не валялся в снегу или не черпал сапожками мутную воду огромной лужи.
Я тоже исчезал, но один единственный раз. Какие помыслы движут исчезающими детьми, то есть как, собственно, они исчезают? Чаще всего увлекаются какой-нибудь игрой с мальчишками или девчонками из соседнего двора или решаются с кем-то напару, а то и втроём исследовать туманные горизонты далёких улиц, где хранят своё притягательное достоинство магазины игрушек, спорттоваров или рыболовных принадлежностей. В моём случае причина исчезновения была простой. Я просто решил попробовать, сумею ли сам, без мамы дойти пешком к бабушке тем таинственным путём среди старых деревянных покровских домов, которым прошёл единственный раз. Словом решил испытать, сумею ли я найти обратную дорогу. Таков уж был мой первый невольный опыт самопознания.
Решение это пришло не вдруг, а как-то постепенно одним погожим январским днём 1968 года. Было мне почти четыре с половиной года, и я уже считал себя вполне самостоятельным человеком, чтобы решиться на этот рискованный поход. Как это обычно бывало, в выходной день я вышел погулять во двор после завтрака. Гулял я, как правило, до обеда, потому что время в компании с другими дворовыми мальчишками проходило очень быстро. В день моего одиночного путешествия ребят во дворе оказалось мало, и сначала я решил пройтись до горки, перейдя дорогу по улице Полиграфической. Сказано – сделано. Через дорогу, кстати сказать, в то время полупустую, я перешёл самостоятельно без всяких проблем и сразу же окунулся в крикливо-шумный мирок детворы, занимающейся очень важным и полезным делом – катанием с горы. Я был малявкой, к тому же без санок, поэтому на меня никто не обращал особого внимания. Кататься мне почему-то вовсе не хотелось, поэтому обычной в подобных случаях зависти я не испытывал. Посвятив некоторое время молчаливому созерцанию возбуждённой саночным катанием детворы, я вдруг обратил взор на редких прохожих, спускающихся вниз по улице Профсоюзной, в дореволюционном девичестве Кладбищенской. Это была та самая пешая дорога, по которой мама впервые привела меня из старого дома бабушки, чтобы отныне жить в новенькой двухкомнатной квартире вместе с отцом и старшим братом. Почему-то вид этой сбегающей вниз снежной тропы, на которой редкими движущимися столбами возвышались неторопливые пешеходы буквально очаровал меня, и я тоже решил стать пешеходом на этой таинственной дороге. Сказано – сделано. И вот я уже пешеход. На своих маленьких, обутых в чёрные валенки ногах я семеню вниз по протоптанной в снегу тропе и радуюсь. Чему? Просто радуюсь, как это умеют делать только дети.
Несмотря на мой малый рост, бегущая под гору тропинка быстро закончилась, превратившись на ровном месте в широкую снежную тропу, покрытую узорами печатных следов сапог, ботинок и галош. У подножия горки тропа разделялась на три. Для меня это было сказочным перепутьем, с которым рано или поздно, но непременно встречались все былинные богатыри. Ну и пусть здесь не стоял великий камень, на котором старинными, полустёртыми от времени буквами было написано: «На право поедешь – коня потеряешь и т.д.». Камень я себе быстренько, безо всякого натягу представил и решил отправиться прямо, потому что именно прямой путь должен был привести меня к дому бабушки Таи, по которому я всё ещё часто скучал. Сказано – сделано.
И вот я, четырёхлетний мальчуган в чёрной шубке, в чёрном же (пятнистый девчачий, пацаны дразнить станут!) мутоновом малахае, в синих штанах с начёсом и в чёрных валенках, то есть во всём чёрном, как в страшной сказке про чёрную перчатку, перепоясанный старым кожаным ремнём и с шарфом, завязанным сзади как салфетка у Пятачка, топаю по избранному мной пути. А ведь поначалу собирался лишь поглядеть, как дети катаются с горки. Но так уж бывает у непоседливых детей, определённо бывает.
Летом пыльная, осенью и весной грязная улица Профсоюзная зимой выглядит очень даже прилично. Затвердевшая от мороза, забелённая снегом и утрамбованная тысячами ног дорога буквально манила меня к себе, и я семенил по ней всё более и более уверенный в правоте своего наивного желания познать истину: сумею ли я сам, без мамы дойти до бабушки Таи? Оказалось, что сумел.
Не знаю точно, сколько времени я потратил на этот путь, который взрослый преодолевает самое большее за полчаса, знаю лишь одно, что я был счастлив от переполняющей меня гордости. Счастлив, как могут быть счастливы только дети. Шагая по дороге, я отвечал на вопросы редких взрослых прохожих, обеспокоенных моим гордым одиночеством в таком юном возрасте, что я свой собственный, что иду к бабушке, что знаю куда иду и не надо меня никому провожать. Так по счастливой случайности без лихих происшествий я проделал путь длиной около трёх километров, на котором самостоятельно перешёл три автомобильные дороги и даже железнодорожные пути у элеватора.
Заходя во двор к бабушке, я испытывал предвкушение настоящего триумфа, когда войду и скажу всем (бабушке, тёте Кате и Наталье), что пришёл сам, совершенно один и абсолютно без посторонней помощи. На моём румяном от мороза личике играла загадочная улыбка, когда я с клубами пара чёрным комком вкатился в натопленную кухню. «Вот-вот сейчас я всем расскажу, на что может быть способен маленький мальчик!», - думал я про себя. Но сказать я ничего не успел, потому что первой спросила бабушка Тая: «Вовка, а где же мама?». Этот простой вопрос пронзил меня словно молния, по которой моя витающая от радости где-то в облаках душа мгновенно соскользнула на грешную землю. «Я один пришёл», – тихо ответил я, вместо того чтобы гордо и громко поведать всем, какой я молодец. «Как один, шкура ты барабанная?!», - воскликнула, вскинув руки, бабушка. Этого с меня было довольно, я расплакался…
Не знаю, расплачусь ли я в самом конце моего жизненного пути, который я часто сравниваю с той зимней дорогой, но мне бы очень хотелось, чтобы ТАМ меня встретил кто-нибудь такой же добрый и ласковый, как моя давно почившая бабушка Тая. А может быть она и встретит? Может быть, я хотя бы ещё раз услышу до боли знакомую фразу «Шкура барабанная!» – единственное ругательство, которым беззлобно пользовалась бабушка? Может быть. Кто знает…
