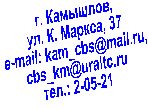Централизованная библиотечная система
| Вид материала | Документы |
СодержаниеФигура согласия, без которой этот дар немыслим, согласия автора и читателя, как бы вынуждаемого автором, не новость |
- «централизованная библиотечная система города калуги», 1900.27kb.
- Кузьмичева Лариса Алексеевна директор муниципального учреждения «Централизованная библиотечная, 1780.62kb.
- О работе с юношеством в мук «Централизованная библиотечная система» администрации города, 881.62kb.
- Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок по запросу котировок цен (только, 3981.18kb.
- Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок по запросу котировок цен (только, 9313.88kb.
- Решение по утверждению итогов по государственным закупкам методом ценовых предложений, 391.01kb.
- Техническое задание по закупке и поставке книгопечатной продукции для мук «Межпоселенческая, 1455.55kb.
- Государственное учреждение культуры города москвы «централизованная библиотечная система, 1533.37kb.
- Государственное учреждение культуры города москвы «централизованная библиотечная система, 2067.79kb.
- Информационный отчет о деятельности Муниципального учреждения культуры «Централизованная, 3277.88kb.
Централизованная библиотечная система
Библиотечно– информационная служба (БИС)
«Лауреаты в области литературы ХХI века»
Вадим Месяц

Камышлов 2008
Редакционная коллегия:
Кириловских Л. К.
Лавренцева М. Э.
Составители:
Лавренцева М. Э.
Кириловских Л. К.
Компьютерный набор
Попова С. В.
Художественное оформление:
Попова С. В.
Лавренцева М. Э.
«Лауреаты в области литературы XXI века» Вадим Месяц:/Сост. М. Э. Лавренцева, Л. К. Кириловских, Централизованная библиотечная система - Камышлов, 2008. - 16 с.
Коротко об авторе

Месяц Вадим Геннадьевич родился в Сибири в 1964 году. Окончил Томский университет. Кандидат физико-математических наук.
С 1993 года координатор русско-американской культурной программы при Стивенс - колледже (Хобокен, Нью Джерси, США).
Автор нескольких книг стихов: «Календарь вспоминальщика», «Выход к морю», «Час приземления птиц» и книг прозы: «Ветер с конфетной фабрики», «Когда нам станет весело и светло», «Лечение электричеством».
Лауреат премий «Улов» (2001) – за лучшую публикацию в Интернете, «Хрустальная роза» - за лучшую прозу, написанную за рубежом (2001), литературной премии им. П.П. Бажова (2002). Финалист Букеровской премии 2002 года.
Живет в США.
Творчество
Календарь вспоминальщика. — М.: Советский писатель, 1992.
Ветер с конфетной фабрики: Повесть. — М.: Былина, 1993
Выход к морю: Стихи. — М.: МИКО, 1996.
Час приземления птиц: Сборник стихотворений. — М.: МАИК «Наука/Интерпериодика», 2000.
Лечение электричеством: Роман. — М.: ТЕРРА, 2002.
Вок-вок: Рассказы. — М.: Новое литературное обозрение, 2004.
Хорошо: - что это такое?
(О прозе Вадима Месяца).
С
 реди литературных удач последнего времени (в постплатоновской литературе) можно выделить две группы произведений. Первая – к ней относятся, скажем, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Пушкинский дом» А. Битова, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына – вещи, в которых явлен свершительный простор. Здесь возможны большие и малые планы, возвраты, оглядки и петли стиля. Литература как мистерия, простирание текста свидетельствует о простирании мира… Вторая группа - поэзия А. Горнона, книжка Ю. Кокошко, «Школа для дураков» Саши Соколова: слово спертое, перегретое, тесное, апотичное. Литература как жизнь словесного тела, как его выделение. Полярность этих определяет творчество: склоняет к одному из этих двух полюсов. Промежуточное положение - его занимает «Москва - Петушки» В. Ерофеева - в принципе неустойчиво: у В. Ерофеева внешний мир - условие монолога, или же наоборот, он овнутрен в иронической фантазии «пьяной революции».
реди литературных удач последнего времени (в постплатоновской литературе) можно выделить две группы произведений. Первая – к ней относятся, скажем, «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Пушкинский дом» А. Битова, «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына – вещи, в которых явлен свершительный простор. Здесь возможны большие и малые планы, возвраты, оглядки и петли стиля. Литература как мистерия, простирание текста свидетельствует о простирании мира… Вторая группа - поэзия А. Горнона, книжка Ю. Кокошко, «Школа для дураков» Саши Соколова: слово спертое, перегретое, тесное, апотичное. Литература как жизнь словесного тела, как его выделение. Полярность этих определяет творчество: склоняет к одному из этих двух полюсов. Промежуточное положение - его занимает «Москва - Петушки» В. Ерофеева - в принципе неустойчиво: у В. Ерофеева внешний мир - условие монолога, или же наоборот, он овнутрен в иронической фантазии «пьяной революции».Продуктивность этих двух крайних стратегий впервые была освоена Пастернаком в «Охранной грамоте»: он склонялся попеременно к полюсу выраженной рефлексии (в форме суждения о… чуда, декларации) и к полюсу горячего, змеящегося и самодостаточные слова. Переходя с полюса на полюс, с Севера на Юг, он совершал меридиональные движения. В этой связи интересно рассмотреть рассказы Вадима Месяца, занимающее эту же зону неустойчивости, располагающие сразу и свершительный объемом, и чертами телесной сплошности – и притом в такой форме, которая исключает всякое чередование и соподчинение. В. Месяц, как мы увидим, совершает скорее экваториальное движение.
Я упомянул выше малоизвестных А. Горнона и Ю. Кокошко. Оба – лауреаты премии им. А. Белого, столь же малоизвестной. Только Саша Соколов (тоже лауреат этой премии) завоевал обширную читательскую округу. Неравноценность рядов не должна смущать: потребительский успех не может излить света на сущность литературы, а ценностный подход отнимает всякую возможность ее понимания.
I
«Один шум смещает другой; дыхание химчистки, металлический глоток троллейбусных дверок, - это зима, старые вещи и девушки с помадой на губах, в пушистых шубках, шарфах; заветная «Саламандра», почти звучащее натяжение капрона – наверное, это есть «мороз по коже».
…Материя мира обладает самоподвижностью: все предметы - носители жизни. Природа, вещи и люди – равновелики. Мир, становясь однородным, может порождать самого себя. Писатель – восприемник этого его рождения. Что может быть, в том, что авторская речь разрушительное воздействие на мир. Этот ее мир утрачивает некоторые свои базовые координаты. Напрасно мы станем искать в прозе В.Месяца пространство: место действия не делится на здесь и там, время не делится на прошлое и настоящее, картина – на зримое, явленное – на субъективное и объективное. Я думаю, что катализатор, разъедающий все эти базовые оппозиции – особого рода речевое согласие, бывалость речи, ее одновременная литературность и скороговоренность.
Здесь речь идет о речах, описывается описанное. Все, что встречается, - это уже некогда было, так что материал всегда в тонком помоле удивительно – бывал. Но такая вторичная (третичная) речь несет свои собственные приключения слуху: как раз в силу своей бывалости она может быть небывалой.
«Многие уже давно привыкли улыбаться судьбе, другие как – то останавливают мгновенья, третьи тратят годы на возвращение любимейшего дня своей жизни: заменяют былых действующих лиц на новых более правдоподобных; ход событий, ландшафты, музыкальное сопровождение - все это, в конечном счете дело случая, но один – единственный человек, никогда не размышляющие о счастье, вносит в город первую елку, идет на твердых каблуках и даже если поскользнется - не упадет.
…Он открывает окно на улицу и курит возле открытого ночного окна. Ему удивительно нравиться курить и зябнуть на осеннем холоде, слышать запахи пресной ледяной воды и далекой торфяной гари, оставаться в уюте, но знать, что в любой момент можно уйти отсюда, что тьма всегда под рукой и по соседству. Разумеется, он не пойдет сегодня ни на какую прогулку, не станет возиться с лесками и крюками, об этом не может быть и речи. Не может быть и речи о письме брату. Неужели тот сам не понимает всего, что могло с ним за время разлуки произойти или, наоборот, не произойти… Да и не прошло вроде ничего…
…Девушка оборачивается к нему, она, конечно же, хорошо знает о его присутствии, растерянности, внимательном взгляде; она на секунду напрягает лоб, будто пытается вспомнить или хотя бы выдумать вопросы, которые она смогла бы задать этому человеку в странной, абсолютно ей неведомой юношеской организации; ей понятно, что незнакомцем найдены ответы на какую – то былую, должно быть долго мучившего его проблему… А что, если задача была поставлена ему еще в юношестве, причем в этом самом клубе по воспитанию молодежи?
- Кажется, нет. Наверно, вы ошиблись. – Она говорит это с неподдельным сожалением, всем своим видом давая понять, что готова выслушать его мысли прямо тут же, не сходя с этого места, но мужчина, почувствовав ее трогательную решительность, говорит: - Да нет, что вы, мы обсудили все с той девушкой еще в тот раз, это ведь сущая мелочь, я уже не помню, в чем собственно, было дело, и сам хотел спросить вас об этом».
Это фрагменты из разных рассказов, но общность очевидна. Это общность многократного обращения текста на себя: мы – меж двух зеркал. Направление работы текста, цель его трудов – перетирание собственных предпосылок: действительность утрачивает свою густоту, возможность быть источником угрозы, отчаяния и страха. Здесь в высказываниях типа: «Неужели он сам не понимает, что…» - речь порождает свой источник: этот воображаемый воображаемым героем «брат» - только предлог для его речи. Порой авторская речь тождественно повторяет речь анонимного персонажа (персонажей), отталкиваясь от нее. Отталкивание это может совершатся в отрицании, но в первую очередь - тоном речи. Между двух зеркал, утрачивая владельца, речь приобретает качество сверхпроводимости: по существу – это речевая плазма, волнующаяся в ловушке. И агентом ее волнения становится только тон. Собственно мир становится мнимостью. Пожалуй, ему можно приписать знак «плюс i» - это позитивная мнимость.
Я имею, в виду, что говорливость разделывается с миром без всякого чувства мести. Это хорошо видно в рассказе о двух пенсионерах, один из которых бывший зек, второй - стукач. Их речи лишены яда. Весы этики, суд истории как раз бездействует. Их согласие на разговор, речевая привязанность друг другу - много больше, важнее истины, изначальнее ее. Это согласие и есть жизнь и тем самым своего рода правда.
Речь здесь навсегда оторвана от поступка, решения, суда. Сохраняя остроту выражения, она приобретает опыт смирения: она предстает как речь уже бывалая, отработавшая свой активный ресурс. В этой своей отработке она, что достаточно странно, не утратила своей температуры: она стала нулевой, нейтрально – отчужденной, совершенно использованной. Как это возможно?
Я думаю, дело в том, сто согласие с речью, ее восприятие как бывалой и в принципе знакомой, ее непродуктивность в направлении мыслительности и показа – всегда некатегоричных у В.Месяца – известная радость восприятия речи – которая не носитель суждения, сопричастность ее моторности обеспечена «даром души, которая обстроилась словами» (В. Набоков).
Фигура согласия, без которой этот дар немыслим, согласия автора и читателя, как бы вынуждаемого автором, не новость:
«…встряхнул волосами и повел проворно господина вверх по деревянной галерее показывать ниспосланный ему богом покой. – Покой был известно рода; ибо гостиница тоже была известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за два рубля в сутки проезжающие получают…», - кто знает губернскую гостиницу середины прошлого века? Какой специалист по истории быта располагает таким знанием? Но согласие читателя Гоголь получает без труда. Работает, разделенность речи о зрелище. Разделенность эта питается от общего корня: историей, автором и читателем. Таковость быта – не проблематизируема в принципе: Она всегда уже здесь, всегда такова.
У В. Месяца согласие теряет свой предметный характер, всякая чтойность отступает вспять. Но согласие здесь определенным образом объемно: есть согласие на простое внимание, не непрерывность речи, на ее извивы, ее расщепления у персонажей, иллюзорные в силу их иллюзорности, петли собственности речи персон, возвраты авторской речи (автор – один из персонажей), - все эти перепасовки и перемены - ожидаемы и знакомы, приняты наперед как объем.
Авторская речь обгоняет речь персонажей, как полутень обгоняет тень, скользит поверх ее, более эфемерная - упреждает себя: она мостит себе путь, заимствуя: она держится предоплатой нашего сознания.
Виртуальность речи уравнивает возможность и действительное, прошлое и настоящее, свое слово и чужое слово. Такая виртуальность - всегда искушение, всегда - риск, всегда возможность падения и само падение. И тем менее она же и капитал. В речевом движении есть своего рода дароносность: превосходство не знания и опыта (автора), но подвижности, теплоты и густоты тона. Речевое движение у Вадима Месяца всегда вокально.
***
Именно вокальность в конечном счете обеспечивает связность и самоотверженность его рассказов каждого порознь и совокупности. Только в тембре изменчивости его нерастратный капитал, его ядерный очаг. Речевые координаты: долгое или короткое дыхание отдельных периодов, смены порывистости и напора на занудливость и банальность, путаности и самовозврата речи на ее простую линейность - создают объем второго рода – объемность эха. Этот объем уже не делится на здесь и там, внутри души и снаружи ее, сердечное и мыслительное, субъективное и объективное. Все здесь внутриположно всему: речевое тело. Такой объем, объем голоса, вокальный объем, сохраняя продуктивность своей звучности, движется вдоль линии повествования. Таков здесь компромисс свершительности и линейности, тела и события.
Сколь бы ни были сочными и вкусными приметы жизни и памяти, вокальность, покрывая и перекрывая их, обращает их «поток причмокиваний». Но насыщенность и густота их создает «переизбыток текста», позволяющий «лечь в дрейф» (Р.Барт).
Читатель, утрачивая место для самоопределения в мире, удерживается в этом дрейфе только как слушающий, как желающий и томящийся, как домогающийся неведомо чего. Банальность порождает томление: невозможность умереть, удручающую и отрадную сразу. Голос – атопичен: недосягаем, никому не подвластен. В нем утрата и саморастрата, густая меланхолия, демонизм и покорность. Удивительно, что неизбежным агентом является скука. Иногда скука («Вок - вок») – фон отсчета: это отвергаемое основание, отталкиваясь от которого, слово получает свое напряжение, упругость своего хода, яркость свечения. Скука в таком случае, как своеобразие алиби, стоит на границе поля слышимости, сжимая все видимое и произносимое в телесный ком. Но чаще скука, банальное и пошлое - узнаны, и названы, и приняты. Скука инкорпорирована вокальностью, как слова Кукольника инкорпорированы музыкой Глинки. Рассказы В.Месяца - мещанский романс прошлого века в другом материале.
II.
Возьмем идеологию текста у В. Месяца: авторское предощущение ритма, его устойчивости и смены, диапазона лексической игры, ее стилистики, дыхания и темпа речи. Поскольку речь тут третична - это авторская речь о бывалой (то есть уже вторичной) речи других, включая в них и речь самого автора как персонажа, идеология текста все время, так или иначе, высказывается. Она обнаруживает себя в обмолвках, в оговорках, в том, иначе говоря, что собственно речевое и рефлексия обмениваются местами: телесность совокупного говорения, сменяясь высказываниями о чужой речи с той или иной отчетливостью, нарушает авторское алиби. Таков сам вокал: «Я не знаю, с кем я говорю, но я знаю, куда». Эти знания и незнания - отметы самого голоса, его звучания уже не персонального. Но как только к ним добавлено это «Я» - голос получает центр силы и ответственности вполне определенной. И тогда наш автор проговаривает не только свою эстетику, но и идеологию в обычном смысле слова – как миропонимание. Идеология первого рода – как норма для стратегии текста, его надсознание, переходит не только в идеологию второго рода: эстетика становится этикой («нравственности учит вкус» - Пастернак).
«…Любая моя мысль - из мира животных, а самодержавия мужского ни грош - ну что это значит:
теперь она от меня никуда не денется, когда и она денется, и минута денется, и море – денется. Все, что может деться, - денется. Не знаю, почему так кто–то считает, - мол, ничто не кончается, даже случайно начавшись (надо же, какое высокое доверие к жизни), но как случайно начнется, так и случайно кончится, и я очень сомневаюсь, что эти милые реминисценции, которые вы назовете нестирающимися следами, вообще таковыми являются…
…хоть бы произошло что – нибудь, шарахнуло: дождь, суховей, бронепоезд бы влетел под флагами, но нет ничего, а длится этот «фырх» незаметный, не поймешь, кто за кем наблюдает, кто кого догоняет, драматургия неосмысленная, осторожная – не поймешь, и не надо…
…когда понятия не имеешь, о чем речь, - говоришь обо всем сразу…
…все, что люблю, вспоминаю без предупреждения…
…безропотное принятие этого бесшумного, идущего своим чередом круговорота праздников, стирок, музыкальных интерпретаций… Иногда мне кажется, что я тоже могу остановиться, отпустить все дороги течь своим обязательным ходом… ведь и так все есть, сразу, априори, независимо от желаний, стремлений, другой суеты, потому что и любовь, и труд, и помощь ближнему должны существовать как само собой разумеющееся».
***
Выговаривание и проговаривание слова о словах непрерывно и в принципе - безбрежно. Что может пресечь его? «Цепь высказываний типа «я сознаю потому что, сознает другой, сознает третий, сознает четвертый» может быть продолжена до бесконечности, не внося в ставший гиперреальным мир фундирующего основания. Самопознанием при такой процедуре обладает только само бесконечно расширяющееся тело общения» (М. Рыхлин, «Познание в речевой культуре»). В повести В. Месяца «Ветер с конфетной фабрики» такое пресечение есть: это взятое на себя обязательство иронической внутриположности мифу (на манер Пригова). Такое пресечение - концепт: добровольно выбранная, но обязательная для собственного слова модель. Но рассказы В.Месяца неконцептуальны, не модальны, непоследовательны. И это – хорошо. Ведь когда мы читаем концептуальный текст, мы улавливаем концепт как таковой. Да нас и принуждают к этому, нам продают модель. Но продать с успехом можно только одно из двух: или собственно концепт: («очереди», иронического мифа, как бы тождественно авторскому «я», любого иного вторичного речевого жанра), либо стихию самопроизводства текста, его открытость. Чтение концептуального текста лишено заманчивости. Здесь работает иное: удивление концепту. И удивление это по своему существу - однократно. Оно вовсе не нуждается в воспроизводстве чтением и тем самым в дочитывании до конца. Концептуальный текст предполагает ознакомление и последующую спекулятивную переработку: здесь его производительность. Читатель оказывается младшим научным сотрудником автора концепта, ему оказано высокое доверие как младшему брату.
Речевой поток в рассказах - В.Месяца – явление более сложное, чем приведенная выше бесконечная рефлексивная модель, фактически, то есть исходя из литературного осуществления, мы не можем здесь, у Вадима Месяца заприходовать грани между персональной рефлексией с ее чувством ответственности, и тем самым нравственного суда, и самопотерей в чужих речах. Отсутствие такой грани - другая сторона вокальности. Вокальность делает возможным такое смещение. Может быть даже, что она же и провоцирует его.
Интересно проследить, как завершаются рассказы В.Месяца. Саму по себе речь третьего порядка прекратить невозможно. Ее пресечение - это только отказ в регистрации, отключение магнитофона. Ее опережающий характер относительно всякой темы и всякого слова и помысла любого персонажа – делает ее неистребимой… В конце разных рассказов происходит следующее событие: сужается объемность речи. Она расслаивается на авторское высказывание, речь одного персонажа, авторское описание самооценки персонажи своих слов («Ну что вы, что вы»). При этом распадении остается объективная картина: зрение перестает быть речевым: вот эти люди, вот их слова, вот пошлость этих слов. Таков возврат из межзеркалья к привычной литературности. Голос автора в финале становится тверже, он утрачивает свою вокальность, становится корректным. Область этого звучания теперь не размыта: он говорит. Сейчас ясно, с кого спросить, куда обернуться, что подумать – отрезвление. И теперь речь, которая была вращением речевого тела, сносит наконец свое яйцо: в финале «Вок - вок» - «наиболее продвинутого» рассказа - сама его междометийность приносит определение души - в его собственной речевой типике – безупречно вещное.
***
Я не утверждаю, что вещи Вадима Месяца эпохальны и абсолютно небывалы. Меня как раз занимает бывалое. Отсутствие декоративной грани с прочим. Отсутствие декларативной грани с прочим. Отсутствие выраженной программы. Рассказы В.Месяца принадлежат такой литературной стратегии, когда коллективный опыт поиска, в том поиска, в том числе и в виде концепта, переходит в фон, в предпосылку звучания этого голоса. Пастернак в «Охранной грамоте» в качестве базового понятия искусства вводит «силу», но так, чтобы «речь шла не о принципе силы, а о ее голосе, о ее присутствии». Голосовое присутствие силы выдает, конечно, не силу автора. За ним - простота его присутствия, энергия означивания. Эта энергия сама по себе не конкурентна. Она не предполагает соперника или противника или сопротивление. Но она способна накидывать тень на соперничающие стратегии слова, и она неизбежно набрасывает эту тень, претендуя на единственность хотя бы в процессе чтения. Мы не вспоминаем про другое, читая рассказы Вадима Месяца. Это невспоминание – густота вокальности. Это - внешний аспект вокальности: уединение от концептуальной толкучки, реабилитация литературной ортодоксии, консервативная и первородная сразу.
Константин Мамаев
(статья дана в сокращении)