Iv теоретическое наследие н. Д. Кондратьева и современное общество
| Вид материала | Документы |
СодержаниеМетодология исследования социально ориентированного хозяйства в работах Клюкин П.Н. Заключительное слово Куприянов В.А. Кондратьев Н.Д. |
- Круглый стол «Теоретическое наследие И. И. Рубина и судьбы политической экономии», 66.77kb.
- Проблема отчуждения в философии франкфуртской школы неомарксизма и теоретическое наследие, 369.62kb.
- Идейно-теоретическое и художественное наследие Я. В. Абрамова как феномен интеллектуальной, 433.3kb.
- Боевой путь и военно-теоретическое наследие баурджана момыш-улы: исторический анализ, 750.11kb.
- Указатель статей, опубликованных в журнале «вопросы психологии», 130.06kb.
- Дополнительно объявляется Конкурс молодых ученых (возраст до 35 лет) на соискание памятной, 188.87kb.
- Дополнительно объявляется Конкурс молодых ученых (возраст до 35 лет) на соискание памятной, 194.35kb.
- Н. д кондратьева Международный фонд Н. д кондратьева и Российская академия естественных, 13.13kb.
- Кондратьева Ольга Евгеньевна KondratyevaOYe@mpei ru Автор программы и лектор:, 37.91kb.
- На Дискуссию выносятся вопросы: Циклы М. Туган-Барановского, С. Кузнеца и Н. Кондратьева, 32.94kb.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ХОЗЯЙСТВА В РАБОТАХ
Н.Д. КОНДРАТЬЕВА И В. ЛЕОНТЬЕВА1
Недавний перевод и издание на русском языке диссертации В. Леонтьева (1928 г.)2 – знаковое событие в среде отечественных историков экономической науки, позволяющее по-новому осмыслить ранний, так называемый «берлинский» период его творчества – время формирования фундаментальных идей, положенных в основу метода «затраты-выпуск». Представляется, что это философское введение к его более поздним работам, посвященным инструментальным и прикладным вопросам, содержательно и по духу близко к неоконченному труду Н.Д. Кондратьева «Основные проблемы экономической статики и динамики: Предварительный эскиз», созданному приблизительно в тоже время, но в иных условиях – в Бутырской тюрьме с августа 1930 г. по февраль 1932 г.
В рукописи Кондратьева, которая задумывалась как «вводная общеметодологическая часть»3 к циклу работ по конъюнктуре и теории тренда, нашли отражение основные взгляды ученого на основы «социальной экономии», изучающей хозяйство и общество как статистическую «совокупность» людей, на категории и познавательные задачи социально-экономических наук, соотношение статического и динамического подходов. Равным образом и в первой части работы Леонтьева («Общая схема хозяйственного кругооборота») обсуждаются вопросы, связанные с критикой и прояснением научной терминологии, установлением объекта познания. Несмотря на то, что общая схема введения в проблематику хозяйства у обоих ученых соответствует скорее традиционному пониманию, Леонтьев и Кондратьев трактуют его в духе философии неокантианцев, прежде всего, Э. Кассирера и Г. Риккерта.
Риккерт в «Границах естественнонаучного образования понятий» отмечал, что самое большое место общие понятия занимают в тех науках о культуре, которые изучают экономическую жизнь; то, что для экономической науки является существенным, в большинстве случаев совпадает с содержанием относительно общего понятия. Кондратьев продолжает эту аргументацию, отмечая разногласия ученых относительно самого общего понятия хозяйства. «Именно здесь с полной силой сказываются и субъективные различия общих (философских) воззрений, и недостаточное развитие методологии общественных наук,.. и власть слова»1. Рассматривая экономическую науку как «далекую от совершенства», Кондратьев замечает, что потребность в разработке методологических проблем стоит здесь острее, чем в естественных науках.
С констатации «ужасающего беспорядка основных принципов и воззрений», «терминологии, которая больше походит на кроссворд» начинает свое методологическое введение Леонтьев. «Наш объект познания – это хозяйство в широком смысле, т.е. во всем возможном разнообразии значения этого слова». Вслед за Э. Кассирером ученый рассматривает сущность познания в установлении связей между явлениями. В случае хозяйства это «вещи, услуги, ощущения», которые «находятся в определенных связях друг с другом и чередуются в беспрестанном потоке». Далее Леонтьев критикует методологический принцип отграничения науки о хозяйстве от «соседних областей, чтобы разрабатывать свою собственную область». Здесь он прямо ссылается на Риккерта: «при объективном разделении "хозяйство" должно было бы сжаться до чистой идеи (в соответствии с видом объекта познания у Риккерта), т.е. лишиться всякой объективности, и это было бы неприемлемо для объективного способа разграничения». Этот же принцип Леонтьев распространяет и на центральный маржиналистский инструмент анализа – модель экономического человека (или, по его словам, «чистую культуру homo oeconomicus»), признавая ее несостоятельной для своего исследования, как слишком узкую в контексте объективной возможности понимания целей хозяйства. Аналогичное несоответствие индивидуалистического подхода к хозяйству и природы науки о нем отмечает Кондратьев. Социальная экономия, изучающая хозяйство и хозяйственные явления, исследует определенный «круг социальных явлений». Однако если для Леонтьева хозяйство – это кругооборот, то для Кондратьева – своего рода «срез» общества, социальная совокупность в контексте хозяйственной деятельности.
В области изучения хозяйства возможны два основных подхода. Первый из них отличается ориентацией на теоретический анализ возможных форм хозяйственного процесса, второй направлен на их изучение эмпирическим путем. Леонтьев и Кондратьев обозначают первый тип исследования как «номологический» (или «номографический» по Кондратьеву), второй – как «идиографический». Данное разделение имеет истоки в неокантианской традиции. В частности, Г. Зиммель провел различие между наукой повествовательной и наукой, формулирующей законы. Но точнее всех о противоположности между отраслями научного знания сказал В. Виндельбанд. Он отказался от обычного разделения наук на естественные науки и науки о духе и заменил это различием между «науками, занимающимися событиями» и «науками, формулирующими законы», причем метод первых «идиографический», а метод вторых – «номотетический». Виндельбанд также подчеркнул, что, противополагая номотетические науки идиографическим, он хотел обозначить полярные точки, между которыми имеет место методическая работа многочисленных наук.
Нужно отметить, что влияние неокантианской традиции было характерным для мировоззрения многих выдающихся экономистов российской школы – М.И. Туган-Барановского, А.А. Чупрова, Н.Д. Кондратьева, В. Леонтьева. Наиболее оригинальный последователь этой традиции А.А. Чупров, критикуя односторонность «номографизма», относил статистику к идиографическим наукам, выступая в «Очерках по теории статистики» против пренебрежительного отношения к знанию, не укладывающемуся в рамки естественнонаучного образования понятий. Определенное преодоление неокантианской дилеммы содержится и в рукописи Н.Д. Кондратьева, где он рассматривает «социальную экономию» как общее поле применения методов идиографических и номографических наук на основе того, что регулярности поведения больших групп людей по своей устойчивости сходны с регулярностями физического мира. Это положение является основанием для утверждения, что природа закономерности социально-экономических явлений в основном является той же, что и природа закономерности явлений других областей действительности. Кондратьев рассматривает социально-экономические закономерности как результат действия закона больших чисел: случайные причины компенсируют друг друга и выявляется действие общих причин. На этом основывается т.н. «статистико-вероятностный» подход ученого.
В теории Леонтьева в область «идиографии» попадает исследование структуры воспроизводственных связей, «элементарных групп» системы кругооборота. Однако потребность в исследовании индивидуальных особенностей воспроизводства, взятых в их неповторимом своеобразии, в однократности сочетания причин, ставит исследователя кругооборота перед проблемой «бесконечного разнообразия, которое к тому же находится еще в постоянном изменении». В этой связи «отношение "теории кругооборота" к "исследованию структуры" было бы типичным случаем сотрудничества чисто "номологического" направления познания с настолько же ярко выраженным "идиографическим" типом исследования». Леонтьев признает такое сотрудничество методов «опорными точками» исследования кругооборота.
Исследования, предпринятые В. Леонтьевым и Н.Д. Кондратьевым на рубеже 1920-30-х годов, во многом проясняют творческую эволюцию ученых, формирование их философских взглядов, связь фундаментальных исследований с традицией российской экономико-математической школы.
Клюкин П.Н.,
к.э.н., доцент, Государственный Университет
Высшая школа экономики
Н.Д. КОНДРАТЬЕВ И В. ЛЕОНТЬЕВ В 1920-30-е годы: СХОДСТВО ИЛИ ТРАДИЦИЯ В ИЗУЧЕНИИ ПРОБЛЕМ ХОЗЯЙСТВА КАК ЕДИНОГО ЦЕЛОГО?*
В свете последних исследований наследия В.В. Леонтьева1 представляется важным вопрос о прояснении связи его идей раннего периода с творческими идеями и замыслами Н.Д. Кондратьева. Волею судьбы первый рано выехал из России, сначала для продолжения обучения, а затем, после переезда в США, – остался там на неопределенно длительный срок; второму помешала реализовать намеченные планы сначала изоляция, а затем и физическая ликвидация внутри собственной страны. И тот, и другой оказались во многом потерянными для отечественной традиции: в отношении Леонтьева это касается времени формирования метода «затраты-выпуск»2; в отношении Кондратьева – зрелой стадии воплощения идеи больших циклов конъюнктуры в экономическую теорию динамики (Бутырский и Суздальский периоды).
Представленные ниже аргументы дают основание склоняться в пользу той точки зрения, что перед нами еще одна мыслительная традиция, раскрывающаяся при проникновении в богатство российской экономической мысли.
1. Исходным моментом служат слова Леонтьева (1960): «В те годы (1920-е) коммунист Базаров изложил свою математическую теорию экономического роста, а профессор Кондратьев, директор Конъюнктурного института, разработал метод статистического анализа длинных и коротких волн экономического роста, который оказал значительное влияние на западную теорию экономических циклов. (Несколько лет спустя оба они бесследно исчезли.)»1. Это были единственные экономисты, о которых упомянул Леонтьев применительно ко второй половине 1920-х годов; имя А.А. Конюса – кстати, сотрудника Конъюнктурного института – в этой работе было навеяно его редакцией перевода «Структуры американской экономики» (1958), а Л.В. Канторовича (1939) – в связи с аналогичными трудами Купманса и Данцига.
2. Суждение Леонтьева о важности марксовых схем воспроизводства капитала для теории делового цикла2, а также о том, что «… всестороннее обсуждение, не говоря об объяснении, экономических циклов должно быть основано на некоторой теоретической модели, выявляющей основные структурные характеристики существующей экономической системы» (с. 104), причем «в этой области реальный вклад экономистов после Маркса (на момент 1938 г.) является весьма неопределенным», есть мало удовлетворительная теория Бем-Баверка, а также система Вальраса (с. 104).
3. Публикация кондратьевских документов Суздальского периода в полном объеме3 позволяет связать пп. 1-2 воедино. Путь Кондратьева в 1928-1934 гг. показывает, что он двигался в направлении, обозначенном Леонтьевым. В эти годы он осознает значение пионерной статьи Е.Е. Слуцкого (1927) для своих собственных построений, т.е. идеи больших циклов, и понимает, что т.н. «ложные циклы» Слуцкого не позволяют его «объясняющей гипотезе» (Й. Шумпетер) претендовать на статус теории. Тогда он переходит к теоретической статистике и изучению фундаментальных работ по экономической теории, результатом чего стал главный дошедший до нас результат: динамическая модель расширенного воспроизводства (письмо от 5 сентября 1934), вводящая «совершенно новый раздел в систему теоретической социальной экономии, т.к. она интересовалась до сих пор лишь такими динамическими проблемами, как проблема циклических колебаний и кризисов»1.
4. Структура кондратьевской модели 1934 г. корреспондирует с леонтьевским методом исследования хозяйства как кругооборота (1928), который переступает границы собственно теории цен (s. 578 немецкого издания), – в модели Кондратьева цены также отсутствуют.
В обоих моделях исследуется динамика хозяйственной системы; соответствующее кондратьевскому состояние системы у Леонтьева – переменный кругооборот. Область расширенного воспроизводства (по терминологии Маркса), которую Кондратьев моделирует с помощью дифференциальных уравнений по труду и капиталу, а Леонтьев – с помощью концептуальной схемы накопления капитала, резервных запасов и капитализации, также мыслится схожим образом2.
Дополнительной смычкой здесь являются построения В.А. Базарова3.
5. Истоки подобного сходства находятся в кондратьевской статье о понятиях статики, динамики и конъюнктуры (1924)1; мировоззрение Кондратьева раскрывается через тезис, что «социально-экономическая действительность, как она дана нам в опыте, изменчива, многообразна и сложна» (с. 48), что она «динамична по самому своему существу» (с. 53). Это прямо соотносится с леонтьевским пониманием системы как беспрестанного чередования элементов (s. 580 немецкого издания). И тот, и другой стараются найти закон, который был упорядочил этот хаос и превратил его в единообразную структуру.
6. В этой связи проявляется соотнесение похожих пар понятий, характеризующих течение непрерывных хозяйственных процессов: у Кондратьева «обратимость-необратимость»; у Леонтьева – разделение кругооборота на «равномерный» и «переменный», а также введение им типично кондратьевских понятий «равномерного» (gleichmäßige) и «иррегулярного» изменения (unregelmäßige Veränderung)2.
7. Общее понимание хозяйства как системы событий, подчиненных всеобщей каузальной связи (у Леонтьева в 1928 г. – в параграфах «Затраты и выпуск» и «Хозяйство как кругооборот»; у Кондратьева в 1926 г. в статье по проблеме предвидения3 и далее в Бутырской рукописи «Основные проблемы экономической статики и динамики» [1991]).
8. Похожее влияние немецкой исторической школы и представителей, с ней связанных (Готтль-Оттлилиенфельд, Лифман, Штольцман, Дж.М. Кларк и др.); похожий круг общения в 1930-х гг. – У. Митчелл, С. Кузнец, Национальное бюро экономических исследований (NBER); использование эмпирических данных о национальном доходе и пр. из одних и тех же книг Торпа (1926), Кинга (1934), Миллса и др.1 Также: действительное членство в «Эконометрическом обществе» в приоритетном ряду «Fellows»2.
9. То обстоятельство, что Кондратьев являл собой продолжение традиции «Маркс – Туган-Барановский», которая среди отечественных направлений была, видимо, ближе всех в теории к физиократическим идеям и методу «Tableau èconomique» Ф. Кенэ (схемы воспроизводства Туган-Барановского). Ср. с ключевыми фразами Леонтьева [1925]3: «…наиболее интересной, но и наиболее сложной является задача представить в цифрах общий кругооборот хозяйственной жизни» (с. 242); «принципиально новым в этом балансе (1923/24 гг.) при сравнении его с обычными хозяйственно-статистическими обследованиями, как, например, с американским и английским цензом, является попытка охватить цифрами не только производство, но и распределение общественного продукта, чтобы таким путем получить общую картину всего процесса воспроизводства в форме некоторого «Tableau èconomique» (с. 242).
10. Стоит учесть и тот факт, что учились Кондратьев и Леонтьев так же в одном университете в городе на Неве; там же в течение ряда лет преподавал и Туган-Барановский. В связи с этим важна следующая характеристика, данная Н.Д. Кондратьевым в письме А.С. Лаппо-Данилевскому от 19 ноября 1918 г. (из Москвы) и проливающая свет на уровень и направленность методологической подготовки Леонтьева: «Академическую среду близко не узнал. Да как-то и не видно ее. А.А. Мануйлова здесь нет… С Каблуковым – я не знаком. С Железновым – тоже. Прочие же представители экономич[еской] науки – какие-то все "кустарные». Не чувствуется веяния научного поиска, ориентировки в последних данных науки. Особенно мало образованности в области философии и методологии… И это тяжело чувствовать. Тип московского ученого иной, чем петроградского. Я ближе понимаю последний. Московский ученый слишком близко стоит к практике и слишком практически мыслит. Но он, несомненно, самобытнее и лучше отражает русскую науку. В Петрограде сильно влияние не только Европы, но и немцев»1.
Л.И. Абалкин
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
До подведения итогов, хочу сделать две ремарки. Они касаются вопросов, которые обсуждались здесь и на том заседании, на котором присутствовал днем. Они очень часто повторяются.
Когда мы говорим о децильном коэффициенте, то речь не идет об Абрамовиче. Речь не идет даже о тысяче самых богатых людей, поскольку их 14,5 млн человек. Вот они имеют доходы в среднем в 15 раз выше, чем у самых бедных, которых тоже 14, 5 млн человек. Поэтому не надо показывать пальцем на Абрамовича. Не они характеризуют децильный коэффициент.
На секции по экономике много обсуждался вопрос о численности населения страны. Надо иметь в виду, что есть расчет Госкомстата о численности населения России в 2020 г. и 2050 г., есть данные Института народнохозяйственного прогнозирования на 2020 и 2050 гг. и данные Организации Объединенных Наций на эти же годы – 2020 и 2050. Во всех прогнозах берется нижний, средний и верхний показатель с учетом возможности миграции. Перепад большой. Численность населения России будет сокращаться до 2050 г. либо на двадцать миллионов человек, либо на сорок миллионов человек. Весь вопрос в том, как мы проводим демографическую политику, поддерживаем рождаемость, платим пособия и т. д. Надо исходить из реальности, а не сочинять фантазии. Там кто-то задавал вопрос, что России хорошо бы иметь по нашей территории численность 500 млн человек. Это не серьезно. Надо исходить из реальности.
Что касается проекта наших рекомендаций, то уже до перерыва были замечания Глазьева, рекомендации Юрия Владимировича были высказаны. Сейчас поступил ряд письменных замечаний. Вопрос этот очень деликатный. Материал подготовлен. Над ним работали, еще не слыша докладов самих. Поэтому он имеет, естественно, издержки. Предлагаю первым пунктом принять их за основу. Нет возражений? Нет.
Второе. Я думаю, нужно поручить вице-президенту Фонда Юрию Владимировичу Яковцу с учетом высказанных замечаний и с привлечением других участников доработать документ.
Теперь, что касается адреса. Мы сейчас имеем достаточно мощную информационную сеть в Международном фонде Кондратьева. Все приглашения, все тезисы уже заложили в компьютер, сайт этого Международного фонда. Они разошлись по всей стране. Мы выставляем туда наши рекомендации и вы тоже их получите через Интернет. Этот материал доступен. Сейчас другая эпоха, в которой мы живем. Ведь все, что выставлено в интернет-сайте любой, начиная с премьер-министра, заместителя, начальника департамента, губернатора может прочитать, если это их волнует. А если это их не волнует, то пошлите им бумажный текст, они выбросят его в корзину. Мы потратим только лишнюю бумагу на это.
Мы будем готовиться к следующей встрече. Мы ежегодно проводим Кондратьевские чтения. Вот мы 14 лет существуем, проводим XIV Кондратьевские чтения. А в следующем году у нас будет Международная Кондратьевская конференция. Два дня работы, международные участники, выход на какие-то новые проблемы. У нас есть стратегический расчет. Это все-таки конец 2007 г., приближение всяких выборов и перевыборов. Мы хотели поставить очень трудную задачу: «Есть ли у России не сырьевое будущее». Есть или нет? А если есть, то что для этого надо делать. Или мы должны еще 20-25 лет сидеть на нефтяной игле и не заниматься никакой наукоемкой технологией и инновациями. Это сложно. Пока не ясны контуры. Мы сформировали Оргкомитет. Он начинает подготовку. И соответственно, мы будем рассылать материалы через Интернет-сайт, приглашать участников. Тогда у нас будут очередные преобразования в структуре Фонда. Мы отметим 15 лет со дня образования Фонда и 115 лет со дня рождения Кондратьева. Мы должны отчитаться перед обществом за проделанную работу, подготовим большую культурную программу, издадим сборник материалов по истории Фонда, по его лауреатам. Проведем конкурсы, отберем проекты. Кто хочет, пусть участвует в соискании наград Фонда.
Спасибо всем за участие. Желаю здоровья и успехов.
1 За точку отсчета в эмпирическом определении границ принято принимать крупное историческое событие (процесс), оставшееся в памяти поколения как центральное. [8]
2 Код доминирующего социокультурного типа личности. Определяет когнитивную карту личности.
1 Куприянов В.А. (ЦКСИ, 1998) выделил 18 социокультурных детерминант, образующих функционально полное множество [1].
2 Периодичность смены стиля коллективного поведения и взаимодействия составляет 4, 375 года.
1 Константа определена Куприяновым В.А. [1]
2 Периодичность смены ожиданий составляет 3,75 года.
1 Домашние хозяйства, предприятия, банки, государство.
2 Сырьевой, финансовый, производственный и торговый.
3 Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. – М., 1989, с. 48.
4 Там же.
1 Тнауки и культуры : Ткапитала =
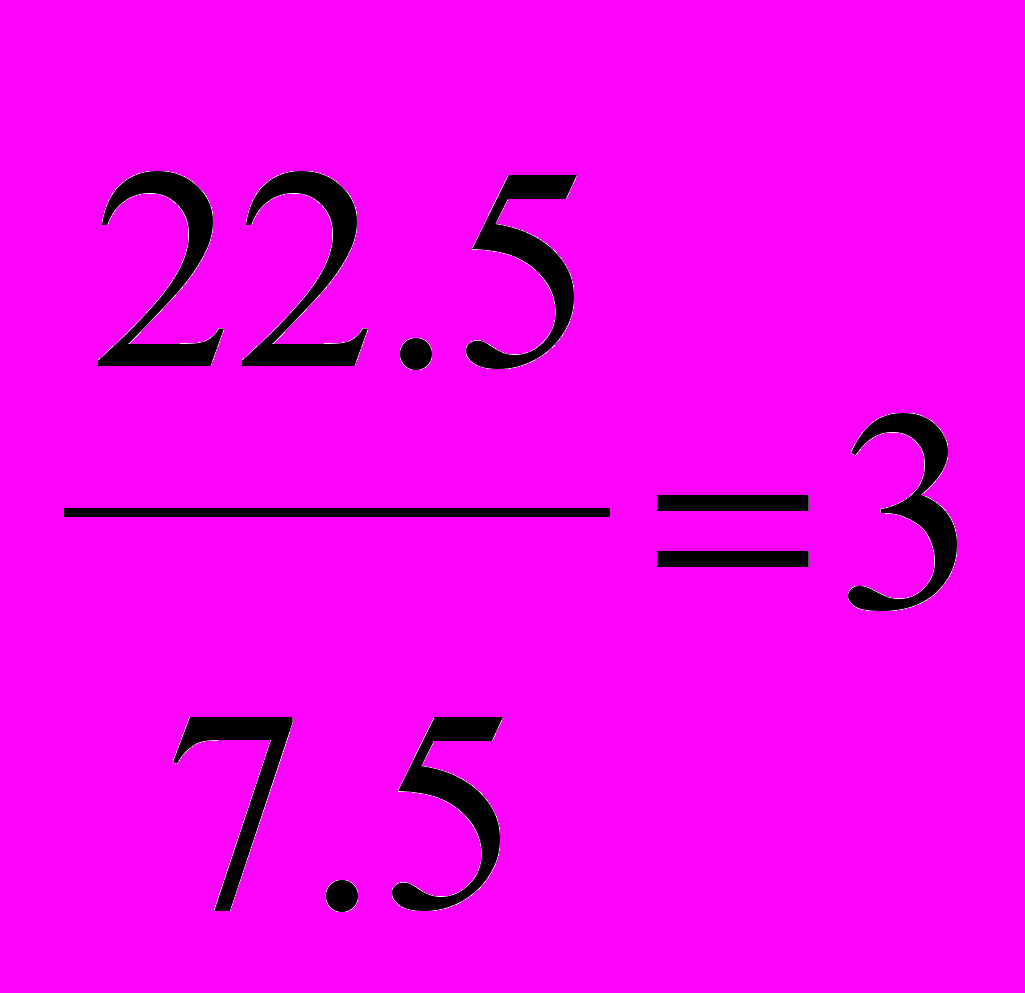 .
.1 Кооперация, конкуренция, содеятельность, псевдодеятельность [3, 4]. Содеятельность – форма кооперации, при которой субъекты пользуются общими для всех благами для решения своих собственных задач, при этом они соперничают (конкурируют) друг с другом, определяя очередность, время и условия пользования общими благами, условия подержания порядка. Псевдодеятельность – скрытая конкуренция, когда взаимодействующие субъекты, заявляя о готовности к совместной деятельности (кооперации), стремятся использовать ресурсы другой стороны исключительно в личных интересах.
2 Организация, история, индивидуальность, власть, наука, семья [1].
1 Boccara P. Originalité de la longue phase en cours dans une analyse systematique et historique des cycles iongues. – Montpelier. – 1987.
1 Земля, труд, капитал, технологии.
1 Согласно приводимым Лениным в «империализме» данным, сумма заграничных капиталовложений Англии, Франции и Германии увеличилась с 102-112 млрд. франков в 1902 г. до 179-204 млрд. франков в 1914 г.
1
