Этика органичное срединное звено между наукой и религией тогда, когда речь заходит об ответственности человечества перед лицом все более и более ощутимых рисков и вызовов цивилизации
| Вид материала | Документы |
- Методические рекомендации по актуцальным вопросам малого бизнеса в сфере торговли,, 174.86kb.
- Концепция анализа кризисных явлений 8 Стратегические риски, 384.91kb.
- Книга Льюиса Спенса это исследование тайн цивилизации, которая, как полагают, погрузилась, 2459.13kb.
- История России, 409.95kb.
- Реферат ммх анатомия, 68.06kb.
- Т ойота центр, 26.77kb.
- Формирование сенсорной культуры у детей младшего возраста посредством дидактических, 489.07kb.
- Впослании Президента РФ д. А. Медведева Федеральному собранию в ноябре 2009, 68.51kb.
- Конкуренции в сфере образовательных услуг становится все более знаковой и актуальной., 114.28kb.
- Моу "дсош №1". Совершенствование межпредметных связей в учебном процессе, 118.06kb.

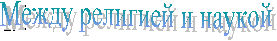

Этика – органичное срединное звено между наукой и религией тогда, когда речь заходит об ответственности человечества перед лицом все более и более ощутимых рисков и вызовов цивилизации. Строго говоря, ни для науки, ни для религии категория «ответственность» не является собственной. Наука практически не допускает этического аргумента, хотя разговоры об «этике науки» энергично ведутся несколько последних десятилетий. Тщетно выяснять, как влияют эти разговоры на цеховые будни науки, где в целом «воля к истине» преобладает над этическими императивами. Наука считает, что все, что может быть сделано, должно быть сделано. Эмблематичны в этом отношении слова, которые немецкий математик Давид Гильберт, умерший в 1943 г., распорядился начертать на своем надгробном камне: "Мы должны знать - мы будем знать». Сама возможность сделать что-либо является для науки, и технологии как исполнителя ее воли, необходимым и достаточным обоснованием действия.
Этическая аргументация не допускается в ход развития науки не по злому умыслу или нравственной ущербности тех, кто эту науку делает, а по семиотической логике дифференциации наук, когда синтаксический, семантический и прагматический (а этика – это прагматика в чистом виде) аспекты не могут и не должны накладываться друг на друга. Науке сегодня нечего сказать о «ценностях», а «ценностям» не хватает силы повлиять на науку. С тех пор, как знание сначала стало силой, а затем – властью, этические аргументы звучат все глуше.
Категорический императив №2 Ганса Йонаса «действуй так, чтобы последствия твоих действий были совместимы с непрерывным поддержанием подлинно человеческой жизни» при всей его злободневности в целом «парит» над суровой реальностью так же, как и категорический императив №1. Во-первых, социальные и антропологические последствия тех или иных научно-технических достижений не так легко и не так охотно прогнозируются, как правило, они осознаются post factum. Во-вторых, в наше время ценностного хаоса и морального релятивизма, которые все более обостряются вследствие роста колоссального экономического, политического и социального неравенства людей на планете, отнюдь не очевидно, что есть «подлинно человеческая жизнь». Неочевидно как раз для миллионов тех, кто испытывает сегодня не преимущества, а издержки глобализации как нового «мирового беспорядка».
По мысли Йонаса тот самый ход истории, что дал людям новые возможности, инструменты и оружие непредсказуемой силы, использование которых требует четкого нормативного регулирования, «подорвал основы, способные породить эти нормы, уничтожил саму идею нормы как таковой». И тем не менее автор совершенно прав, утверждая, что следует вырабатывать новую этику, соответствующую новым масштабам человеческих возможностей.
Религия, в свою очередь, связанная с душой человека не опосредованно, как наука, а напрямую, забила тревогу и начала говорить об ответственности гораздо раньше, чем это сделало профессиональное философское сообщество. Именно религиозные мыслители являются пионерами и в области «этики науки» (фундаментальные труды Иена Барбура), и в вопросах экуменического диалога (Ганс Кюнг), напрямую связанных с ответственностью за общее будущее, и в разработке основ биоэтики. Однако если смотреть на проблему в целом, то с сожалением приходится констатировать, что в тех сферах общественной жизни, где сегодня существуют наиболее ощутимые риски для человека и человечества, влияние этико-религиозной мысли минимально.
Главный парадокс нашего времени состоит не в дефиците осознания масштабов стоящих перед человечеством проблем, однако растущее осознание будущих опасностей идет рука об руку с растущим бессилием предотвратить их или смягчить тяжесть их последствий. Зигмунт Бауман полагает, что проблема практического применения этики к бедам современного общества состоит прежде всего в отсутствии адекватной властной структуры. (Политические институты локальны, власть капитала экстерриториальна – таков главный лейтмотив работ британского философа). Освобождение от ответственности за последствия – это наиболее желанное и высоко ценимое приобретение современного капитала, капитала «третьей волны», обеспечиваемое новой мобильностью и свободой перемещения. Вместо того чтобы выравнивать и повышать жизненный уровень людей, современное технологическое и политическое уничтожение временных и пространственных различий поляризует человечество [1, с.238]. Самая сложная из политических загадок заключается сегодня не столько в том, «что следует делать», а в том, «кто может сделать это, даже если бы мы и знали что».
Ответственность сегодня (как категория, концепт и ценность) должна быть вписана в новую ценностную иерархию, а это предполагает и рождение новой этики, контуры которой пока только начинают прорисовываться. Дело не том, чтобы добавить в этический дискурс еще одну категорию и обосновать ее актуальность, с этим проблем нет. Этический категориальный ряд открыт, ибо человек не завершен в своем развитии, но, к сожалению, ряд этот, как правило, дополнялся весьма произвольно, особенно в те печальные моменты истории, когда этика выполняла функцию служанки идеологии. Проблема в том, чтобы прояснить и обосновать новую ценность – ответственность – как ценность. А ценность в культуре – это не только то, что в нее неявно встроено (через институты, язык, традицию и прочие «дискурсивные формации») и тем самым обречено на интериоризацию. Ценность – это то, чему носитель культуры хочет подражать. По крайней мере, до тех пор, пока ценность эта является живой, а не мраморно-античной. Классическая этика говорила об ответственности в связи со свободой, а о свободе в связи с необходимостью, экзистенциалисты поменяли акценты и сделали свободу изначальной, сейчас складывается представление об ответственности как условии, делающем свободу возможной, об ответственности как «не-алиби в бытии» (М.М.Бахтин). Звучит хорошо и свежо, но ироническая действительность подбрасывает и подбрасывает примеры, когда ответственности пруд пруди, а свободы как-то не просматривается или когда вина (читай: свобода) принадлежит коллективному субъекту, а ответственность, как всегда, субъекту индивидуальному, то есть стрелочнику. С легкой руки У.Бека это стало называться «биографическим решением системных противоречий», как, например, в случае с безработицей, которая растет и будет расти, и в этом виноват не выброшенный на улицу субъект N, а система, но чувствовать себя «слабым звеном» и нести всю тяжесть последствий будет только субъект N.
Уместно ли сетовать на бессилие этических аргументов в ситуации, когда знак равенства, традиционно ставившийся между знанием, культурой, нравственностью и благосостоянием, решительно стерт? Стоит ли удивляться беспомощности самой этики в ситуации «бегства с агоры», когда «личное» и «общественное» позиционируются в разных мирах и действуют по разной логике? Сказанное не оправдывает дремотное состояние современной этической мысли. Если философия в целом еще выполняет функцию «местоблюстителя и интерпретатора», то этика, похоже, довольствуется одним местоблюстительством. Неспособность этики предложить полноценный интеллектуальный продукт не критицистского, нигилистического либо ностальгического, а проективного свойства обусловлена ее отчаянным и малопродуктивным цеплянием за классику и, как следствие, упорное нежелание видеть, «какое, милые, теперь тысячелетье на дворе».
Этические системы, так или иначе центрированные на ценностях Просвещения, потерпели крах вместе с этими ценностями. Коллапс проекта Просвещения придает современному моральному дискурсу черты глубокой непоследовательности, субъективизма и эклектичности. «Особенность нашего нынешнего состояния…состоит в том, что мы больше не обладаем связным моральным словарем, объяснением человеческого блага или добродетелей, в терминах которых возможно моральное суждение. Скорее мы живем среди обрывком устаревших моральных словарей, чья опора из метафизических и религиозных убеждений давно рухнула» [2, с.286]. Не спасают положение дел и длящиеся со времен Спинозы попытки придать этике формат «строгой» науки для придания этическому дискурсу большей весомости и убедительности [3, с.17-26].
Морализирование философов стало дурным тоном не из-за тотального имморализма, а из понимания релятивистского характера любой светской морали. Эту релятивность под видом «рессентимента» бичевал Ницше, на этой релятивности откровенно спекулировали классики марксизма. Становилось очевидным, что за напористыми моральными проповедями – произвол необоснованных притязаний харизматиков от политики или партийных идеологов. И чем напористее проповедь – тем сомнительнее притязания. В «серьезной» философии ХХ века этика перестает быть «дополнением» к онтологии и гносеологии, а вплетается в саму сердцевину философских систем. В этом смысле позиция Витгенштейна или Хайдеггера ничуть не менее «этична», чем позиция Шелера или Ясперса. В 1969 году на вопрос корреспондента, напишет ли он «этику, доктрину действия», Мартин Хайдеггер ответил вопросом на вопрос: «Этику»? Кто может себе это позволить сегодня и от имени какого авторитета предложить ее миру?» [4, с.152]. Тем самым Хайдеггер выразил мнение, которое разделяют многие. Более того, сегодня появляются работы, посвященные «этике имморализма», где под этикой имморализма понимается теоретическое обоснование практического отказа от традиционной морали, а под традиционной моралью – застывшую «нравственность морализма», парализующую практическую деятельность и сводящую мораль к универсальным законом поведения [5]. Этика не ушла из философии и культуры, но она категорически отказалась от повелительного наклонения, назидательности и универсалистских амбиций.
Кризис традиционной этики очевиден как на вершинах академической науки, так и на уровне ее университетского изложения и преподавания. На вершинах, в своих в башнях из слоновой кости, весьма преклонного возраста маститые мыслители последние лет двадцать выясняют, какая этика лучше – аристолианская или кантовская. Напомним вкратце суть обоих теорий.
| Классическая этика со времен Аристотеля претендовала на решение вопроса о том, что есть для человека благо или, по-другому, какую цель надо преследовать в жизни, чтобы последняя состоялась. Исходя из этого задача этики – дать содержательный ответ на вопрос о смысле жизни человека, установить иерархию возможных благ и определить высшее благо, ориентация на которое позволит человеку самореализоваться, прожить хорошую, правильную жизнь. В соответствии с классической этикой, стремление к высшему благу совместимо как с обязанностями человека, так и с его истинными интересами. Долг и склонность не противопоставляются друг другу, «справедливое» понимается как то, что способствует благу. От аристотелианской этики блага, или телеологического подхода к морали, отличается кантианская мораль справедливости, или деонтологический подход. Кант проводит четкое разграничение между действиями, совершенными по склонности, и действиями, совершенными согласно долгу. Оно основано на различении мотивов действия: в первом случае желании счастья, во втором – уважении к моральному закону, требующему руководствоваться в своем поведении теми правилами, которых все могли бы пожелать. Моральная точка зрения выражается не в поиске ответа на вопрос: что хорошо для меня, а в стремлении к справедливости, к такому беспристрастному решению, которое в равной мере хорошо для всех. Кант не просто проводит различение между правильностью и благом, а настаивает на приоритете правильности. Должное предстает у мыслителя как основной моральный феномен [6]. Если заменить «справедливость» и «правильность» на весьма близкую им «ответственность», то создается впечатление, что и сегодня водораздел в этической мысли проходит между «линией Канта» и «линией Аристотеля». Как если бы двух последних столетий и не было, как если бы этические раздумья Киркегора и Шопенгауэра, Ницше и Хайдеггера, Левинаса и Рикера ничего теоретически ценного и соизмеримого с «телеологическим» и «деонтологическим» подходами не дали. Как если бы не было насквозь этичного русского серебряного века, как если бы не приходил в мир Ф.М.Достоевский… Отмечая эту зацикленность этической мысли на классике и ее упрямое нежелании выглянуть в окно, мы ни в коей мере не хотим поколебать священные авторитеты – стремление к счастью и чувство долга неотделимы от человеческой сущности, потому и Аристотель и Кант остаются на своих почетных местах в истории этики. Более того, гениальность Канта как философа в том, что провозглашая априоризм долга и моральную автономию личности, он увидел, что человек может, а значит должен, преодолевать свою, как бы мы сказали сегодня, локальную социокультурную детерминацию, способен к преодолению своей чувственной природы, способен быть ведомым чем-то, что не сводимо к «человеческому, слишком человеческому», будь то стремление к счастью или узкоэгоистический интерес, не важно, в чем бы это счастье или этот интерес в каждую конкретную эпоху не состояли. Принципиальная способность субъекта подчинять свою волю данными самому себе законами, возвышаться над самим собой и дает основания говорить о свободе личности, о человеке как о духовном существе Важно здесь то, что самый этот долг личности не предпослан, достигшая морального совершеннолетия личность его формулирует самостоятельно. Иначе моральная автономия смысла не имеет. Конечно, не замедлили и возражения. И сегодня социологически настроенные мыслители возражают, что хваленая независимость деонтологического субъекта – это либеральная иллюзия. Она свидетельствует о непонимании фундаментально «социальной» природы человека, того факта, что мы являемся полностью обусловленными существами. Ни один трансцендентальный субъект не может стоять за границами общества или за границами опыта. И в этом есть безусловный резон. Когда Кант проводит разграничение между действиями, совершаемыми по склонности, и действиями, совершаемыми по долгу, он как истинный человек Просвещения находится целиком в культурном русле восемнадцатого века, где тема склонности и долга (или любви и долга) до бесконечности муссировалась драматургами и поэтами. Сама идея приоритета долга упала на него не со звездного неба и не была первичной данностью разума, а разум впитал эту «первичную» данность из вполне конкретной культурной традиции. Полностью изгнав все чуждое автономии (удовольствие, наслаждение, желание, любовь, успех, счастье и прочие «эвдемонистические» и гетерономные мотивы) из этического дискурса, Кант тем самым изгнал этику из жизни, или лучше сказать, жизнь из этики. Поэтому этика Канта никогда не была и не могла быть «этикой на каждый день», а тем более лежать в основе коллективной коммуникативной деятельности. Однако на философском олимпе и сегодня тон задают новые аристотелианцы (А.Макинтайр, М.Сэндел) и новые кантианцы (Дж.Ролз, Ю.Хабермас, Г.Йонас). Макинтайр напоминает нам о неразрывности любой моральной самоидентификации с традицией и историей, о неизбежной исторической ответственности личности как представителя конкретной общности. «Я являюсь чьим-то сыном или дочерью, я чей-то двоюродный брат или дядя; я гражданин того или иного города, племени, нации. Отсюда то, что есть благо для меня, есть благо для того, кто воплощает эти роли. Как таковой, я унаследовал прошлое моей семьи, моего города, моего племени, моей нации и унаследовал различные долги, оправданные ожидания и обязательства. Они составляют данность моей жизни, мою моральную точку зрения. Это именно то, что придает моей жизни свойственную ей мораль» [7, с.325]. С этим вряд ли кто-то станет спорить, но ведь реальная проблема морального субъекта состоит не в узко или широко понимаемой национальной идентичности, а том, что ни этнос, ни нация мою идентичность не исчерпывают и без остатка не определяют. Человек, как и народ, несет в себе не только свое прошлое, но и свое будущее – цель, проект, возможность, порыв. Этико-философская позиция Макинтайра выстраивается на противопоставлении Аристотеля и Ницше. Макинтайр убежден в том, что ницшеанство окончательно доказало несостоятельность альтернативных по отношению к классической традиции направлений этической мысли, порожденных новоевропейским субъективизмом и индивидуализмом. Ницше «проигрывает» Аристотелю, по крайней мере, «не выигрывает» у него [7, с.381]. При этом не принимается в расчет, что вся культурная традиция либерального индивидуализма не одним только Ницше представлена, да и в пестро-полинифоническом этическом наследии Ницше не все сводится к одиозному Сверхчеловеку и танцующему Дионису. Респектабельно-консервативная позиция Макинтайра лишний раз демонстрирует, что серьезная реставрация аристотелизма сегодня невозможна. С равным правом это относится и к универсалистским притязаниям современных деонтологических теорий. К последним можно отнести теорию коммуникативного действия Ю.Хабермаса, получившую большой резонанс в научной литературе и рассматриваемую многими профессионалами как последнее слово этико-философской рефлексии. Вслед за Вебером, который рассматривал рационализацию как процесс экспансии целерационального действия на все сферы общественной жизни, Хабермас выделяет не один, а два процесса рационализации. Он различает труд (как целерациональное инструментальное действие) и коммуникативное действие, основополагающую роль в котором играет нормативность. Будучи неразрывными, труд и коммуникативное действие действуют по разной логике и направляются разными типами знания. Инструментальное действие руководствуется техническими правилами, социальное взаимодействие регулируется нормами (обобщенными поведенческими ожиданиями). При этом важно, что социальное коммуникативное взаимодействие не редуцируется к труду, его сущность состоит не в управлении и не в господстве, а во взаимопонимании. Этически нагруженными являются в теории Хабермаса два понятия – «коммуникативное действие» и «коммуникативная рациональность». Кардинальное различие между целерациональным и коммуникативным действием заключается в том, что первое ориентировано на успех «монологически» действующего субъекта, а второе – на достижение понимания между участниками взаимодействия. Достижение понимания функционирует как механизм координирования планов целенаправленного действия только в том случае, полагает Хабермас, если участники временно воздерживаются (курсив мой. – Т.В.) от непосредственной ориентации на личный успех в пользу установки собеседника, который хочет достигнуть понимания с другим лицом относительно чего-либо в мире [Цит. по: 8, с.72]. Другая черта фундаментального своеобразия коммуникативного действия состоит, по Хабермасу, в том, что когнитивно-нструментальная и коммуникативная рациональность принципиально различаются способом использования знания. В первом случае знание выступает как инструмент господства над окружением, во втором – как средство коммуникативного понимания. При этом рациональность коммуникативного действия проявляется в том, что коммуникативно достигнутое согласие покоится, в конечном счете, на аргументах, способных выдерживать критику [8, с.90]. Когда предметом коммуникации становятся сами эти аргументы, имеет место «неповседневная форма коммуникации», или дискурс. Однако, думается нам, понимание в коммуникативном действии достигается не столько благодаря рефлексии над аргументами, сколько путем прояснения (часто недискурсивного) того, что стоит за аргументами. И второе. Если субъект является носителем инструментального мышления, то как, в силу каких причин и под действием каких обстоятельств он может «временно воздержаться» от него на период, пока будет длиться это самое вожделенное коммуникативное действие? И чем по существу отличается рациональность, реализуемая в целерациональной деятельности, от «коммуникативной рациональности»? Согласно Хабермаса, – моральностью, степенью ответственности и автономии. Приведем характерную цитату из только те личности считаются ответственными, которые, будучи членами коммуникативного сообщества, могут ориентировать свои действия на интерсубъективно признанные притязания на значимость», – пишет Хабермас. Выходит, что «моральность» либо «инструментальность» мы задействуем сообразно ситуации? Дальнейшее изложение еще больше запутывает ситуацию: «Большая степень когнитивно-инструментальной рациональности дает большую независимость от ограничений, навязанных случайным окружением самоутверждению субъектов, действующих целенаправленно. Большая степень коммуникативной рациональности расширяет – в границах коммуникативного сообщества – размах неограниченной координации действий и консенсусного разрешения конфликтов…» [9, с.14-15]. Не означает ли это всего-навсего следующее: там, где я действую самостоятельно, я целерационален и свободен от моральных условностей, там же, где я становлюсь участником коммуникативного действия с его «неограниченной координацией», моральная ответственность мне вменена самим фактом этого участия. Всплывает до боли знакомый и так до сих пор никем не преодоленный аргумент Юма: как из того, что есть, получается то, что должно быть, как из фактуального суждения образуется ценностное? Чем дальше выстраивает Хабермас свою аргументацию, тем больше становится явной умозрительность этого монументального проекта, невозможность привязать его хоть к чему-нибудь в реальном мире, мире, в котором участники коммуникативного действия добиваются успеха не потому, что временно отключают свою левополушарную целерациональную половину головы и включают правополушарную – морально-ответственную. Максимум на что способен человек – идти на компромиссы и договариваться, причем не вопреки целерациональности, а, увы, благодаря ей же. Не потому поступок ответствен, что он рационален, а потому он и рационален, потому, что ответствен. Рациональность – только момент, сторона моральности и ответственности. И для Канта, и для Хабермаса, и для Йонаса судьба этики полностью и по праву находится в руках Разума и выступающих от его имени философов. Однако в предлагаемых ими проектах не заложена возможность того, что разум в любом своем воплощении способен восстать против того, что от его имени проповедуют философы-моралисты, да и против себя самого восстать. Как не вспомнить в этой связи Ф.М.Достоевского, устами «подпольного человека» предупреждавшего, что если уж вычислят законы нашей свободной воли (в случае Хабермаса – нашей коммуникации и понимания), непременно найдется обскурант, который не захочет «хотеть по табличке» и пойдет наперекор и своей выгоде, и законам природы, и рафинированной рациональности коммуникативного действия. И труд Макинтайра, и труд Хабермаса демонстрируют определенную исчерпанность классического наследия, тот порог, за которым возможно только новое, ибо нравственная энергия не может изливаться в мир по старым пересохшим руслам. Это новое, контуры новой этики, то там, то тут вспыхивают в культурном пространстве нашего времени. Новые этические идеи и новые имена (Э.Левинас, З.Бауман, Д.Келлнер, С.Холл, М.Мамардашвили, М.Эпштейн, Г.Тульчинский) еще трудно связать с каким-то направлением или «измом». Существенно лишь то, что философствование совершается сознанием, открытым живому, а не книжному миру, даже если он представляет «территорию, непригодную для жизни». «Новая этика» – собирательное понятие для тех подходов и концепций, которые фокусируются не на всеобщем и универсальном благе, а на осознании подлинности конкретной и конечной личности человека с ее повседневными заботами и неизбывными несовершенствами, на несводимости единичного ко всеобщему. Эта этика исходит из принципиальной разности субъектов, вступающих в нравственные отношения, их уникальности и незаменимости. Она не отменяет старую этику, основанную на «золотом правиле» общности (взаимооборачиваемости и симметричности) нравственных субъектов, а дополняет ее. О несводимости единичного к всеобщему размышляли Бердяев, Шестов, Бахтин, сегодня эту тему не без эффекта разрабатывает М.Эпштейн. В основе золотого правила нравственности – и в его конфуцианской, и в новозаветной, и в кантовской интерпретации – лежит принцип заменяемости нравственного субъекта; ты подлежишь как объект тем же самым действиям, которые производишь как субъект. В «осевую эпоху», когда, согласно Ясперсу, закладывались основы сверхплеменной, общечеловеческой морали, установка на различия могла расшатать и разрушить эти основы. Однако сегодня становится очевидным, что все люди желают разного и способны к разному, а потому полная оборачиваемость субъектов не может составить единственное и незыблемое основание этики. «Разностная» этика не является уступкой индивидуализму с его опорой на самовыражение, как не является она и заигрыванием с постмодернизмом, настаивающем на перманентном выборе, построении и перестраивании, своей идентичности. Уже апостол Павел учил о различии духовных даров: одному дается слова мудрости, другому – слово знания, этому – вера, тому – чудотворение, иному – разные языки…(1 Кор. 12:4 – 11). Именно это различие даров лежит в основании возможностной («разностной») этики, которую можно выразить в следующем принципе: «поступай так, чтобы твои наибольшие способности служили наибольшим потребностям других людей» [10, с.483]. М.Эпштейн пытается очертить контуры этики, где возможность приходит на место долженствования, где мораль – подвижное равновесие нормативного и индивидуального, и именно индивидуальное различие оказывается нормой поведения, а непохожесть людей оказывается основанием их общности. («Лучший поступок тот, в котором наибольшая способность одного отзывается на наибольшую потребность другого»; «Делай то, чего могли бы желать все, включая тебя, и чего не мог бы сделать никто, за исключением тебя») [11, с.254]. В отношениях между людьми этически оправданы не требования друг к другу, а возможности, которые они создают друг для друга. То, что может быть совершено мною, никем и никогда не будет совершено – это положение принципиально важно. Вменяемый и ответственный поступок и есть проявление единственности человеческой жизни со всем, что в ней есть рационального и инорационального. Долженствование человеческого действия не определяется однозначно истинностью имеющегося знания, способом его использования, добротностью аргументации и теоретического рассуждения. Теоретичность и рациональность – только одно из средств обоснования человеческих поступков. «Мир человека – мир личностный, не случайный, весь наполненный ответственным выбором, – пишет Г.Л.Тульчинский. – И центром, «точкой сборки» этой ответственности является личность, занимающая неповторимое, а значит ответственное место в ткани бытия» [12, с.75]. Но может ли найти место «ответственность» как принцип в тех философских направлениях, которые делают акцент не на личности, а на фрагментарном и тотально контролируемом «властью» субъекте? Как могут быть совмещены уникальность и неповторимость с тем, что осталось от субъекта после его громко объявленной смерти – «номадической сингулярности», пучке обстоятельств и дискурсов, страннике виртуальных миров или, на худой конец, скрипторе собственной биографии? Так случилось, что именно автор тезиса о «смерти субъекта» Мишель Фуко за два года до смерти прочитал в Коллеж де Франс восемь лекций, объединенных названием «Герменевтика субъекта». На первый взгляд, этика «заботы о себе», представленная в этих не предназначенных для публикации лекциях, есть не что иное, как мастерская интерпретация комплекса греческих и эллинистически-римских этик (платоники, эпикурейцы, стоики). Но каким-то удивительным образом темы, поднимаемые Фуко в этих лекциях, эмоционально и интеллектуально созвучнее нынешнему моральному самочувствию общества, чем «этика блага и мораль справедливости». Фуко вряд ли стремился в этих лекциях выступать автором «этики», вспомним хотя бы его отношение к проблеме авторства и его отношение к проблеме морали. Поиск таких форм морали, которая была бы приемлема для всех, всегда расценивался им как «что-то катастрофическое». «Новая старая» этика в «Герменевтике субъекта» всплывает как палимпсест; свое, и потому очень современное, сказывается поверх чужого и далекого. В центре внимания «Герменевтики субъекта» находится античный принцип epimeleia/cura sui («забота о самом себе»), который предполагал не только некое отношение к самому себе, самонаблюдение и интроспекцию, но и определенный образ действия, направленный на то, чтобы изменить, преобразовать и преобразить себя. Платон, и особенно философы эллинистической эпохи, выдвигали заботу о себе в качестве основного принципа не только философской, но человеческой жизни вообще, во всякое время и на всех ее этапах. Эта «забота о себе» не самоцельна, она представляет собой духовную работу, необходимую для познания истины. Нельзя постичь истину, ничего не меняя в себе самом. Если видоизменить главный философский вопрос – не что есть истина, а что позволяет мне, субъекту, постигать истину, то духовностью можно назвать тот поиск, ту практическую работу, посредством которых субъект осуществляет в самом себе преобразования, необходимые для постижения истины. Духовность (аскеза, отречение, изменение бытия) – та цена, которую субъект должен уплатить за постижение истины. Истина выступает не наградой за акт познания и не простым завершением этого акта; истина – это то, что «озаряет субъекта», что дает ему душевный покой. В самой истине, в ее познании заключается нечто, что позволяет осуществиться самому субъекту, что реализует его бытие. Акт познания и акт самоизменения, преобразования субъекта неразрывно связаны и взаимообусловлены. За исключением Аристотеля, для которого духовность не играла существенной роли, «основной вопрос философии», понимаемый как вопрос о духовности, заключался в следующем: что представляют собой преобразования, совершаемые в бытии субъекта, которые необходимы для постижения истины. Чем отличается «забота о себе» от традиционных моральных требований? Этическая норма исходит из того, что субъект есть то, что он есть, и регулирует сферу его возможных действий. «Поступай так, чтобы максимы твоего поведения во всякое время могли стать нормой всеобщего законодательства», «Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе», «Не лги», «Не лжесвидетельствуй», «Не кради», «Почитай родителей», «Заботься о детях» и т.д. Этику не волнует, способен ли субъект выполнить эти требования и если не способен, то почему. Здесь этика сродни праву. Субъект как субъект ее не интересует. Этической, как и правовой, регламентации подлежат лишь действия. Все остальное - область совести. В отличие от норм классических этик, которые в идеале безличны и абсолютны, «забота о себе» представляла не установку общего характера, но усилие, работу конкретного и единичного субъекта. 3абота о себе предполагает совокупность практических навыков (техника медитации, определенные формы рефлексии, техника изучения сознания), которые получили в истории западной культуры долгосрочную перспективу. Это не просто действие или отказ от действия, это умение обращаться со своей душой, умение анализировать свои мысли и чувства, и ему можно научиться так же, как и умению обращаться со своим телом. Тому, что греки называли epimeleia, а римляне cura sui, европейская нововременная традиция предпочла самопознание, что не одно и то же, ибо самопознание есть лишь частный случай заботы о себе. «Самопознание представляет собой один аспект, один элемент, основную форму, – пишет Фуко, – фундаментального и всеобщего требования проявлять заботу о себе» [14, с.297]. В измененном виде этот принцип был интегрирован в христианский кодекс морали, но сместились акценты – этика не-эгоизма, обязательства по отношению к другим заслонили долг человека по отношению к самому себе. У Платона субъект выступает в двух значениях: субъект как сущность (chresis) и как душа. Но как только «Я» было определено как душа, вся область применения «заботы о себе» оказалась поглощенной принципом «познай самого себя». Действительно, для того, чтобы проявить заботу о самом себе, нужно сначала себя познать. В платоновской и неоплатонической традиции «забота о себе» имеет суверенную форму и лишь завершается в самопознании. Дальнейший опыт самопознания в европейской мысли и в европейском искусстве привел к поразительным открытиям и откровениям, но он был односторонним. По дороге самопознания шли Августин и Руссо, Паскаль и Кьеркегор, Ницше и Достоевский. В этих опытах самопознания Я предстает как объект, ставший или окаменевший, «другой» для меня самого. В самопознании Я есть то, чем Я был, и это окончательно и непоправимо, ибо в прошлом уже нельзя ничего изменить. Как бы далеко субъект не заходил в своем самопознании, это опыт более аналитический, чем синтетический, более разлагающий, чем создающий. В самопознании два субъекта, два «Я» и диалог между ними редко сопровождается положительными коннотациями (вспомним всю громадную тему двойничества в литературе – от Ф.Вийона до В.Набокова). Самореализация не может быть необходимостью на фоне невежества, вне связи с самопознанием, недаром у Платона проявление заботы о себе является привилегией правителей и нравственной элиты. Но она «становится необходимой на фоне ошибки, на фоне дурных привычек, на фоне всякого рода деформаций и ставших привычными и укоренившихся зависимостей, от которых надо освободиться, отряхнуться» [14, с.293]. Фуко показывает, что главной задачей epimeleia была не только самореализация субъекта, но и врачевание души. Чтобы выйти из состояния невежества, нужно обратиться к «заботе о себе», стать тем, чем ты должен был стать и чем он никогда не был, то есть стать самим собой. Стать вновь тем, чем человек никогда до этого не был, это, по мысли М.Фуко, одна из главных тем самореализации. Статус субъекта индивиду придает полнота его отношений к своему «Я», а самореализация выступает как единственный способ конституирования самого себя в качестве творца своей собственной жизни [13, с.315]. Противоположностью субъекту, способному к самореализации, является в лекциях Фуко stultus (глупый, неразумный), термин, который употребляет Сенека в своих «нравственных письмах». Stultus – это тот, кто разбросан во времени, кто ничем не занимается, кто пускает свою жизнь на самотек и не направляет ее ни к какой цели. Это тот, кто не потрудился стать кем-нибудь, кто без конца меняет свою жизнь. Жизнь его течет беспамятно и безвольно. Но самое ужасное, что воля stultus не свободна и не абсолютна, поэтому он не способен хотеть как следует. Ибо свободно хотеть – значит не зависеть ни от какого представления, события или склонности. Чтобы по настоящему хотеть, надо иметь желание, в котором отсутствует инерция и лень. Stultus не умеет и не может так желать. Stultitia, таким образом, есть не что иное, как ограниченная, относительная, фрагментарная и изменчивая воля. Объектом подлинной воли является собственное «Я». Объектом фрагментарной воли является «размытое», несобранное актом самопознания «Я». Состояние stultitia – характеризуется размыканием, несостыковкой своей воли и своего «Я». Не в этой ли несостыковке и разорванности субъекта кроется истинная причина современного кризиса нравственности и моральной невменяемости ее представителей? Почему эллинистические этики в интерпретации Фуко звучат на редкость злободневно? Во-первых, этика заботы о себе – это не ностальгическая интерпретация эллинистических этик, а система, которая практически предваряет проблематику идентичности и аутентичности, которая выдвинулась в центр моральной рефлексии личности в эпоху модерна и постмодерна. Во-вторых, она лишена «категорических императивов» и потому дает надежду любому, в том числе и «безмолвствующему большинству» (stultus׳ам). В-третьих, она вселяет надежду на соединение распавшейся целостности (истины и самопознания) хотя бы в границах индивидуального опыта. И, наконец, в-четвертых, она исходит из признания определенной дистанции между человеком и социумом, ставшей сегодня фактом, не позволяя субъекту редуцировать собственную моральную несостоятельность к пресловутым обстоятельствам. Могут возразить, что в этой этике не звучит «ответственность»; она звучит – это ответственность перед самим собой, без которой все другие «ответственности» развиться не могут. Чарльз Тейлор, в отличие от Фуко, выступает с этикой вполне самостоятельной и откровенно модерной [15]. Современную культуру он предлагает называть культурой аутентичности. В политическом плане эта культура базируется на идеале либерализма нейтральности, одна из основных доктрин которого состоит в обосновании того, что либеральное общество должно сохранять нейтральность в вопросе о том, в чем состоит хорошая и правильная жизнь. Политические институты должны обеспечить индивиду выбор, но не его содержание. Нравственная (хорошая, правильная) жизнь – это то, к чему каждая личность стремится по-своему и на свой собственный манер. В социокультурном плане одним из главных «завоеваний» современности стал индивидуализм – закономерный итог обретенной свободы, платой за которую стал отказ от старых моральных порядков и выпадение из «великой цепи бытия». Индивидуализм и естественным образом вытекающее из него инструментальное мышление (целерациональность в терминологии Вебера) неизбежно должны были привести к моральному релятивизму, «когда увлечение борьбой за выживание пришло на место увлечению героизмом», когда исчезло « чувство высшей цели, чего-то такого, за что стоит умирать» [15, с.7]. |
| Моральный релятивизм – порождение определенной формы индивидуализма, принципы которого примерно следующие: каждый имеет право развивать свою форму жизни, основываясь на своем собственном понимании того, что является действительно важным и ценным. Человек стремится к самореализации и сам должен решать, в чем она состоит. Никто не может и не должен диктовать содержание этой самореализации1. Релятивизм, считает Тейлор, является глубокой ошибкой, более того – он глубоко деструктивен, ибо люди утрачивают способность воспринимать проблемы, которые выходят за границы их собственных интересов. Вместе с тем, сама культура, которая ставит перед людьми требование самореализации, имеет моральный идеал, который стоит за всякой самореализацией, и одна из черт этого идеала – быть честным перед самим собой. Раньше культура (за редким исключением) таких целей не ставила. Этот моральный идеал дошел до наших дней. То, что у романтиков было только идеей, сейчас воспринимается как сама естественность. Человек должен быть в контакте со своей собственной внутренней природой, которой грозит опасность исчезновения либо под давлением внешних обязательств, либо из-за инструментальной позиции по отношению к самому себе. Поэтому идеал аутентичности приписывает особую важность контакту с самим собой, вводя принцип самобытности и вводя новую для морали тему идентичности. Есть определенный способ человеческого бытия, который является моим. Я призван прожить свою жизнь по-своему, не уподобляясь никому другому, и это придает новое значение понятию честности по отношению к самому себе. Если я нечестен с собой, я теряю смысл своей жизни, ибо не знаю, что значит для меня быть человеком. Быть честным с собой – значит быть честным со своей самобытностью, которую только я могу открыть и артикулировать. Выражая самобытность, я тем самым определяю самого себя, реализую потенциал, который принадлежит исключительно мне и никому другому. Именно эта идея лежит в основании современного идеала аутентичности и сообщает «легитимность» породившей его культуре. Но этот же идеал может принимать деградированные, абсурдные или тривиализованные формы; эти ложные и деструктивные формы надо отделять от самого идеала, как отделяют зерна от плевел. Можно ли достигнуть консенсуса в вопросах морали, если каждый занят собственной самореализацией и самовыражением? Возможна ли в этих условиях общественная мораль? Возможна ли ответственность? На этот вопрос Тейлор отвечает положительно: этика аутентична диалогична на протяжении всей жизни человека и потенциально предполагает Другого. В вопросах самореализации всегда присутствуют «значимые другие» (Дж.Г.Мид), от которых мы никогда не свободны. «Если определенные вещи, которые я ценю превыше всего, доступны мне лишь в отношениях с личностью, которую я люблю, она становится внутренне присущей моей идентичности» [15, с.31]. Внутренне порожденная самобытная модерная идентичность не получает априорного признания. Она вынуждена добиваться его через диалогический обмен. Тем самым она проблематизирует себя, и потребность в идентичности культурой признается как социально значимая. Тейлор стремится показать, что когда мы значимо определяем себя, то в принципе не можем отбросить горизонты, в которых вещи становятся важными для нас. Аутентичность не может защищаться способами, которые разрушают горизонты значимости. До тех пор, пока отдельные варианты выбора не являются более важными, чем другие, сама идея «выбора себя» является тривиальной. Выбор себя как идеал имеет смысл лишь потому, что отдельные проблемы являются более важными, чем другие. И то, какие проблемы являются важными, решаю не я. Если бы это решал я сам, ни один вопрос не был бы по-настоящему важен. И тогда сам идеал «выбора себя» был бы невозможен как моральный идеал. Иначе говоря, я могу определять личностную идентичность только в горизонте ценностей, которые имеют надиндивидуальный смысл. Поэтому Тейлор предлагает различать аутентичность А (создание, построение и открытие своего Я; самобытность; критичность по от ношению к нормам общества ) и аутентичность Б (открытость более широкому, чем Я, горизонту смыслов; самоопределение в диалоге). Саморазрушительно для культуры и для личности отдавать предпочтение А перед Б. Этика аутентичности склонна к тривиализации, ибо культура, которая живет этим идеалом, его не полностью осознала, а потому постоянно обесценивает и деформирует. На том пути самоутверждения, на котором наши предки, по их собственным признаниям, страдали от постоянного ощущения греха, наши современники остаются нравственно девственными в их искреннем стремлении к самоутверждению. Эгоцентрические формы культуры аутентичности подталкивают к мировоззрению социального атомизма и культивируют радикальный антропоцентризм. Это находит оправдание в массе безличностные и случайных контактов жителей современных мегаполисов. По выражению У.Бека, «из постепенно исчезающих социальных норм проступает обнаженное, перепуганное, агрессивное «эго», ищущее любви и помощи…И каждый, кто блуждает в тумане собственного Я, более не способен замечать, что эта изолированность, эта «одиночная камера эго», отражает приговор, вынесенный всем» [Цит. по: 1, с.63]. Я далека от мысли, что представленные неклассические этические концепции дают исчерпывающие ответы на все моральные вопросы. Но в целом они очерчивают границы того этического дискурса, который сегодня может быть воспринят. То есть, когда человек, слушая или читая, подумает про себя – «это обо мне». А без этого мертва любая самая правильная этика. Ни аристотелианская, ни кантианская этика, ни их современные интерпретации и модификации не приложимы сегодня к моральному телосу не только потому, что совокупность жизненных ситуаций и фактов современности не схватывается ни деонтологией, ни телеологией. Главное – в эмоциональной несозвучности. Они устарели. Устарели в том смысле, в каком устаревает всякая теория, физическая или этическая, когда перестает коррелировать с фактами (в первом случае) и субъективным мироощущением человека, его жизненным миром (в другом). Любая этическая теория классики была естественным продолжением соответствующей философской системы, являясь ее более или менее убедительным завершением, и было бы нелогичным требовать от этических теорий вневременной актуальности, тогда как породившие их системы стали достоянием истории. Этика – наука о поступках и ценностях. Вне ценностного определения действия людей не могут быть этически осмыслены. Но ценности так же устаревают и меняются, хотя и не так быстро, как теории. Одна из причин нравственных кризисов в культуре – несоответствие старых ценностей и постоянно меняющейся деятельностной сферы, поступков людей. «Падение нравов», на которое сетовали и эпоху Гуттенберга, и продолжают сетовать в эпоху Интернета есть не что иное, как оценка новой действительности с позиций старых ценностей. Ценности, первоначально изобретенные для оценки ограниченного круга поступков, рано или поздно становятся непригодны для новой ситуации. Дисгармония ценностей и поступков может трактоваться двояко: можно критиковать поступки людей, а можно переосмысливать ценности, которые стали неэффективными. И тогда встает задача создания новых ценностей, которые способны обеспечить новые гармонии, невозможные при старых ценностях. И не в том ли главное предназначение живой этики? |
| |
| Литература:
Работа написана специально для конкурса “Ответственность религии науки в современном мире”. |
| (Номинация «Конкурс на лучшую исследовательскую работу») |
| |
1 Этот вопрос обсуждается и в других работах – «Культурные противоречия капитализма» Д.Белла, «Культура нарциссизма» и «Минимальное Я» К.Лаша, «Эра пустоты» Ж.Липовецки. Авторы этих работ озабочены возможностью непредсказуемых политических следствий идеалистических метаморфоз в культуре.
