Вебер М. Наука как призвание и профессия // Избранные произведения
| Вид материала | Закон |
- Макс Вебер. Наука как призвание и профессия, 484.05kb.
- Темы рефератов и докладов Политика как наука и искусство, 320.73kb.
- Политика как призвание и профессия. См в кн.: Вебер М. Избранные произведения. М.,1990., 533.64kb.
- Вебер М. Политика как призвание и профессия, 3836.55kb.
- Вебер Макс. Наука как призвание и профессия, 383.71kb.
- Литература: Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма./ Вебер М. Избранные произведения., 56.41kb.
- Вебер М. Наука как призвание и профессия, 402.01kb.
- 1. Связь истории и философии науки. Классификация наук. Естественные, социальные, гуманитарные, 4038.63kb.
- Избранные произведения. М., 1990. С. 644-706, 898.8kb.
- Вебер М. Избранные произведения: Пер с нем./Сост., общ ред и послесл. Ю. Н. Давыдова;, 393.46kb.
И для этого, конечно, нам надо вернуться назад, к самому началу нашей науки и заново проанализировать, тщательно проследить процессы и пути приобретения знаний и опыта относительно явлений, которые выработались в классической науке.Напомню пока их результат: внутри физической теории, которая исследует природные явления и добивается некоторой объективной и интеллектуально проницаемой картины физического мира, мы не можем (внутри самой же этой теории) понять те средства, которые мы используем для построения этой картины; настолько, что даже такой ученый, как фон Нейман, в своей попытке объяснить, откуда появляются вероятностные значения и неопределенности в физической теории, связывал появление этих вероятностных значений и неопределенностей с тем фактом, что теория (физическая теория) имеет дело с явлениями, которые начинаются в цепи природы, а кончаются в совершенно неясном для нас завершающем её звене, будучи зарегистрированы нашими аппаратами отражения и осознанием нами этих состояний. И вот это осознание, которое является конечным звеном фиксации нами цепи физических явлений, без которого мы вообще не можем о них судить и что-либо знать, мы не можем само фиксировать в точных понятиях. Тем самым мы точную картину физических явлений в мире покупаем ценой нашего непонимания сознательных явлений. Я подчеркиваю — ценой нашего научного непонимания. Как живые реальные существа, мы продолжаем понимать и весьма свободно ориентироваться и жить в сфере сознательных явлений, но мы не можем построить относительно их теорию. Иными словами, мы не можем их зафиксировать объективно, что делает человека и жизнь — и это самое главное следствие — чуждыми объективно изображенному физическому универсуму, выбрасывает их из него (С. 3 — 6).Капица П. Л. Эксперимент, теория, практика. — М.: «Наука», 1981. — Гл. II. — С. 190 — 196. — ссылка скрыта — 23.03.09 И 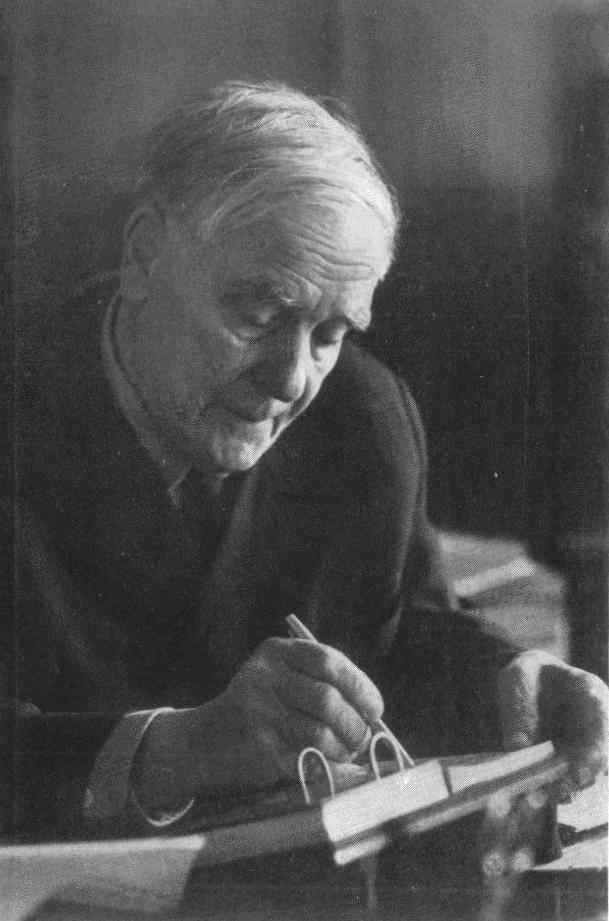 з истории развития физики хорошо известно, что деление физиков на теоретиков и экспериментаторов произошло совсем недавно. В прежние времена не только Ньютон и Гюйгенс, но и такие теоретики, как Максвелл, обычно сами экспериментально проверяли свои теоретические выводы и построения. Теперь же только в исключительных случаях теоретик ставит опыты, чтобы проверить свои теории. Происходит это по простой причине. Техника эксперимента значительно усложнилась. Она требует больших усилий при выполнении опыта. Обычно это не под силу одному человеку, поэтому работа выполняется целым коллективом научных работников. з истории развития физики хорошо известно, что деление физиков на теоретиков и экспериментаторов произошло совсем недавно. В прежние времена не только Ньютон и Гюйгенс, но и такие теоретики, как Максвелл, обычно сами экспериментально проверяли свои теоретические выводы и построения. Теперь же только в исключительных случаях теоретик ставит опыты, чтобы проверить свои теории. Происходит это по простой причине. Техника эксперимента значительно усложнилась. Она требует больших усилий при выполнении опыта. Обычно это не под силу одному человеку, поэтому работа выполняется целым коллективом научных работников.В самом деле, такое оборудование, как ускорители, ожижители, сложнейшие электронные схемы, реакторы и пр., требуют большого штата научных работников для того, чтобы проводить эксперимент. Поэтому физику-теоретику невозможно самому проверять на практике свои теоретические выводы и приходится полагаться на «милость» экспериментаторов, ждать, когда они проверят на практике его выводы и предположения. Из-за этого возникает несоответствие между количеством теоретических работ и возможностью подвергнуть их опытной проверке. В самом деле, теоретик часто печатает несколько работ в год, скажем четыре, а чтобы сделать экспериментальную проверку, требуется обычно год или полтора, причем над этим должна трудиться группа в несколько человек, скажем пять человек; очевидно, что тогда на каждого теоретика должно приходиться от 20 до 30 экспериментаторов. Это, конечно, вульгаризованная схема, но в общем она дает идею о необходимом для развития науки соотношении между теоретиками и экспериментаторами. Сейчас число теоретиков и экспериментаторов примерно равно. В результате получается, что большинство теоретических выводов не проверяется на практике. Теоретики отвыкают от того, что всякая их работа приобретает ценность только после того, как она связана с жизнью. Теория начинает работать сама на себя, и в лучшем случае её ценность определяется из методических и эстетических соображений. Для гармонического развития науки нужно, конечно, чтобы теория не отрывалась от опыта, и это может иметь место только тогда, когда теория опирается на достаточно крупную экспериментальную базу. Почему же у нас ее нет? Почему же у нас так мало людей идет экспериментальную работу и она у нас плохо организована? Ответить на этот вопрос просто: в наших условиях работа экспериментатора гораздо более тяжёлая и менее «рентабельная». Не только потому, что экспериментатор в случае неудачи работы теряет не два-три месяца, как теоретик, но год или полгода, т. е. то время, которое обычно сейчас нужно, чтобы завершить экспериментальную работу. Работа экспериментатора требует гораздо больше усилий, ему не только нужно понимать теорию, но он должен иметь ряд практических навыков в работе с приборами, нужно создать хорошо сработавшийся коллектив, часто эксперимент требует непрерывной работы днём и ночью; всё это ведет к тому, что признание экспериментатора как учёного, достигшего научной степени, приходит значительно позже, чем для физика-теоретика. Чтобы представить диссертацию к защите из сделанной коллективно работы, ему нужно выделить часть, которая якобы является его самостоятельным вкладом, что должно быть подтверждено руководителем работы. Нетрудно видеть, что это условие в корне противоречит здоровому духу коллективной работы, когда люди непрерывно обмениваются опытом и идеями, друг другу помогают и друг друга заменяют. Выделение «личной собственности» для защиты диссертации является противоестественным и тормозящим фактором развития коллективной работы. Всё это отталкивает многих людей от экспериментальной работы. Руководитель коллектива экспериментальной группы тоже поставлен в тяжёлые условия. Он несёт ответственность за работу, но поскольку сам часто фактически не участвует в ней, то обычно считается, что его имя не должно входить в авторский коллектив. Молодёжь, пока не вырастет, конечно, недооценивает роль руководителя, хотя он и подбирает коллектив, распределяет работу между его членами, отсеивает хорошие идеи от плохих. Конечно, роль руководителя исключительно велика. В современных условиях руководитель научной работы подобен режиссёру, он создает спектакль, хотя не появляется сам на сцене. Современный театр и кино признают решающее значение режиссера при создании спектакля или фильма. Но то, что сейчас при современной коллективной научной работе роль руководителя обычно является решающей, ещё далеко не дошло до сознания, потому и не создаются те условия, которые необходимы для успешной работы руководителя, и его работа не обставлена должным образом. Поэтому сейчас очень трудно бывает привлекать способных научных работников для того, чтобы они занимали руководящие посты заведующих лабораториями, директоров институтов. Эти должности часто у нас замещаются работниками с административными навыками, без творческой научной квалификации, в результате этого коллективы начинают плохо работать, и это понижает то качество научной экспериментальной работы, о котором уже говорилось. В таких крупных областях экспериментальной современной физики, как исследование космоса, изучение плазмы, изучение ядра, создание ускорителей, коллективы в экспериментальной работе достигают больших размеров и роль руководителя является решающей, и только правильный подбор его может обеспечить успех работы. Когда теоретик делает свою работу, то его производственными орудиями являются карандаш и бумага, но некоторым и этого не нужно. Так, Эйлер, когда ослеп, делал свои фундаментальные математические работы в уме. Для экспериментатора же нужна хорошая материальная база: помещение со всевозможным специальным оборудованием, большой ассортимент приборов, необходимость выполнения специальных заказов, специальные материалы, мастерские, обученный штат лаборантов и пр. Темпы и успех работы обусловлены совершенством этой материальной базы. Лет 10 назад материальная база была у нас слабее, чем за рубежом, сейчас она значительно улучшилась, но не достигла нужного уровня и продолжает тормозить ход экспериментальной работы, делает её менее привлекательной для ученого. Из сказанного совершенно понятно, почему наша молодёжь стремится к теоретической научной работе, почему у нас возникло такое несоответствие между теорией и экспериментом и почему у нас теория оторвалась от жизни. Если мы согласимся с диагнозом, который я здесь ставлю, то необходимые меры лечения этого заболевания нетрудно найти. Они заключаются в том, чтобы поставить экспериментатора и руководителя экспериментальных работ в такие условия, в которых эта работа стала бы по крайней мере так же привлекательна, как работа теоретика. Приспособить нашу организационную систему научной работы для коллективной работы и поощрять этот характер работы. Такие поощрительные мероприятия могут быть построены на материальной базе и на моральных факторах (С. 92 — 94). Кун Т. Структура научных революций. — М.: Прогресс, — 1977. — filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000392/index.shtml — 23.03.09 Роль истории История, если её рассматривать не просто как хранилище анекдотов и фактов, расположенных в хронологическом порядке, могла бы стать основой для решительной перестройки тех представлений о науке, которые сложились у нас к настоящему времени. Представления эти возникли (даже у самих учёных) главным образом на основе изучения готовых научных достижений, содержащихся в классических трудах или позднее в учебниках, по которым каждое новое поколение научных работников обучается практике своего дела. Но целью подобных книг по самому их назначению является убедительное и доступное изложение материала. Понятие науки, выведенное из них, вероятно, соответствует действительной практике научного исследования не более, чем сведения, почерпнутые из рекламных проспектов для туристов или из языковых учебников, соответствуют реальному образу национальной культуры. В предлагаемом очерке делается попытка показать, что подобные представления о науке уводят в сторону от её магистральных путей. Его цель состоит в том, чтобы обрисовать хотя бы схематически совершенно иную концепцию науки, которая вырисовывается из исторического подхода к исследованию самой научной деятельности. …Если науку рассматривать как совокупность фактов, теорий и методов, собранных в находящихся в обращении учебниках, то в таком случае учёные —это люди, которые более или менее успешно вносят свою лепту в создание этой совокупности. Развитие науки при таком подходе — это постепенный процесс, в котором факты, теории и методы слагаются во всё возрастающий запас достижений, представляющий собой научную методологию и знание. История науки становится при этом такой дисциплиной, которая фиксирует как этот последовательный прирост, так и трудности, которые препятствовали накоплению знания. Отсюда следует, что историк, интересующийся развитием науки, ставит перед собой две главные задачи. С одной стороны, он должен определить, кто и когда открыл или изобрел каждый научный факт, закон и теорию. С другой стороны, он должен описать и объяснить наличие массы ошибок, мифов и предрассудков, которые препятствовали скорейшему накоплению составных частей современного научного знания. Многие исследования так и осуществлялись, а некоторые и до сих пор преследуют эти цели. Однако в последние годы некоторым историкам науки становится всё более и более трудным выполнять те функции, которые им предписывает концепция развития науки через накопление. Взяв на себя роль регистраторов накопления научного знания, они обнаруживают, что чем дальше продвигается исследование, тем труднее, а отнюдь не легче бывает ответить на некоторые вопросы, например о том, когда был открыт кислород или кто первый обнаружил сохранение энергии. Постепенно у некоторых из них усиливается подозрение, что такие вопросы просто неверно сформулированы и развитие науки — это, возможно, вовсе не простое накопление отдельных открытий и изобретений. В то же время этим историкам все труднее становится отличать «научное» содержание прошлых наблюдений и убеждений от того, что их предшественники с готовностью называли «ошибкой» и «предрассудком». Чем более глубоко они изучают, скажем, аристотелевскую динамику или химию и термодинамику эпохи флогистонной теории, тем более отчетливо чувствуют, что эти некогда общепринятые концепции природы не были в целом ни менее научными, ни более субъективистскими, чем сложившиеся в настоящее время. Если эти устаревшие концепции следует назвать мифами, то оказывается, что источником последних могут быть те же самые методы, а причины их существования оказываются такими же, как и те, с помощью которых в наши дни достигается научное знание. Если, с другой стороны, их следует называть научными, тогда оказывается, что наука включала в себя элементы концепций, совершенно несовместимых с теми, которые она содержит в настоящее время. Если эти альтернативы неизбежны, то историк должен выбрать последнюю из них. Устаревшие теории нельзя в принципе считать ненаучными только на том основании, что они были отброшены. Но в таком случае едва ли можно рассматривать научное развитие как простой прирост знания. То же историческое исследование, которое вскрывает трудности в определении авторства открытий и изобретений, одновременно даёт почву глубоким сомнениям относительно того процесса накопления знаний, посредством которого, как думали раньше, синтезируются все индивидуальные вклады в науку. …Едва ли любое эффективное исследование может быть начато прежде, чем научное сообщество решит, что располагает обоснованными ответами на вопросы, подобные следующим: каковы фундаментальные сущности, из которых состоит универсум? Как они взаимодействуют друг с другом и с органами чувств? Какие вопросы учёный имеет право ставить в отношении таких сущностей и какие методы могут быть использованы для их решения? По крайней мере в развитых науках ответы (или то, что полностью заменяет их) на вопросы, подобные этим, прочно закладываются в процессе обучения, которое готовит студентов к профессиональной деятельности и даёт право участвовать в ней. Рамки этого обучения строги и жёстки, и поэтому ответы на указанные вопросы оставляют глубокий отпечаток на научном мышлении индивидуума. Это обстоятельство необходимо серьезно учитывать при рассмотрении особой эффективности нормальной научной деятельности и при определении направления, по которому она следует в данное время. Рассматривая в III, IV, V разделах нормальную науку, мы поставим перед собой цель в конечном счёте описать исследование как упорную и настойчивую попытку, навязать природе те концептуальные рамки, которые дало профессиональное образование. В то же время нас будет интересовать вопрос, может ли научное исследование обойтись без таких рамок, независимо от того, какой элемент произвольности присутствует в их исторических источниках, а иногда и в их последующем развитии. …Нормальная наука, на развитие которой вынуждено тратить почти всё своё время большинство учёных, основывается на допущении, что научное сообщество знает, каков окружающий нас мир. Многие успехи науки рождаются из стремления сообщества защитить это допущение, и если это необходимо — то и весьма дорогой ценой. Нормальная наука, например, часто подавляет фундаментальные новшества, потому что они неизбежно разрушают её основные установки. Тем не менее до тех пор, пока эти установки сохраняют в себе элемент произвольности, сама природа нормального исследования дает гарантию, что эти новшества не будут подавляться слишком долго. Иногда проблема нормальной науки, проблема, которая должна быть решена с помощью известных правил и процедур, не поддается неоднократным натискам даже самых талантливых членов группы, к компетенции которой она относится. В других случаях инструмент, предназначенный и сконструированный для целей нормального исследования, оказывается неспособным функционировать так, как это предусматривалось, что свидетельствует об аномалии, которую, несмотря на все усилия, не удается согласовать с нормами профессионального образования. Таким образом (и не только таким) нормальная наука сбивается с дороги всё время. И когда это происходит — то есть когда специалист не может больше избежать аномалий, разрушающих существующую традицию научной практики,—начинаются нетрадиционные исследования, которые в конце концов приводят всю данную отрасль науки к новой системе предписаний (commitments), к новому базису для практики научных исследований. Исключительные ситуации, в которых возникает эта смена профессиональных предписаний, будут рассматриваться в данной работе как научные революции. Они являются дополнениями к связанной традициями деятельности в период нормальной науки, которые разрушают традиции. Наиболее очевидные примеры научных революций представляют собой те знаменитые эпизоды в развитии науки, за которыми уже давно закрепилось название революций. Поэтому в IX и Х разделах, где предпринимается непосредственный анализ природы научных революций, мы не раз встретимся с великими поворотными пунктами в развитии науки, связанными с именами Коперника, Ньютона, Лавуазье и Эйнштейна. Лучше всех других достижений, по крайней мере в истории физики, эти поворотные моменты служат образцами научных революций. Каждое из этих открытий необходимо обусловливало отказ научного сообщества той или иной освященной веками научной теории пользу другой теории, несовместимой с прежней. Каждое из них вызывало последующий сдвиг в проблемах, подлежащих тщательному научному исследованию, и в тех стандартах, с помощью которых профессиональный учёный определял, можно ли считать правомерной ту или иную проблему или закономерным то или иное её решение. И каждое из этих открытий преобразовывало научное воображение таким образом, что мы в конечном счете должны признать это трансформацией мира, в котором проводится научная работа. Такие изменения вместе с дискуссиями, неизменно сопровождающими их, и определяют основные характерные черты научных революций. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ. — М.: Медиум, — 1995. — filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000329/ — 23.03.09 Г 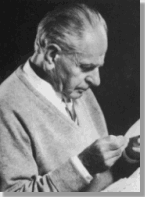 лава 1 лава 1 1. Наука: разум или вера? На протяжении столетий знанием считалось то, что доказательно обосновано (proven) — силой интеллекта или показаниями чувств. Мудрость и непорочность ума требовали воздержания от высказываний, не имеющих доказательного обоснования; зазор между отвлечёнными рассуждениями и несомненным знанием, хотя бы только мыслимый, следовало свести к нулю. Но способны ли интеллект или чувства доказательно обосновывать знание? Скептики сомневались в этом еще две с лишним тысячи лет назад. Однако скепсис был вынужден отступить перед славой ньютоновской физики. Эйнштейн опять всё перевернул вверх дном, и теперь лишь немногие философы или учёные всё ещё верят, что научное знание является доказательно обоснованным или, по крайней мере, может быть таковым. Столь же немногие осознают, что вместе с этой верой падает и классическая шкала интеллектуальных ценностей, её надо чем-то заменить — ведь нельзя же довольствоваться вместе с некоторыми логическими эмпирицистами разжиженным идеалом доказательно обоснованной истины, низведенным до «вероятной истины», или «истиной как соглашением» (изменчивым соглашением, добавим мы), достаточной для некоторых «социологов знания» . Первоначальный замысел К. Поппера возник как результат продумывания следствий, вытекавших из крушения самой подкрепленной научной теории всех времен: механики и теории тяготения И. Ньютона. К. Поппер пришел к выводу, что доблесть ума заключается не в том, чтобы быть осторожным и избегать ошибок, а в том, чтобы бескомпромиссно устранять их. Быть смелым, выдвигая гипотезы, и беспощадным, опровергая их, — вот девиз Поппера. Честь интеллекта защищается не в окопах доказательств или «верификаций», окружающих чью-либо позицию, но точным определением условий, при которых эта позиция признается непригодной для обороны. Марксисты и фрейдисты, отказываясь определять эти условия, тем самым расписываются в своей научной недобросовестности. Вера — свойственная человеку по природе и потому простительная слабость, её нужно держать под контролем критики; но предвзятость (commitment), считает Поппер, есть тягчайшее преступление интеллекта. Иначе рассуждает Т. Кун. Как и Поппер, он отказывается видеть в росте научного знания кумуляцию вечных истин (3). Он также извлек важнейший урок из того, как эйнштейновская физика свергла с престола физику Ньютона. И для него главная проблема — «научная революция». Но если, согласно Попперу, наука — это процесс «перманентной революции», а её движущей силой является рациональная критика, то, по Куну, революция есть исключительное событие, в определенном смысле выходящее за рамки науки; в периоды «нормальной науки» критика превращается в нечто вроде анафематствования. Поэтому, полагает Кун, прогресс, возможный только в «нормальной науке», наступает тогда, когда от критики переходят к предвзятости. Требование отбрасывать, элиминировать «опровергнутую» теорию он называет «наивным фальсификационизмом». Только в сравнительно редкие периоды «кризисов» позволительно критиковать господствующую теорию и предлагать новую. Взгляды Т. Куна уже подвергались критике, и я не буду здесь их обсуждать. Замечу только, что благие намерения Куна — рационально объяснить рост научного знания, отталкиваясь от ошибок джастификационизма и фальсификационизма заводят его на зыбкую почву иррационализма. С точки зрения Поппера, изменение научного знания рационально или, по крайней мере, может быть рационально реконструировано. Этим должна заниматься логика открытия. С точки зрения Куна, изменение научного знани я — от одной «парадигмы» к другой — мистическое преображение, у которого нет и не может быть рациональных правил. Это предмет психологии (возможно, социальной психологии) открытия. Изменение научного знания подобно перемене религиозной веры. Столкновение взглядов Поппера и Куна — не просто спор о частных деталях эпистемологии. Он затрагивает главные интеллектуальные ценности, его выводы относятся не только к теоретической физике, но и к менее развитым в теоретическом отношении социальным наукам и даже к моральной и политической философии. И то сказать, если даже в естествознании признание теории зависит от количественного перевеса её сторонников, силы их веры и голосовых связок, что же остается социальным наукам; итак, истина зиждется на силе. Надо признать, что каковы бы ни были намерения Куна, его позиция напоминает политические лозунги идеологов «студенческой революции» или кредо религиозных фанатиков. Моя мысль состоит в том, что попперовская логика научного открытия сочетает в себе две различные концепции. Т. Кун увидел только одну из них-«наивный фальсификационизм» (лучше сказать «наивный методологический фальсификационизм»); его критика этой концепции справедлива и её можно даже усилить. Но он не разглядел более тонкую концепцию рациональности, в основании которой уже не лежит «наивный фальсификационизм». Я попытаюсь точнее обозначить эту более сильную сторону попперовской методологии, что, надеюсь, позволит ей выйти из-под обстрела куновской критики, и рассматривать научные революции как рационально реконструируемый прогресс знания, а не как обращение в новую веру. …Таким образом, научная честность требует постоянно стремиться к такому эксперименту, чтобы, в случае противоречия между его результатом и проверяемой теорией, последняя была отброшена. Фальсификационист требует, чтобы опровергнутое высказывание безоговорочно отвергалось без всяких увёрток. С нефальсифицируемыми высказываниями, если это не тавтологии, догматический фальсификационист расправляется без проволочек: зачисляет их в «метафизические» и лишает их права гражданства в науке. Догматические фальсификационисты четко различают теоретика и экспериментатора: теоретик предполагает, экспериментатор — во имя Природы — располагает. Как сказал Вейль: «Раз и навсегда я хочу выразить безграничное восхищение работой экспериментатора, который старается вырвать интерпретируемые факты у неподатливой природы и который хорошо знает как предъявить нашим теориям решительное «нет» или тихое «да». Очень ясно выразился Брейсуэйт о догматическом фальсификационизме. Он так формулирует вопрос, касающийся объективности научного знания: «В какой степени признанная научными экспертами дедуктивная система может считаться свободным творением человеческого ума, и до какой — объективным отображением фактов природы?». И отвечает: «Способ выдвижения научной гипотезы и то, как ею пользуются для выражения общих суждений — это человеческое изобретение; у Природы мы получаем только наблюдаемые факты, которыми опровергаются или не опровергаются научные гипотезы... Наука полагается на Природу в том, являются ли какие-то высказывания, относящиеся к низшему уровню научных умозаключений, ложными. Такая проверка совершается при помощи дедуктивной системы научных гипотез, в построении каковой мы обладаем достаточно большой свободой. Человек предлагает систему гипотез; Природа располагает их истинностью или ложностью. Сначала человек придумывает научную систему, а затем проверяет, согласуется ли она с наблюдаемым фактом». По логике догматического фальсификационизма, рост науки — это раз за разом повторяющееся опрокидывание теорий, наталкивающихся на твердо установленные факты. …Однако догматический фальсификационизм уязвим. Он зиждется на двух ложных посылках и на слишком узком критерии демаркации между научным и ненаучным знанием. Первая посылка — это утверждение о существовании естественной, вытекающей из свойств человеческой психики, разграничительной линии между теоретическими или умозрительными высказываниями, с одной стороны, и фактуальными (базисными) предложениями наблюдения, с другой. (Вслед за Поппером, я назову это натуралистической концепцией наблюдения). Вторая посылка — утверждение о том, что высказывание, которое в соответствии с психологическим критерием фактуальности может быть отнесено к эмпирическому базису (к предложениям наблюдения), считается истинным; о нем говорят, что оно доказательно обосновано фактами. (Я назову это учением о доказательном обосновании путем наблюдения [эксперимента]). Эти две посылки предохраняют от смертельной для догматического фальсификационизма возможности опровержения эмпирического базиса, ложность которого могла бы переноситься дедуктивными процедурами на проверяемую теорию. К этим посылкам добавляется критерий демаркации: «научными» считаются только те теории, которые исключают некоторые доступные наблюдению состояния дел в исследуемой предметной области и потому могут быть опровергнуты фактами. Иначе говоря, теория «научна», если у неё есть эмпирический базис. Однако обе посылки ложны. Психология опровергает первую, логика — вторую, и, наконец, методологические рассуждения говорят против критерия демаркации. |
