О книге м. Кнебель
| Вид материала | Документы |
- Кнебель М. И., Кириленко К. Н., Литвиненко Н. Г., Максимова, 7467.82kb.
- Мария Осиповна Кнебель Одейственном анализе Пьесы и роли Предисловие. 2 Общие принципы, 1452.17kb.
- С. И. Введение к книге, 262.94kb.
- 35. (1) Ленинградская школа детской книги 1920-х 30-х годов, 49.19kb.
- Г. Коваленко поэзия и проза педагогики, 114.41kb.
- Статья посвящена книге А. И. Солженицына «Архипелаг гулаг», 150.9kb.
- Программа поддержки книги и пропаганды чтения «Читающий Кыргызстан» («Окурман Кыргызстан»), 215.31kb.
- Аннотация к книге история гуманоидных цивилизаций земли, 4629.92kb.
- Задачи : создать условия для: 1 формирования представлений учащихся о Красной книге, 59.19kb.
- Холлифорд, 2689.99kb.
О
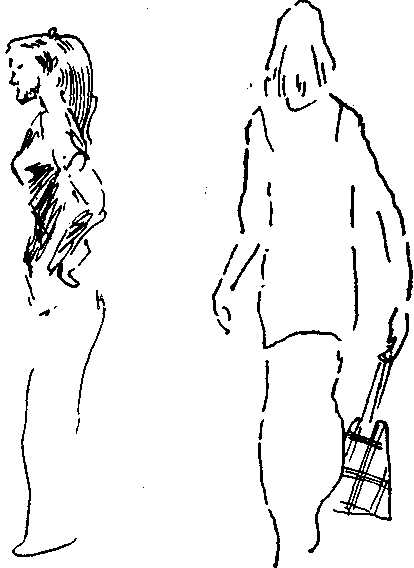 Диком они говорили как о человеке, несущем беду, с которой неизвестно как справляться. Относились они к нему каждый на свой лад, но фигура при этом вырисовывалась цельная •— серьезная и мрачная.
Диком они говорили как о человеке, несущем беду, с которой неизвестно как справляться. Относились они к нему каждый на свой лад, но фигура при этом вырисовывалась цельная •— серьезная и мрачная.- Вот вам и экспозиция! — сказала я участникам этюда, когда они, довольные, взбудораженные, вернулись на свои места, чтобы вновь перечитать текст и проверить, верно ли они действовали.
- У меня, оказывается, всего три реплики! —с удивлением обнаружил наш Кулыгин. — Одна из них — вопрос: «Посмотри-ка, брат Кудряш, кто это там так руками размахивает?» Вторая:— «Нашел место», третья: — «С него, что ль, пример брать! Лучше уж стерпеть». Значит, я верно почувствовал. Мне ужасно не хотелось расставаться с песней, с Волгой, не хотелось окунаться в ненавистный мне быт. Да я и не верю, что с таким, как Дикой, можно сладить. И еще я почувствовал, что очень не люблю его.
Вы «подставили» кого-нибудь на место Дикого?
- Да. Но в этюде он полностью переродился. Я ясно представил себе своего учителя математики, которого я в школе очень не любил. Но тот был маленький безусый блондин, а мой Дикой вырос, стал лысый, с бородой!
А отношение изменилось тоже?
Нет, неприязненное чувство осталось, даже увеличилось.
- А почему вас так удивило, что у Кулыгина всего три реплики?— спросила я Ваню. — Ведь мы несколько раз читали сцену.
- Не знаю, мне только после этюда это бросилось в глаза. До этого текст мне казался чем-то сплошным, и я с трудом разыскивал в нем свои слова, свою точку зрения.
Приступаем к следующему этюду. Сцена Дикого и Бориса. Костя Р., взявший роль Дикого, сразу «берет быка за рога». Он уже из-за кулис нападает на своего племянника.
Ну, как? — спрашиваю я студентов.
- Вольтаж! — отвечают они хором; никто не поверил этому Дикому, все обернулось клоунадой. Разбираемся. Выясняем, во-первых, почему Костя на первом же этюде знает на зубок текст. Он утверждает, что не учил, текст якобы улегся сам, как-то незаметно. Не очень верится, слишком уж сохранены далекие от нас обороты речи.
- Вам что-нибудь неприятно в Борисе, таком, как вы его увидели?
- Нет.
418
- Может быть, вы за что-нибудь в его поведении зацепились и это заставило вас обрушиться на него?
- Нет.
Вы видели его?
- Нет.
Что же заставило вас шуметь, кричать, ругаться?
Текст, — смущенно сознается Костя.
- Но ведь мы для того и делаем этюд, чтобы найти более органичный подступ к тексту, а вы решили сразу ухватиться за слова...
Спрашиваю, как чувствовалiсебя в этюде исполнитель Бориса.
- Ужасно. Я не верил ни одному слову, ни одному движению Константина, мне хотелось провалиться сквозь землю. Я никак не мог внутри этюда вернуть его к чему-то живому. Вместо роли я думал: почему Костя так наигрывает.
- Попробуем сделать упражнение, — предлагаю я. — Костя и Витя, выходите на сцену. Сядьте на скамейку. Костя, найдите в партнере, именно в нем, а не в каком-то выдуманном человеке, что-то, что раздражает вас.
Косте трудно сосредоточиться. Неудача всегда больно ранит его. Но Костю любят на курсе, и все притихли. Всем жаль его.
— Кажется, нашел,— говорит, наконец, Костя.
Костя пытается заставить Витю отдать книжку. Витя не подчинялся. Костя разозлился и стал придираться. «Ты же в очках, что ты там видишь в книге?» — раздались его злые слова. Витя пересел на конец скамейки. Костя резким движением подсел к нему и выхватил книгу. Витя инстинктивно потянулся за ней, но, вспомнив, видимо, запрет, границу, которую нельзя перешагнуть, убрал руки. Они смотрели друг на друга — это была уже борьба. Наконец, Витя опустил глаза и как-то сник. Костя победоносно улыбнулся. Витя вынул шариковую ручку и стал разбирать ее.
Отдай, — тихо сказал Костя...
- Довольно, — прервала я их, — теперь вернемся к этюду. Начнем с Кулыгина, Кудряша и Шапкина. Дикому и Борису будет легче войти в этюд.
Борис вышел первым. Потом Витя объяснил, что, спасаясь от Дикого, он решил идти на голоса людей, надеясь, что придирки Дикого прекратятся, что он постесняется придираться на людях.
— А меня, — сказал Костя, — это возмутило еще больше. Я сразу его раскусил! Меня не проведешь!
419
Оба говорили и двигались куда свободнее, чем в первый раз. Выйдя первым, Витя решил никуда не уходить от людей, и хотя вслух он этого не произнес, это решение как-то отразилось на всей его фигуре. Между ними, таким образом, возникло еще одно усложняющее их отношения обстоятельство. Родилось оно от мизансцены, как будто бы и не подготовленной, во всяком случае не оговоренной. И когда Дикой произнес реплику из пьесы: «Что ты как столб стоишь-то?» — в этих словах обнаружился новый смысл. Дикого вдвойне бесило, что Борис прилепился к гуляющей компании и не хочет уходить от нее. Костя то забывал о выученном им тексте и говорил своими словами, то вспоминал текст, но это не меняло дела. Слова звучали веско,— Дикой, казалось, был действительно взбешен и не умерял своего раздражения.
«Грозу» нам целиком удалось пройти этюдами.
Как всегда, этюды по первым сценам давались трудно, потом все стало проще и легче. Студенты освобождались от лишнего волнения, от зажатости. Учились ориентироваться в материале, стали готовиться к этюдам. Да, к этюдной импровизации нужна подготовка. Заключается она главным образом в нарабатывании видений. Например, чтобы Катерина рассказала о том, как ей жилось дома до замужества, студентке необходимо детально увидеть картину своего детства. Одни рассказывают о своем прошлом сухо, протокольно, для других оно полно значения, им хочется поделиться чем-то очень важным.
— Вспомните и подробно расскажите какой-нибудь случай из вашей жизни, грустный или веселый. Мы должны все это увидеть и понять, как вы относитесь к этому случаю.
Выбор эпизодов из своей жизни очень разный, эмоциональная окраска манеры рассказывать — тоже разная. Одни рассказывают смело, гладко; другие как будто блуждают, спотыкаясь, по картинам прошлого, третьи от яркости воспоминаний становятся косноязычными.
После того как студенты поймут, что, рассказывая, они вспоминали множество картин, отпечатавшихся в их памяти, я предлагаю им обратиться к тексту рассказа Катерины.
— Вам надо так нафантазировать детство Катерины, чтобы оно стало вам совсем близким, родным,— говорю я Белле Б., исполнительнице Катерины.— Сделать это не просто. Надо, во-первых, нарисовать себе картину, аналогичную той, которую рисует автор. При этом она должна быть подробнее, потому что слово всегда рождается из множественного видения, из мно-
420
жественного образа. Слово как бы суммирует впечатление. Ну, давайте я буду спрашивать вас... Как относилась к вам мать? Заставляли ли вас работать? Когда вы вставали? Много ли у вас в доме было цветов? Любили ли вы вышивать? Любили ли петь? Как мать относилась к вашим занятиям?
Сначала Белла отвечает односложно, сухо.
К этюдам, в которых содержится рассказ о прошлом или развернутый рассказ о только что виденном, я отношусь очень внимательно. Одни студенты импровизируют легко и просто, другие видят не менее ярко, но им гораздо сложнее выразить это словами, так что тут нужна, особая чуткость педагога, градация и в требованиях, и в оценках.
Белла Б. принадлежит к людям, которые видят ярко, а говорят об этом скупо. Рассказывая о снах, которые ей снились в детстве, она сказала только: — «А какие сны мне снились!» — и замолчала. По этому ее внезапному молчанию, по глазам, куда-то устремленным, мы понимали, что она сейчас вспоминает удивительные сны. Игравшая Варвару студентка смотрела на Беллу, не отрывая глаз, а потом спросила шепотом: «Какие? Расскажи»... И только тогда Белла стала, не торопясь, рассказывать...
Мы подходим к событию «отъезд Тихона». Перед этюдом исполнительница Кабанихи Нора Р. заявила, что согласна с теми, кто не верит в «незнание» Кабанихи. Она не верит Катерине, она, так же как Варвара, поймала какой-то взгляд Катерины на Бориса...
— Ну что ж, пусть будет так, давайте пробовать...Разобрали, как всегда, последовательность действия.
— Там, за кулисами,— говорит Нора,— я давала последние наставления Тихону. Чтобы деньги зря не тратил, чтобы пил в меру, чтобы купил все по списку... Теперь все готово, ему надо только проститься с женой. Это значит, что так же, как я только что приказывала ему, теперь он должен приказывать жене. Но так как он приказывает вяло, без инициативы, то я подталкиваю его, подсказываю. Я требую, чтобы Тихон приказал Катерине не пялить глаза в окна и не заглядываться на парней. Потом я оставляю их одних. Эта та вольность, которую я разрешаю им. Пусть поговорят с глазу на глаз. Когда я возвращаюсь, остается только завершить ритуал. Сесть всем на прощание и проститься. А это значит, что Тихон должен поклониться мне в ноги, а Катерина должна поклониться ему. А после отъезда мужа она должна часа полтора выть. То, что Катерина не делает этого, еще одна улика против нее.
421
Катерина, Тихон, Варвара и Глаша тоже рассказывают о последовательности своих действий, и мы начинаем этюд. Приносят узлы с вещами. Девушки надевают длинные юбки. Уговариваются, где висит икона. Спохватываются, что забыли платки на голову. Бегут за платками. Тут возникает вопрос, как их повязывали...
Н
 аконец, предэтюдная суета кончается и начинается этюд. Интересно, что сразу же возникает новый ритм. Мы о ритме ничего не говорили, но Нора — Кабаниха выходит не спеша, крестится и очень спокойно предлагает приступить к прощанию. Нет попыток изображать старость; Нора, по-видимому, верно почувствовала суть сцены, и это подсказало ей внешний покой при внутренней взволнованности.
аконец, предэтюдная суета кончается и начинается этюд. Интересно, что сразу же возникает новый ритм. Мы о ритме ничего не говорили, но Нора — Кабаниха выходит не спеша, крестится и очень спокойно предлагает приступить к прощанию. Нет попыток изображать старость; Нора, по-видимому, верно почувствовала суть сцены, и это подсказало ей внешний покой при внутренней взволнованности.Этюд далеко не во всем удался. Белла — Катерина при первом же наставлении-приказе заплакала. Мне вначале показалось, что это хорошо (все существо Катерины отозвалось на обиду), но потом эти слезы стали тормозом, студентка явно стала получать от своих слез удовольствие, ушла в «игру состояния», а к моменту, когда они с Тихоном остались вдвоем, от слез наша Катерина уже ничего и говорить не могла.
Тихон растерялся, выполнить намеченное действие ему не удалось.
Г
 лаша вела себя в этюде верно. Она как будто была занята вещами, уносила их, приносила новые, но притом с любопытством следила за церемонией проводов. Все ей было внове, все интересно... Безусловно удался этюд Норе. Она нашла верное отношение и к сыну, и к невестке. Она удивила всех своей волей. И раньше это ее качество уже проявлялось в этюдах, но здесь оно обнаружилось с неожиданной силой. Она безоговорочно верила в свое право повелевать. Кроме приказов, которые вытекали из авторского текста, у нее легко рождались другие, аналогичные. Студенты, которым я, как всегда, предложила разобрать этюд, очень хвалили ее. Я тоже. Нора призналась, что ей помог этюд, который делали Дикой и Борис.
лаша вела себя в этюде верно. Она как будто была занята вещами, уносила их, приносила новые, но притом с любопытством следила за церемонией проводов. Все ей было внове, все интересно... Безусловно удался этюд Норе. Она нашла верное отношение и к сыну, и к невестке. Она удивила всех своей волей. И раньше это ее качество уже проявлялось в этюдах, но здесь оно обнаружилось с неожиданной силой. Она безоговорочно верила в свое право повелевать. Кроме приказов, которые вытекали из авторского текста, у нее легко рождались другие, аналогичные. Студенты, которым я, как всегда, предложила разобрать этюд, очень хвалили ее. Я тоже. Нора призналась, что ей помог этюд, который делали Дикой и Борис.— Я на твоей ошибке поняла, что мне надо найти в Катерине какую-нибудь мелочь, которая не понравилась бы мне. И нашла. Это был взгляд. Почему она так смотрит на меня?! Как она смеет! Потом она заплакала. Это совсем возмутило меня. Она восстанавливает сына против меня! Я была твердо уверена, что слезы — признак ее вины, что она заплакала только потому, что виновата перед сыном и передо мной. Ко мне почему-то привязались слова — «крокодиловы слезы»; жаль было Тихона, который не видит, что слезы показные, и зло брало на него, что он такой растяпа.
Самое время перечитать текст. Все углубляются в пьесу. Интересно в это время следить за студентами. Глаза блестят, лица живые, то улыбаются, то хмурятся. Они сравнивают. Живой опыт приходит в соприкосновение со словами, которые до этюда казались чужими, а теперь стали необходимыми. Оказывается, слова пьесы лучше собственных выражают то, что намечено в этюде.
Нора обращает внимание на то, сколько восклицательных знаков в роли у Кабанихи. Раньше она их не замечала, а теперь не только заметила, но поняла их значение,— не только рассудочно, а как потребность выразить свою мысль с максимальной категоричностью.
Я прошу кого-нибудь из студентов принести из читального зала том сочинений Станиславского и читаю выдержку:
«Теперь подумайте, хорошо вникните и скажите мне: полагаете ли вы, что, если б вы начали работу над ролью с зубрения
423
ее текста, как это в большинстве случаев делается во всех театрах мира, вам удалось бы достигнуть того же, что достигнуто с помощью моего приема?
Заранее скажу вам — нет, ни в коем случае вы не достигли бы нужных нам, желаемых результатов. Вы бы насильственно втиснули в механическую память языка, в мускулы речевого аппарата звуки слов и фраз текста. При этом в них растворились и исчезли бы мысли, роли и текст стал бы отдельно от задач и действий»106.
Очень существенная проблема — когда и как переходить от своего собственного текста в этюдах к авторскому тексту.
Должна признаться, что у меня нет точного ответа на этот вопрос. Память человека индивидуальна до крайности. Я только все больше убеждаюсь в том, что этюд помогает заучиванию текста. Потому что легче заучить то, что ты понимаешь. Этюд раскрывает, обостряет всю органику, всю творческую природу актера, и его память в том числе. Возвращаясь после этюда к столу, чтобы в послеэтюдном разборе проверить упущенное или неверно понятое, актер (или студент) с необычайной активностью «впитывает» текст, осваивает его. Рождается масса вопросов, которые совсем не вставали раньше.
Были ли в моей практике случаи, когда этюды тормозили заучивание текста? Да, были. Я старалась разобраться в них с максимальной объективностью. И путем наблюдения, и в откровенных разговорах.
У одних — плохая память. Кроме того, процесс этюдов кажется им чем-то не имеющим отношения к заучиванию текста. Они спохватываются тогда, когда выясняется, что все окружающие уже знают текст, а тот, кто так легко и свободно делал этюды, не знает его. Начинается зубрежка, паника, бессмысленное заучивание и т. д.
Метод действенного анализа обладает одним очень важным свойством. Это метод комплексный. Он требует и понимания смысла, и поисков действенной природы, и воображения, и физической свободы, и все это в результате должно вылиться в точное авторское слово. Как только происходит отрыв одного элемента от другого, нарушается гармония в процессе работы.
У других хорошая память, и они, серьезно проанализировав текст, сделав этюд и вернувшись к послеэтюдному анализу,
424
почти точно знают текст. Но «почти» так же не годится, как и полное незнание. Я всем своим существом не приемлю искаженного текста не только в классике, но и в нашей драматургии. Лексика Горького так же неповторима и важна, как лексика Вишневского, Розова, Володина и других. Так же, как любое движение души требует ясного осознания, так же запятая, точка, восклицательный или вопросительный знаки являются формой выражения авторской мысли и должны быть осознаны, поняты, осуществлены.
Автор для меня всегда первое лицо в сценическом искусстве. Этюд нужен, чтобы приблизить нас к нему, а не отдалять, не подменять его лексики своей, приблизительной.
Я ненавижу, когда актеры вставляют свои «вот»,, «так вот», «просто» и т. д. и, как могу, борюсь с этим.
Есть в театре непреложный закон. Как только актер (будь он студент или всеми признанный мастер) получает в руки роль, он не имеет права с ней расставаться. Если актер не заглядывает в роль между репетициями, он при методе действенного анализа не будет знать ее текста. Станиславский, открыв новую методику, полагал, что она попадет к творческим людям. Все, что он делал, было рассчитано на людей талантливых, которые, получив что-то на репетиции или уроке, унесут это с собой, будут мысленно возвращаться к добытому опыту, будут десятки раз заглядывать в роль, чтобы проверить найденное и принести на следующую репетицию плоды своих размышлений.
Я знаю многих актеров с плохой памятью. Они утверждали, что роль запоминалась несравненно легче в этюдах, чем когда им приходилось ее зубрить.
И все-таки я почти всегда оставляю время, чтобы вместе с актерами серьезно продумать структуру фразы, поэтику того или иного автора. Этот анализ текста тоже необходим, тоже помогает его точному знанию.
Принято считать, что Мейерхольд в мизансценировании был «диктатором». Это верно, но только отчасти. Он был одарен могучим воображением, он видел форму будущего спектакля во всех ее оттенках. И так как форма большинства его спектаклей была совершенно неожиданна, ломала и зрительские, и актерские привычки, то, естественно, разрыв между режиссерским замыслом и актерским осуществлением почти всегда обнаруживал себя. Хотя и тут существовали исключения. Бабанова, Ильинский, Гарин, Штраух блистательно оправдывали сложнейшие
425
задания Мейерхольда и создавали глубокие живые человеческие характеры, хотя сценические формы, в которые их вводил режиссер, были чаще всего условны. И очень сложные конструкции декораций требовали особой тренировки, и деление пьесы на множество эпизодов, и сами мизансцены,— все требовало особой, виртуозной актерской техники.
Станиславский обладал не меньшим, чем у Мейерхольда, воображением, но оно всегда тяготело к жизненным формам. Поэтому, может быть, разрыв между существованием актера на сцене и средой, в которой ему надлежало действовать, был меньшим.
Известно, однако, что длительное время Станиславский заранее придумывал и записывал мизансцены. Больше того, он сочинял мизансцены тогда, когда сам не репетировал пьесы. Репетировал Вл. И. Немирович-Данченко, а Станиславский уезжал, чтобы в тишине, в отрыве от театра, сочинять мизансцены. Немирович и коллектив актеров подчинялись творческой воле Станиславского. Таким образом, в практике Станиславского мы встречаемся с еще более резким разграничением, чем у Мейерхольда.
Станиславский отказался от этого приема. Постепенно он пришел к выводу, что нельзя искать пластические решения в отрыве от актеров. Поиски мизансцен в союзе с актером — вот в чем он увидел наиболее плодотворный путь.
Я не думаю, что яркость мизансцен Станиславского времен «записанных» мизансцен была большей, чем в период, когда он ставил «Женитьбу Фигаро» или «Горячее сердце».
Дело не в том, что режиссер видит или не видит конечный результат — мизансцену. Он должен, он обязан ее видеть, иначе он не режиссер. Дело в том, что его как художника больше увлекает, волнует, греет — им самим созданная мизансцена или мизансцена, созданная вместе с актером. Актер в результате сложной, тонкой совместной с режиссером работы осуществляет подсказанную режиссером мизансцену. Эта мизансцена наполняется живым дыханием, мыслью и теплом актера.
Мы, к сожалению, стали делить режиссеров на два типа. Один — постановщик, другой — педагог. Педагог — тот, который умеет работать с актерами, но не в состоянии создать пластический рисунок спектакля, не видит и поэтому не может найти интересные мизансцены. Постановщик — тот, кто умеет лепить из отдельных кусков целое, кто наделен даром композиции. Иногда считается, что над спектаклем сначала должен порабо-
426
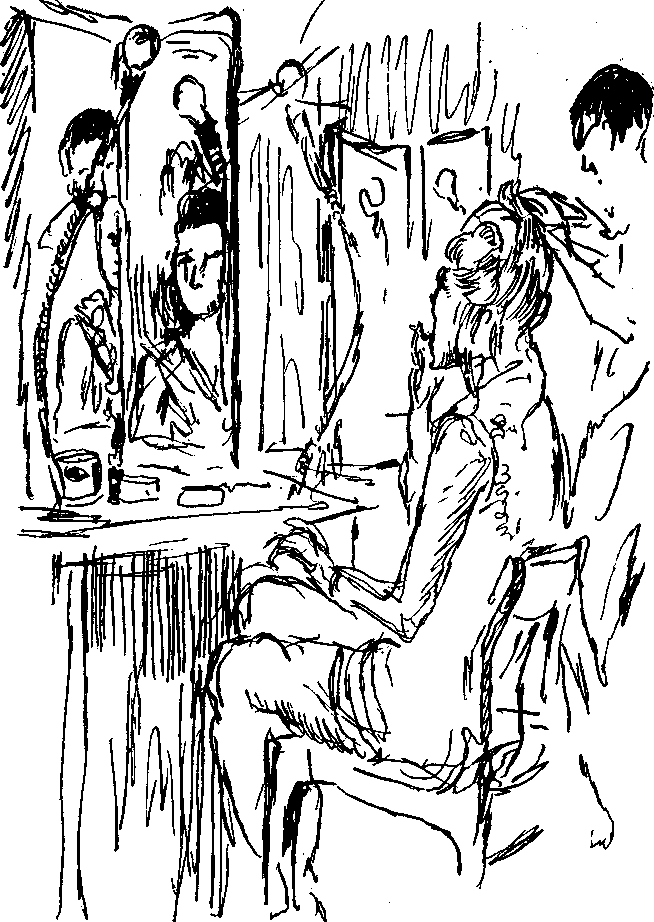
тать режиссер-педагог, а потом постановщик «придумает мизансцены».
В театральной практике действительно можно встретить и ту и другую разновидность художественного типа. Но нужно ли нам, воспитывая будущих режиссеров, ориентировать их на такое деление? Мне кажется, нет. Жизнь покажет, какое начало в будущем режиссере будет превалировать. А в процессе обучения нам надо стремиться к гармоничному слиянию этих различных режиссерских устремлений. Тем более, что эта гармония — вообще идеал в режиссуре.
Я — за режиссера, который владеет формой, для которого небезразлична пластическая выразительность, который относится требовательно к искусству мизансцен. Но я за режиссера, который превыше всего ставит актера, осуществляющего мизансцену. Плох режиссер, глухой к вопросам пластической выразительности. Но «разводящий» режиссер, влюбленный только в свои мизансцены, глухой к творческим переживаниям актеров,— явление столь же уродливое.
Как сделать так, чтобы студенты проявляли одинаковый интерес к той и другой стороне творческого процесса?
Психология, не выраженная в пластическом рисунке, мертва. Форма, даже удачно найденная, но не оживленная актерским чувством, тоже мертва.
Надо ли останавливать свое воображение в процессе видения будущей планировки, места действия, мизансцен? Нет! Ни под каким видом!
Чем ярче режиссер видит свой будущий спектакль, тем лучше.
Надо научить студентов верить: актер, со своим миром, своей индивидуальностью, тоже имеет право на творчество. Только в совместном творчестве залог роста и режиссера и актера.
Если режиссер считает, что актер — марионетка в его руках, марионетка, которой он объяснил, что у нее такие-то и такие-то ниточки, за которые он, режиссер, будет ее дергать,— актер, к сожалению, действительно быстро превращается в марионетку. Актер привыкает к тому, что его мозг и сердце не нужны режиссеру. Нужно только его беспрекословное послушание. И тогда режиссеру нечего ждать от актера обогащения роли.
Режиссер, любящий актера, умеющий прислушаться к движениям его души, может быть уверен в том, что актер будет расти и как художник, и как человек.
428
В этом смысле самым поразительным для меня явлением был Вл. И. Немирович-Данченко. Когда он встречался с актерами, казалось, что перед ним люди, в одаренность которых он безоговорочно верил. И актеры, порой очень средние, становились в работе с ним талантливее, глубже, интереснее.
Без «чувства актера» невозможно режиссерское искусство. А мудрость режиссера в том, чтобы не держаться упрямо за найденное, уметь отказаться от него, если актер приносит с собой что-то более яркое, более глубокое, чем то, что придумано режиссером. При настоящей творческой работе не может быть деления на «твое» и «мое». И режиссер, и актер должны забыть об этом.
Это мы придумали! Мы создали! Мы боремся за это! Так живут люди, создающие, по выражению А. Д. Попова, театральную семью, т. е. коллектив, ставящий и играющий спектакль. Но, умея обогащаться актерским творчеством, режиссер должен знать, что он, режиссер, отвечает и за анализ пьесы, и за планировку, и за мизансцены, т. е. за форму спектакля.
Начиная
