С. Б. Борисов Человек. Текст Культура Социогуманитарные исследования Издание второе, дополненное Шадринск 2007 ббк 71 + 83 + 82. 3(2) + 87 + 60. 5 + 88
| Вид материала | Документы |
СодержаниеЯзык сам постоит за себя |
- К. С. Гаджиев введение в политическую науку издание второе, переработанное и дополненное, 7545.88kb.
- К. Г. Борисов Международное таможенное право Издание второе, дополненное Рекомендовано, 7905.27kb.
- Культура, 1654.22kb.
- Головин Е. Сентиментальное бешенство рок-н-ролла. (Второе издание, исправленное и дополненное), 1970.65kb.
- Учебник издание пятое, переработанное и дополненное проспект москва 2001 Том 3 удк, 11433.24kb.
- Учебник издание пятое, переработанное и дополненное проспект москва 2001 Том 3 удк, 11230.01kb.
- Практические рекомендации 3-е издание, переработанное и дополненное Домодедово 2007, 710.08kb.
- Зумный мир или как жить без лишних переживаний издание второе, дополненное Издательство, 7377.47kb.
- Учебное пособие (Издание второе, дополненное и переработанное) Казань 2005 удк 616., 1987.56kb.
- Методические рекомендации Издание второе, дополненное и переработанное Тверь 2008 удк, 458.58kb.
Язык сам постоит за себя
Довольно забавно бывает подчас знакомиться со статьями уважаемых полемистов. Игорь Зотов (статья «Современный бобок») по каким-то ему одному ведомым причинам объявляет слово «бобок» «сверхгениальным» и полагает, что Федор Михайлович Достоевский, царство ему небесное, слово это придумал. А доктор филологических наук Александр Михайлов (статья «Язык теряет силу сопротивления») верит искреннему заблуждению Игоря Зотова и возражает лишь по поводу оценки, но не по поводу факта, то есть признает авторство Достоевского в «творении» слова «бобок».
Вообще-то людям, несколько обремененным учеными степенями, неплохо было бы знать, что за сто лет до того, как Федор Михайлович скроил безделку под названием «Бобок», а именно в 1780 году, в свет вышел «Российский с немецким и французским переводами словарь, соч. Иваном Норстедом», где слово «бобок» (в значении: стручок боба) имелось в полной сохранности. Николай Васильевич Гоголь в «Мертвых душах» тоже имел смелость употребить это слово («Подбавь ... морковки, да бобков»).
Может быть, господа полемисты ведут речь о том, что Федор Михайлович Достоевский употребил существовавшее веками слово в ином, окказиональном значении? Но это уже совсем другая проблема. Хвала тому «гению», кто впервые употребил старое русское слово «трахнуть» в коитальном значении, решив тем самым проблему публичной версии древнего неудобопроизносимого глагола, но кто назовет его «автором»?
Доктор филологических наук на полном серьезе принимает версию об «изобретении» Достоевским слова «бобок» и на основании этого принимает решение вволю потретировать Федора Михайловича, как мертвую собаку, – и «стилист он не выдающийся», и «длинноты невыносимы», и «по части языкового расширения пример не самый высокий»...
Довольно странно читать такой пассаж, написанный специалистом-филологом: «Многолетнее господство агитпропа (над кем? – С.Б.) пагубно влияло на нашу литературу». Как может влиять на художественную литературу идеологический лексикон? Это разные сферы общественного сознания. Художественная литература либо включает в свою ткань идеологизмы в превращенной форме, подчиняя их использование художественной задаче, либо это – не художественная литература, а нечто совершенно иное, рассмотрение коего никогда не было задачей филологии. Зачем же из пушки по воробьям-то?
Мне вообще неясно, почему словарь Солженицына, который я приобрел в Санкт-Петербурге, дай Бог памяти, года три назад, вдруг стал предметом оживленной полемики. Это, в конце концов, довольно обычное и, я бы сказал, частное дело литератора. У меня тоже имеется словарик, куда включены лексические единицы, отсутствующие абсолютно во всех словарях русского языка. Приведу несколько – «босоногость», «безмыслие», «белкопромышленник», «безотголосно», «высокоидеальный», «вольнословие», «невременье», «нумерический», «публицизм», «самоузаконение», «самоначалие». Кто скажет, что эти слова нерусские, или непонятные, или непригодные к употреблению? Однако повторяю, ни один словарь русского языка их не содержит, хотя они употреблялись в литературе XIX–XX вв. Когда (и если) я достигну возраста Александра Исаевича Солженицына – или раньше, – возможно, я предприму издание своего «словаря языкового расширения» – почему бы и нет? Если примеру Солженицына последуют и другие литераторы – ничего плохого не будет и в этом. Однако следует помнить, что многие слова будут встречены неодобрением, а автор их будет обвинен в «шишковизме», «западничестве» или «модернизме».
Русскому языку уже ничего не грозит. Он, как это замечательно подметил Иосиф Бродский, стал независимым от конкретной России явлением, он сам побуждает творить на нем. К примеру, что грозит древнегреческому языку? Ничего! На нем столько написано классического, что никакая судьба современной Греции не окажет на него ни малейшего влияния. Классический русский язык уже сотворен, он достаточно силен, чтобы самому отбирать, что войдет в его недра, а что лишь коснется его поверхности. Поэтому бить тревогу о катастрофическом состоянии русского языка вряд ли стоит.
Другое дело, что язык российской повседневности оставляет желать лучшего. Что же, различие разговорного и литературного языков является в известной степени аналогом различия идеального, должного и реального, сущего. А ругать сущее, укоряя его должным, – занятие хоть и удобное, но малополезное.
Что касается Александра Михайлова, то вольно ему было цитировать на страницах газеты Владимира Личутина, автора весьма «на любителя». Кому-то нравятся пассажи вроде цитированного: «роняющего на дно стакана осоловелые зенки», а кому-то они представляются весьма убогой стилизацией под «народный язык». Уж во всяком случае цитированный поток речевого лубка не может идти ни в какое сравнение с разруганным Александром Михайловым отрывком из Федора Михайловича Достоевского.
А язык Игоря Зотова, демонстрирующий неиссякаемые творческие потенции как русского языка, так и его медиатора («макабрический компот», «громкоименные дивизии» и др. – см. «Независимая газета» от 30.03.96. «Мистерия или истерия XX века»), внушает надежду на то, что вопреки заглавию статьи Александра Михайлова, «язык» НЕ «теряет силу сопротивления».
«Независимая газета». 1996, 20 июля.
Метафизика чести
Честь является одной из наименее проясненных категорий общественного бытия и сознания. Связано это, не в последнюю очередь, с невольным смешением двух уровней чести. Первый – метафизический, экзистенциальный, второй – зримый, социальный, очевидный. Именно ко второму уровню чести относится феномен «честолюбия», то есть тяги, влечения к почестям, знакам уважения, признания заслуг, высокого статуса. Именно об этом идет речь, когда кому-либо предоставляют «честь» открытия торжественного заседания.
Нас же более интересует природа первого уровня, уровня организации фундаментальных структур бытия. Думается, что честь является не автономным морально-правовым феноменом, а механизмом существования моральных ценностей или принципов. Сущность этого механизма – выдвижение определенной ценности (группы ценностей), определенных принципов на первый план и смещение ценности эмпирического существования на второй план. Честь, таким образом, является феноменом экзистенциальным, так как смертность, конечность бытия входит в самую его сущность.
Следует особо подчеркнуть, что слово «честь» не несет само по себе никакой позитивной содержательной нагрузки. Более того, принципы (заповеди), выдвигаемые кодексом чести на первый план по сравнению с жизнью (существованием), преимущественно (а возможно, и всегда) заключаются в негации, в отрицании, в недопущении, в запрете. Рассмотрим лишь некоторые примеры.
Дворянская честь. Запрет на торговую и предпринимательскую деятельность, на равноправное общение с представителями низших сословий.
Кодекс воровской чести. Запрет работать, иметь собственность, иметь семью, вступать в сотрудничество с работниками правоохранительных органов.
Девичья честь. Запрет на половую жизнь до брака.
Честь чиновника. Запрет на отступление от устава службы.
Честь интеллигента. Запрет на творчество по заказу власть имущих.
Существуют ритуализованные способы поддержания и восстановления чести. У дворян (офицеров) – это дуэль. У людей, находящихся на службе, – отставка.
Самим ходом истории были порождены особые группы, в кодексе поведения которых был принцип «погибнуть, но не...». Наиболее распространенным примером такого рода образования является гвардия. Метафизической сущностью гвардии и является готовность погибнуть, но не сдаться и не отступить (мы снова видим, что честь существует не через утверждение каких-то норм, а посредством отказа от совершения самоочевидных в данных обстоятельствах поступков).
То, что метафизическим измерением гвардии является не боевое мастерство, а готовность погибнуть, но не отступить и не сдаться, то есть честь подтверждается тем, что три из пяти российских гвардейских воздушно-десантных дивизий в девизах имеют слово «честь»: «Честь и Родина превыше всего» (98-я), «Себе честь – Родине слава» (104-я), «Мужество, отвага, честь» (7-я) [1].
Наличие или отсутствие кодекса чести просматривается не только у отдельных личностей или сословий. Является ли независимость государства делом чести, или же на первый план выходит принцип «выжить во что бы то ни стало», – вопрос, встававший перед государствами не раз. Так, аншлюс Австрии под давлением Германии произошел без единого выстрела. Можно ли говорить, что для Австрии честь государства была превыше всего? Автору могут возразить, что сумма неблагоприятных условий была выше суммы доводов в пользу вооруженного отпора, что автор не имеет права оценивать политическое поведение государств. В таком случае мы должны будем напомнить, что оценка и отнесение к ценности – вещи существенно различные. Говоря о наличии или отсутствии принципов чести в тех или иных исторических ситуациях, мы лишь констатируем, а не оцениваем. Рассмотрим пример, демонстрирующий, что в «пограничных ситуациях» одни политические субъекты выбирают существование, а другие – честь.
В 1939 году был заключен пакт о ненападении между Советским Союзом и гитлеровской Германией. Страны Прибалтики и Финляндия попали в зону влияния Советского Союза, который начал, используя численное и военное превосходство, осуществлять давление на правительства независимых государств. Страны Прибалтики «логично» рассудили, что связываться с гигантом себе дороже, и пошли по пути уступок – договор о базах, затем смена правительства на более лояльное, затем добровольное вступление в Советский Союз. Три государства численностью несколько миллионов человек утратили независимость, не сделав ни единого выстрела. Та же последовательность действий была употреблена по отношению к Финляндии. Как и страны Прибалтики, Финляндия до 1920-х годов была частью Российской Империи; как и страны Прибалтики, Финляндия была слабо русифицирована; как и страны Прибалтики, Финляндия не имела реальных шансов на длительное военное противостояние Советскому Союзу. Однако Финляндия отказалась от уступок СССР, следствием чего стала т.н. «зимняя война», в которой финны потеряли часть территории, но отстояли честь и независимость. Странам же Прибалтики осталось убеждать весь мир (и себя) в будто бы состоявшейся оккупации. [2]
Честь как фактор политики есть прерогатива, как мы уже показали, далеко не всех государств. В этом отношении Россия (и в имперской и в советской ипостасях) традиционно относилась к «странам чести». Принципы верности (союзническим обязательствам, братским народам) были для России, как правило, выше соображений блага, безопасности, сохранения жизней, выгоды. Не в пример России большинство европейских стран легко переступали через принципы, когда речь шла о выгоде – разрывали договоры, отказывались от принятых обязательств. [3]
Предназначение России – быть державой Чести, и не дай бог, чтобы в горниле самых крутых перемен Россия, в угоду модной идеологии, стала страной прагматизма и бесчестия.
Источники
1. Плотников Н. Никто, кроме нас. // Независимая газета – Независимое военное обозрение. 1996, 14 марта, № 5 (9).
2. Вслехов Л. «Советской оккупации Эстонии ни в 1939-м, ни в 1940-м году не было». // Сегодня. 1996, 1 марта.
3. «…Скрупулезная верность России своим союзническим (или вообще международным) обязательствам превалирует над здравым смыслом» – Копылов И., Модестов С. Идеализм в военной политике. // Независимая газета – Независимое военное обозрение. 1996, 10 февраля. № 4 (8).
«Sign-n-Sein». 1996.
Честь как архетип
русской классической литературы
С точки зрения концепции архетипа честь есть то далее не разложимое свойство жизненного мира человека, которое предполагает его «выпадение» из мира целерациональности, благосообразности, своекорыстия. Честь есть архетип-экзистенциал, есть то, что отличает подлинное бытие от неподлинного. Честь есть имя тому, что М. Хайдеггер называл «бытием-перед-лицом-смерти», и честь есть имя тому, что Ницше называл «сверхчеловеком».
Честь есть свойство трансцендента. Если интеллигент – это человек, постоянно практикующий «интеллигенцию» – мыслительно-рефлективную способность, то трансцендент, соответственно, – это человек, всеминутно практикующий транценденцию – способность прорываться из мира земных правил в мир высших неверифицируемых умопостигаемых законов.
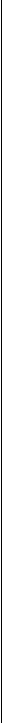 Смерть Бога, диагностированная новейшей философией, породила ситуацию, когда место Бога заняли иные ценностные абсолюты. Честь есть один из таких ценностных абсолютов. В то время, когда Бог жил, честь принуждена была соотноситься с ним – следовать из него, подчиняться ему, подчас противоречить. Сейчас же честь может вздохнуть спокойно: она не имеет конкурентов.
Смерть Бога, диагностированная новейшей философией, породила ситуацию, когда место Бога заняли иные ценностные абсолюты. Честь есть один из таких ценностных абсолютов. В то время, когда Бог жил, честь принуждена была соотноситься с ним – следовать из него, подчиняться ему, подчас противоречить. Сейчас же честь может вздохнуть спокойно: она не имеет конкурентов.Честь как ценность абсолютного ранга есть феномен неизбежно сакральный. Религия чести – вещь вполне реальная. Честь, как и Бог, есть феномен трансцендентный; служение чести, как и служение Богу, в пределе требует отказа от признания «земных» потребностей первичными, а в конечном итоге признает предмет культа более значимым, чем жизнь. Как Богочеловек «смертию смерть попрал», так и честь попирает смерть как источник вседневного страха-ограничителя.
I.
В России складывание архетипа чести тесно и неразрывно связано с формированием дворянства по европейскому образцу.
«Дворянин был свободен по закону от телесных наказаний; по жизненному, неписаному уставу он был свободен и от личных оскорблений. Его могли сослать в Сибирь, но не могли ударить или обругать. Дворянин развивает в себе чувство личной чести, совершенно отличное от московского понятия родовой чести и восходящее к средневековому рыцарству» (Г.П. Федотов).
А.С. Пушкин, признавая личное достоинство достоинством более высоким, чем родовая честь, всё же настаивал на ценности старинных дворянских родов, гордился шестисотлетней историей рода Пушкиных. Именно в наследственном дворянстве видел А. С. Пушкин «твердыню, ограждающую начала духовной независимости в государственно-общественной жизни». В письмах, прозаических набросках Пушкин не устает повторять, что духовная ценность русской литературы основана на том, что русские писатели суть дворяне – носители независимости и чести. Вот его размышления о дворянстве: «Чему учится дворянство? Независимости, храбрости, благородству, чести вообще... Нужны ли они (эти качества) в народе, так же, например, как трудолюбие? Нужны и дворянство (руководитель) трудолюбивого класса, которому некогда развивать эти качества. Наследственность дворянства есть гарантия его независимости. Противоположное есть необходимое средство тирании, или, точнее, бесчестного и развращающего деспотизма».
Пушкин выступает ярым противником петровской «табели о рангах», в силу которой лица из низших слоев в порядке службы проникали в дворянство. «Вот уже 150 лет, – пишет А. С. Пушкин, – как табель о рангах выметает дворянство, и нынешний Государь первый установил плотину, ещё очень слабую, против наводнения демократии, худшей, чем в Америке».
Итак, не только в литературном творчестве Пушкина («Капитанская дочка», «Выстрел», «Евгений Онегин» и др.) проблемы чести занимают не последнее место, честь кроме этого являлась и постоянным предметом размышлений Пушкина, в связи с судьбами государства Российского. Пушкин видел в феномене чести важнейший фактор обеспечения духовной независимости творческой личности.
Ф.М. Достоевский, как ни странно покажется многим, многие страницы посвятил размышлениям о поддержании феномена чести в современном обществе. «Чем обеспечена честь и чем заменить дуэль? – размышляет он. – Лучше всего не иметь чести – как преподавало начальство в 30-х и 40-х годах. Но если привозили шпагу, то привозили и Европу. А дуэль вовсе не глупость: те, которые отрицают её, излагают только мысль, но незаверишвшуюся, а дуэль есть факт с начала века. Генералы же, говорившие, что шпага дана вам для защиты отечества, не знали или забывали о том, что те, которые обнажали её для защиты своей чести, те-то и сумели отстоять честь перед врагом, а люди спокойные и Пироговы оказались только интендантами и скептиками».
Достоевский имеет в виду тип поручика Пирогова из повести Н.В. Гоголя «Невский проспект», до такой степени равнодушного к своей чести, что за мелкими житейскими заботами быстро забывает и оставляет без последствий нанесенное ему оскорбление.
В наброске к статье о декабристах Ф. М. Достоевский писал:
«14-е декабря было диким делом, западническою проделкою, зачем мы не лорды? Русский царь играл тоже в эту игру (с Екатерины начиная). Но Екатерина была гениальна, а Александр – нет. Освободили ли бы декабристы народ? Без сомнения, нет. Они исчезли бы, не продержавшись и двух-трех дней. Михаилу, Константину стоило показаться в Москве, где угодно, и всё бы повалило за ними. Удивительно, как это не постигали декабристы. Необразованность, потребность впутаться, мерзавца, как Пестель, считать за человека, – то же и теперь: члены Земледельческого клуба.
Меж тем с исчезновением декабристов исчез как бы чистый элемент из дворянства. Остался цинизм: нет, дескать, честно-то, видно, не проживешь. Явилась условная честь (Ростовцев) – явились поэты».
Достоевский размышлял также и о так называемом «Ордене чести» (legion d'honneur), который мог бы «в двух видах совершиться: или от правительства, или от себя». В «Подростке» этот проект высказывается в виде идеи превращения дворянства в «собрание лучших людей», доступ в которое открывал бы «всякий подвиг чести, науки, доблести».
Если А.С. Пушкин в «Табели о рангах» Петра Первого видит поток, выметающий дворянство, то Ф.М. Достоевский считает иначе:
«Петр создал лучших людей из дворянства и из доблести людей, подходивших снизу… У Петра одно создание – дворянство (все остальное лопнуло). Теперь и дворянство порешили, что же осталось – ничего».
II.
«...Едва ли многие вспомнят о том сословии, которому Россия обязана своей величайшей литературной славой, далеко перешагнувшей за границы нашей родины и возвышающей нас в эти памятные дни в глазах всего цивилизованного мира. Вот именно этому дворянскому сословию, давшему России почти всё то, чем она имеет право гордиться..., я хочу воздать должную честь» [1]. Эти слова принадлежат внуку А.С. Пушкина, Николаю Пушкину, и произнесены они были в Париже 28 февраля 1937 года.
В этом выступлении, названном «Честь рода», воедино были связаны три столпа русской культуры – дворянство, честь, литература. Как ни странно, на проблему чести в русской культуре практически не обращали внимания. В данном сообщении мы попытаемся показать, что честь была не только сословным достоинством дворян-писателей, но являлась едва ли не ведущим предметом изображения в русской литературе.
«Пока сердца для чести живы» – в девятнадцатилетнем возрасте написал А.С. Пушкин, и с тех пор в его поэтическом творчестве эта тема была неизменно представлена. «Мы... нашей кровью искупили Европы вольность, честь и мир» (1831), «Шумят знамена нашей чести» (1821) «... назначила кровавый чести путь» (1821).
Роман в стихах «Евгений Онегин» постоянно воспроизводит тему чести в разных ее ипостасях. То лирический автор-повествователь, «родной земли спасая честь», переводит письмо Татьяны, то Ленский верит, «что друзья готовы за честь его принять оковы», то Татьяна обращается к Онегину: «Но мне порукой ваша честь»; «Я знаю, в вашем сердце есть / И гордость, и прямая честь». И, наконец, «пружина чести, наш кумир» – центральным событием романа является конфликт чести – дуэль Ленского и Онегина.
Эпиграфом к «Капитанской дочке» стали слова народной пословицы «Береги честь смолоду», и действительно, проблема выбора между жизнью и честью является главной проблемой повести [2]. Стоит ли упоминать о повестях «Выстрел», «Дубровский», где дворянская (офицерская) честь является главной пружиной развития сюжета. Тема «феномен чести в творчестве Пушкина» требует отдельного рассмотрения.
Лермонтов. «Маскарад». Вся драма построена на конфликте дворянской чести – «о чести, о счастии моем тут речь идет»; «Вы мне вещей наговорили / Таких, сударь, которых честь / Не позволяет перенесть», «Вам надо честь мою на поруганье», «спас честь его и будущность», – перечислять можно долго, ограничимся лишь одной развернутой цитатой:
«К н я з ь: О, где ты, честь моя!., отдайте это слово, / Отдайте мне его – и я у ваших ног...; (упадая и закрывая лицо) Честь, честь моя!.. А р б е н и н: Да, честь не возвратится». И, наконец, последние слова драмы: «К н я з ь: Он без ума... счастлив... а я навек лишён / Спокойствия и чести!»
Не станем утомлять читателя доказательством того, что в повести «Герой нашего времени» конфликт чести является важнейшей пружиной повествования [3].
Гоголь. «Тарас Бульба». В центре повести проблема казачьей чести. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» – опять же речь идет о чести, на этот раз дворянской. Повесть «Невский проспект» рассказывает о поручике Пирогове, поступившемся офицерской честью.
Достоевский. В повести «Бедные люди» описан чиновник Горшков, обвиненный в корыстном преступлении. После оправдания он повторяет лишь: «Честь моя, честь, доброе имя, дети мои», и от потрясения умирает. В повести «Кроткая» Достоевский главным героем делает офицера, отказавшегося драться на дуэли «за честь полка» и за это изгнанного из армии. Именно этот мотив «изгнанного за бесчестье» играет важную роль в развитии сюжета. Тема чести развивается в романах «Подросток»; «Преступление и наказание»...
Тургенев. «Отцы и дети» – хрестоматийный пример конфликта чести, переросшего в дуэль.
Островский А. «Гроза» и «Бесприданница». Девичья (женская) и купеческая честь.
Чехов. Повесть «Дуэль». Конфликт дворянской чести.
Куприн. Повесть «Поединок». Конфликт офицерской чести.
Толстой Л. Роман «Война и мир». Дворянская честь.
Мы могли бы умножить число примеров и более подробно остановиться на каждом из них. Но и сказанного достаточно для утверждения что, «конфликт чести» является распространеннейшим мотивом русской классической литературы начала XIX – начала XX века. Рискнём утверждать, что мотив этот не только распространенейший, но и ведущий, главенствующий. Люди чести – дворяне – создали «литературу чести» [4], литературу экзистенциального выбора, и тем самым, возможно, вывели её на уровень мировой литературы. Исследование развития мотива оскорбленной чести в русской литературе, как представляется, могло бы стать интереснейшей литературоведческой темой.
* * *
Подведем итоги. Проблема чести является центральной проблемой бытия личности и государства. Так случилось, что долгие десятилетия проблема чести как предмет размышлений русских литераторов и мыслителей не артикулировалась. Мы лишь наметили основные подходы к рассмотрению этого вопроса в истории русской мысли и русской литературы.
Вероятно, экзистенциализм французского извода, взошедший в значительной мере на произведениях Достоевского, подспудным элементом своим имеет также проблему чести. Честь вполне соответствует философии абсурда (честь вообще абсурдна с точки зрения здравого смысла, дуэль же, то есть повергание себя в ситуацию смерти – абсурд в квадрате), честь и есть как раз та абсолютная ценность, которая остается в мире, где умер Бог.
