А. В. Ремнев Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского
| Вид материала | Документы |
СодержаниеБольшакова О.В. |
- А. В. Ремнев Омский государственный университет, 489.1kb.
- На Чуаньлинь Трансформация политических партий в условиях переходного общества постсоветской, 467.79kb.
- Личностные типы и детерминанты карьерных ориентаций будущих и действующих предпринимателей, 417.65kb.
- Петербургская школа медиевистов начала ХХ века. Историко-антропологическое исследование, 602.72kb.
- Социальное обеспечение военнослужащих: проблемы правового регулирования, 813.46kb.
- Образ «норманна» в западноевропейском обществе IX xii вв. Становление и развитие историографической, 640.18kb.
- Балакин Юрий Васильевич, заведующий кафедрой теологии гоувпо «Омский государственный, 1914.12kb.
- Немецкое население Западной Сибири в конце XIX начале XXI века: формирование и развитие, 813.44kb.
- Концепция комического во французской авангардной драме: генезис и этапы развития, 617.89kb.
- Концепция комического во французской авангардной драме: генезис и этапы развития, 576.83kb.
Вестн. Омского ун-та. 2007. № 4. С. 6–16.
А.В. Ремнев
О
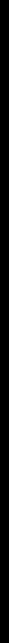 мский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
мский государственный университет им. Ф.М. Достоевского ИМПЕРСКАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ:
АЗИАТСКИЙ ВЕКТОР.
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРЕПОДАВАНИЯ

Находясь внутри процесса становления и развития нового исследовательского направления «имперской истории», автор предлагает свое видение проблем изучения и преподавания истории Российской империи. Статья адресована главным образом тем, кто стремится найти новые исследовательские темы и методологические подходы в изучении имперской истории Азиатской России, преодолеть известные трудности между теоретическими концепциями и эмпирическим знанием.
Новые государства, в том числе и Россия, образовавшиеся на постсоветском пространстве, сразу же столкнулись с проблемами изучения и преподавания своей истории, которая стала одним из главных способов государственной легитимации и национальной мобилизации. Вместе с тем, профессиональные историки, в отличие от журналистов и политологов, медленнее адаптировались к изменившейся ситуации. О методологической растерянности историков до сих пор напоминают обломки советского идеологизированного языка, соседствующие с робкими попытками ввести новый понятийный инструментарий описания и объяснения исторических событий. Однако главные проблемы были вызваны не столько преодолением гегемонии марксистско-ленинской методологии или стиранием «белых пятен», сколько своего рода эмоциональным «переживанием прошлого», высокой степенью политической вовлеченности и селекции исторического знания в процессе формирования новой национальной государственности и национальной идентичности.
Обретение суверенитета государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве, придало особое чувство легитимности национальной историографии, выведя ее из-под диктата Москвы, что породило, впрочем, угрозу провинциализма и скатывания к научной автаркии (в том числе за счет укрепления независимых институций подготовки научно-педагогических кадров, разрыва прежних информационных связей и перехода к изданию научной продукции на национальных языках). Советский изоляционизм в общественных науках сохранился и даже обнаружил тенденцию к расширенному воспроизводству в некоторых новых государствах. Вместе с тем, прорыв «умственных плотин» привел к повышенному интересу к западной историографии, что, наряду с верой в «открытость» прежде запрещенных к использованию архивных документов, породило иллюзию «откровения» новых теорий и интерпретаций истории. Волна учебников по истории, особенно для школьников, поражает не только своими размерами, но главным образом
методологическим дилетантизмом или новоявленной политической ангажированностью, если не принимать во внимание элементарную безграмотность многих авторов.
Показательно, что во главе процесса оказались бывшие преподаватели истории коммунистической партии и научного коммунизма, поднаторевшие в идеологической обработке исторического материала. Коммунистическая идеология и советские штампы стали самым причудливым образом наполняться националистической риторикой. Борьба за «историческое прошлое», которая никогда не была уделом чистых академических интересов, достигла особенного накала, вовлекая в нее самые различные силы. Первые итоги анализа таких противоречивых по направленности процессов были подведены в сборниках «Национальные истории в советском и постсоветском государствах» (М., 1999), «Историки читают учебники истории. Традиционные и новые концепции учебной литературы» (М., 2002) и «Европейский опыт и преподавание истории в постсоветской России» (М., 1999). Стоит отметить, что первые два сборника были профинансированы немецким фондом Фридриха Науманна, а последний – итальянским фондом Фельтринели. Фонд Сороса (Институт «Открытое общество») тогда же развернул в постсоветских государствах целую программу написания и издания учебников по гуманитарным дисциплинам.
Следует признать, что преподавание истории стало частью большой политики, формирования новой идеологии и национального патриотизма. Французский историк и политолог Владимир Берелович так сформулировал главный вопрос, с которым столкнулись новые национальные историографии: «Многоликая истина или очередная национальная идея?» До известной степени национализм сменил коммунистическую идеологию, а национальные истории (прежде всего в их учебном и популярном вариантах) оказались наполненными новыми мифами, направленными на удревление национальной государственности и директивное определение памятных дат, вызовом «новых» национальных героев, имена и образы которых закреплялись в общественном сознании через учебники, научно-популярную литературу, музеи, СМИ, переименование улиц и возведение памятников, а также путем формирования «образа врага», от которого, как известно, и произошли все национальные беды. Это были в известной степени «поминальная история» (Франсуа Фюре), своеобразное «изобретение традиций» (Эрик Хобсбаум). Историческую память стали не столько возрождать, сколько актуализировать и конструировать.
В этих условиях история, а вернее, учителя и учебники по истории, привлекли особое внимание политиков: историей как учебной дисциплиной стали интересоваться губернаторы, министры и даже главы государств. И как еще четверть века назад писал Марк Ферро в своей знаменитой книге «Как рассказывают историю детям в разных странах мира» (в русском переводе – М., 1992); «…образ других народов или собственный образ, который живет в нашей душе, зависит оттого, как в детстве нас учили истории».
Разумеется, граждане любого государства нуждаются в патриотическом воспитании, в том числе и через свою историю, но еще в большей степени они нуждаются в познании проблем своего прошлого, отзвуки которого все еще слышны. Историки, увлекшись поначалу историческими «открытиями», однако начали скоро понимать, что попали в очередную идеологическую ловушку, которая грозит им, как было отмечено на недавней Международной конференции «Историческая наука постсоветской Центральной Азии: обретения и проблемы» (Алматы, 29–30 сентября 2005 г.), идеократией маргинального национализма. На этой же конференции историк из Казани Д. Исхаков, рассуждая о принципах национальной истории, вынужден был даже доказывать, что она может быть профессиональной.
Со временем эйфория первых лет обретения национальной независимости, сопровождавшаяся разоблачением и отрицанием имперского и советского прошлого, «судом над мертвыми», о чреватости которого еще в 40-х гг. прошлого столетия предупреждал Марк Блок, постепенно стала сменяться более спокойным и взвешенным отношением к общему историческому наследию. Этот процесс только начался, и в разных постсоветских государствах он идет с разной динамикой и возможными рецидивами, грозящими усугубить межнациональную и даже межгосударственную напряженность. Все еще неясно, как долго нам предстоит жить в постсоветском периоде, а историография будет обречена переживать прежние обиды или предаваться ностальгии по советскому или имперскому «идеальному прошлому», которое мы потеряли?
Советские штампы, мимикрировав в изменившейся среде, продолжают служить уже новым заказчикам и историческим интерпретаторам. На смену «Истории СССР» (периода капитализма или феодализма), не замечая комичной двусмысленности, пришли истории новых постсоветских национальных государств с древнейших времен и до наших дней. Государственный и национальный нарративы все еще остаются доминирующими, скрывая целый ряд «подводных рифов», на которые может натолкнуться корабль исторической науки. Во-первых, это искусственно заданная телеологичность истории, не оставляющая места альтернативности, когда современные государственные границы опрокидываются в далекое прошлое. Во-вторых, некоторая неясность в определении самого предмета национальной истории. Что мы изучаем и преподаем: историю государственной территории или историю народа (народов)? В-третьих, живучесть советских концепций «этноса» и «нации», столкновение примордиалистских и конструктивистских концепций. В-четвертых, неизбежный акцент на историю государственнообразующей нации и маргинализация истории других народов, проживающих на территории той или иной страны. Действия «нетитульных» (по определению советского «новояза») народов, их интеллектуальных и политических элит, направленные на утверждение своей самостоятельности (культурной, экономической, территориальной, государственной), зачастую квалифицируются как покушение на захват «родной земли», подрыв государственной целостности и сепаратизм. В-пятых, доминирование колониального и постколониального нарратива в истории народов в составе Российской империи, а затем и Советского Союза. Вследствие этого всякие протестные действия определяются исключительно в категориях национально-освободительного или антиколониального движения. В таком дискурсе исследователи и педагоги неизбежно актуализируют в исторической памяти прошлые межнациональные и межгосударственные конфликты, что может способствовать закреплению негативных стереотипов «другого» как «чужого» и даже враждебного, а национальные «неудачи» объясняются «происками» врага, в качестве которого и презентируется главным образом империя.
Унаследованные от советской эпохи административные границы, которые в одночасье превратились в государственные и национальные, отстаивание изобретенного советскими политиками и учеными концепта «титульная нация» и «автохтонное население» с их эксклюзивными правами на «родную» землю, остаются константами новой национальной историографии, призванными исторически обосновать современные претензии на политическую власть и экономические преференции. Расширение ареала использования национального языка как государственного и выбор алфавита стали важными инструментами не только нациостроительства, но и политических спекуляций. Вместе с тем, утилизированное новыми национальными элитами советское наследие чревато в будущем, пока латентными и сдерживаемыми, межэтническими и экономическими катаклизмами, вплоть до социокультурных и территориальных претензий. Национальный дискурс к тому же стал смежным не менее влиятельному в последние годы религиозному дискурсу, сопровождающему современные политические, социокультурные и даже военные вызовы, не только в глобальном масштабе, но и на региональном и локальном уровнях.
В некоторой степени, многие недостатки национального нарратива мог бы преодолеть региональный подход [1], который дает определенную надежду предотвратить растаскивание общей («коммунальной», как ее образно определил Юрий Слезкин [2]) истории по национальным квартирам и вместе с тем преодолеть европоцентризм и империоцентризм прежней истории. Морис Эмар по этому поводу заметил, что «рамки национального государства не являются общепринятым форматом для исторического исследования».
Историческое исследование развивается, в противовес (или в дополнение) государственному масштабу, как минимум на трех уровнях: 1) локальном и региональном; 2) межнациональном и межгосударственном, когда исторически единый регион пересечен несколькими государственными границами; 3) наднациональном, надгосударственном [3]. На продуктивность такого подхода несколько лет назад указал Андреас Каппелер: «В будущем, как мне кажется, региональный подход к истории империи станет особенно инновационным. Преодолевая этноцентризм национально-государственных традиций, он позволяет изучать характер полиэтнической империи в различных пространственных форматах. В отличие от национальной истории, этнические и национальные факторы здесь не абсолютизируются, и наряду с этническими конфликтами рассматривается более или менее мирное сосуществование различных религиозных и этнических групп» [4]. В свою очередь, Кимитака Мацузато уже определяет Российскую империю как конгломерат «макрорегионов», отмечая их включенность в геополитические и экономические “Meso-Areas”, которые могут быть мультинациональными, транснациональными или субнациональными [5]. Стремление к регионализму (сверх обычного деления на губернии или области) объясняется также известным несоответствием традиционного административно-территориального деления потребностям экономики и управления. В Азиатской России большие региональные общности были оформлены в генерал-гу-бернаторства, с четко выраженной военно-административной доминантой.
Региональная история, действительно, позволяет описывать историческое пространство как целостную систему, вобравшую в себя общее и особенное, совмещать генерализирующие методы с возможностями локальной истории и микроистории. В таком случае история региона несводима к совокупности отдельных историй народов, проживающих на данной территории, это еще и поле столкновения разного рода имперских, национальных, социальных, экономических, религиозных и культурных идей и практик, ареал деятельности «строителей» и «разрушителей» империи. Региональная история открыта компаративистским методам как вне, так и внутри империи, позволяет выявить политико-административную и правовую асимметричность народов и территорий, проводить наблюдения за управленческим, юридическим и идеологическим транзитом как на межрегиональном, так и межимперском уровнях. Окраинные российские регионы были включены в глобальный контекст мирового развития на уровне надгосударственных макрорегионов (Центральная Европа, Центральная Азия, Азиатско-Тихоокеанский регион, Славянская Евразия и т. п.)1. Таким образом, разделение внутренней и внешней политики становится не столь жестким, «пористые» (как своего рода мембрана) границы формируют почти по всему периметру империи этнически смешанные «зоны фронтиров» [6] или создают своеобразные пространства «пограничья» [7].
Однако и этот подход имеет свои недостатки, так как «регион», понимаемый как историко-географическое пространство, имеет свою динамику и не менее «воображаем», нежели нация [8]. Как заметил Пьер Бурдье, сегодня никто не будет настаивать на существовании критериев, способных «подтвердить “естественные” классификации, основанные на “естественных” регионах, разделенных “естественными” границами» [9]. Регионы, как и нации, подвержены конструированию и политическому прагматизму. Уже раздаются голоса, что сверх национальной идентичности должна сохраняться/формироваться региональная идентичность (евразийская, центрально-азиатская, сибирская и проч.), а сам регион наделяться примордиалистскими качествами. Для описания направленности региональной динамики в известной мере может оказаться продуктивным определение фаз национального движения, предложенных Мирославом Хрохом [10]. От стихийно формируемого регионального самосознания и местного патриотизма, через политическую актуализацию и теоретическое конструирование местными интеллектуалами и активистами (политиками, общественными деятелями, учеными) региональной идентичности, к выдвижению идей административно-хозяйственной автономии, управленческой самостоятельности и даже государственного сепаратизма.
Разделение и классификация пространства власти («географии власти» – в моем определении [11]) могут быть целенаправленно объективированы в институциональных формах (государственные и административные границы, административно-территориальные единицы и группы), а также восприниматься как политические стратегии регионалистов, которые пытаются поставить на службу своим целям материальные и символические интересы местного населения в политическом и экономическом «торге» между центром и периферией. Значительная часть имперских проблем разворачивалась именно вокруг этих отношений. Однако в России было, как известно, две столицы, и, по образному определению Л.Е. Горизонтова, синонимом центра имперской власти являлся Петербург, тогда как «центр-регион» был москвоцентричен. Огромное пространство Российской империи, слабость коммуникаций и фрагментарное хозяйственное и демографическое освоение и присвоение новых территорий на востоке требовали образования на линии «центр – периферия» новых центров, транслировавших функции главного имперского центра на удаленные регионы, имевшие потенциально важное политическое значение. В регионах же, повторяя общероссийскую политическую и социально-экономическую конфигурацию, появляются и свой центр, и свои периферии. Местные власти во главе с генерал-губернаторами и губернаторами не были простыми трансляторами столичных директив, но могли играть активную, относительно самостоятельную роль в имперской политике.
Изменения на административно-тер-риториальной карте прошлой и современной России (нередко произвольные и подчиненные в известной мере политической конъюнктуре), создание генерал-губернаторств, краев и областей, Федеральных округов и укрупнение «субъектов» федерации могут поставить региональную историю в нелепую ситуацию. Что, скажем, историкам делать с прошлым пониманием пространства Забайкалья или созданным краеведами весьма забавным топонимом «Красноярье», которое, по их мнению, существует уже пять веков?2. Таким образом, единое историческое пространство буквально иссечено динамичными ментальными, административными и государственными границами, на которое, как и в национальном варианте, с присущей агрессивностью захватывает, рассчитанная на популярность и сенсационность «фолк-хистори»3.
Казалось бы, расширить историографические рамки и преодолеть ограниченность прежних подходов могла бы имперская история, в пределах которой и прошла значительная часть истории большинства народов. Вслед за Алексеем Миллером [12], я понимаю, что империи неизбежно контактировали (в том числе и воевали) между собой, границы между ними могли разделять один народ или культурно близкие народы, количество акторов возрастало за счет трудно разделимых внутренне и внешне политических реалий, что создавало ситуации, для которых определение пространства становится заметно условным и негеографичным. Фокус исследования, таким образом, должен захватывать не один и даже не несколько акторов, а включить всю их совокупность, стремиться определить их взаимодействие и понять мотивацию поведения. Ситуационный подход позволит историку легче освободиться, по мнению А. Миллера, от сознательной или бессознательной самоидентификации со «своим» актором, с его «правдой», появится возможность увидеть разные «правды» других акторов.
Конечно, имперское измерение также не является универсальным для исторических исследований как во времени, так и пространстве (несмотря на то, что империя стремилась к всеобщности), но оно весьма продуктивно, благодаря возможностям увеличить масштаб исследования, способностью применить методологические инновации, использовать компаративистские наблюдения и даже легче преодолеть авторское позиционирование.
«Изучение империй снова в моде», – отметил в середине 1990-х гг. Марк фон Хаген, а историки уже предлагают свои наименования этому историографическому феномену: «новая имперская история» или даже «империология» (imperiology) [13]. Повышенный интерес к истории империй был не только обусловлен процессами глобализации и регионализации, крахом СССР и концом холодной войны, но и стал своего рода ответной реакцией на агрессивность национальных историй, утвердившихся на постсоветском пространстве. Имперская история была востребована как своего рода инвариант цивилизационного подхода, который, впрочем, стал устойчиво ассоциироваться прежде всего со «столкновением цивилизаций» (С. Хандингтон) или внешне политкорректной концепцией «мультикультурализма». Однако оба этих теоретических конструкта переживают в последние годы заметный кризис. Как бы в ответ на это, понятие «империя» все чаще употребляется в политической лексике для описания современного мира. Понятие «империя» стремится выглядеть все более респектабельным, хотя и не лишенным потенциальной опасности установления «мирового господства». Например, как это сделали Майкл Хардт и Антонио Негри в своей нашумевшей книге «Империя» (М., 2004) или российский политик С.Н. Бабурин в своем новом и мало замеченном объемном труде «Мир империй: Территория государства и мировой порядок» (СПб., 2005). Политологи усиленно ищут разные варианты универсального определения империи, стремясь с его помощью не только описать современные политические процессы, но и снизить отрицательную идеологическую нагрузку на сам термин [14]. В то же время в новых национальных историографиях также обострился интерес к истории империи, когда фактически произошел возврат к старой формуле «Россия – тюрьма народов», а разоблачать колониальную политику царизма стало не менее модным. Несмотря на свою архаичность, стремление осудить (вместо того чтобы понять – что, конечно, не означает – оправдать!) «имперскую экспансию», «царских сатрапов», а вместе с ними «пособников» и национальных «предателей» сохраняет удивительную живучесть.
Еще одна трудность, которую хорошо сознают историки Российской империи, скрывается в преодолении барьера между теоретическими конструкциями и эмпирическими исследованиями [15]. Однако именно в рамках имперской истории активнее всего идет процесс преодоления методологического, историографического и эмпирического разрывов, а сама тема империи, как заметил автор книги «Империя и модернизация: Общая модель и российская специфика» (М., 2001) Святослав Каспэ, нечувствительно катализирует взаимодействие ее исследователей, позволяет им войти в глобальную профессиональную сеть. Институциональной сферой таких исследовательских контактов стали международные проекты, конференции, школы, семинары, антологии новейших западных исследований, переведенные на русский язык, сборники, первые коллективные и персональные монографии. Большую роль в этом сыграли журналы «Kritika” и “Ab Imperio”. Имперская история расширила исследовательское поле, позволила преодолеть кризис старой политической истории за счет методологических новаций и новых научных дисциплин: теория национализма, политическая и социальная антропология, межкультурные коммуникации, социальная история, интеллектуальная история и т.д. Первые опыты компаративных исследований позволили выявить специфику и схожесть Российской империи в сравнении с континентальными и морскими империями [16].
Как мне представляется, империя может быть понята в качестве исторической формы организации большого геополитического пространства как способ преодоления мировой локальности. «Мир-империя» (Ф. Бродель, И. Валлерстайн) предстает в таком случае эластичной и вариативной системой управления различиями и сложностями. Это не значит, что маятник исторического сознания должен качнуться от «осуждения» в другую сторону и нам следует впасть в апологию империи. Просто такое понимание империи может стать не только конвенционным, но и вполне операционным, позволит сделать его достаточным для исследователей. Если же признать, что Российская империя (а затем и СССР) была не простым конгломератом народов и территорий, а сложной системой, включавшей в качестве элементов разнопорядковые с асимметричным статусом (от унитаризма до «имперского федерализма») регионы и народы, имеющие различные социально-экономические, политические и социокультурные характеристики, то необходимо будет изменить ракурс исторического исследования, который потребует существенного расширения тематики и модификации понятийного аппарата. Это позволяет отойти от катастрофического ожидания краха империи (распространенное советское определение «кризис самодержавия», в котором Российская империя перманентно пребывала) и сместить исследовательские акценты на выяснение потенциала длительной устойчивости мультикультурных сообществ, управленческих технологий, способных эффективно и адекватно реагировать на быстро меняющуюся политическую, экономическую и социокультурную конъюнктуру. Это еще и стремление понять империю как способ управления различиями в глобализующемся и модернизирующемся мире. Помимо политического и управленческого аспектов, в историческое изучение возвращается и экономическая тематика, призванная ответить на буквальный вопрос о «цене империи»: кто и как платил по ее счетам [17]?
При таком предельно широком охвате исторических тем имперская история кажется всепоглощающей и даже порождает вопрос: а было ли в российской истории что-то неимперское? Все же в имперском подходе главной остается проблема власти и политики во всех ее ипостасях. Не случайно то, что при таком приоритетном аспекте история империй активно заимствует политологический инструментарий. Благодаря социальной и интеллектуальной истории, под воздействием конструктивистских концепций исследовательское поле истории имперской политики расширяется за счет новых объектов изучения, что делает ее все более многоаспектной, а число имперских объектов и акторов заметно возрастает. Прежде всего это произошло за счет переосмысления с позиций имперской истории национальных нарративов, преодоления прежних биполярных схем: «центр – периферия», «метрополия – колония», «угнетатели и угнетенные» и т. п. Империя в новейших исследованиях предстает в качестве динамичной, внутренне напряженной сложной организацией, своего рода «мегасистемой».
Понятие «внутренняя Россия», в котором был заложен особый исторический и политический смысл, не было статичным, а дистанция между русским национальным «ядром» и национальными «окраинами» могла сокращаться, порождая промежуточные формы и отношения. Азиатские регионы империи, таким образом, можно ранжировать по степени их интегрированности в имперское пространство: Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Оренбургский край, Степной край и Туркестан. Именно в отношении этих территорий, как это справедливо отметил К. Мацузато, шли длительные дебаты о целесообразности сохранения генерал-губернаторской власти и смене приоритетов в ее деятельности [18]. Империя заявляла о своих претензиях изменить не только политическую, но и этнографическую и даже физическую географию мира. Территории восточнее Волги оценивались не только по их удаленности от центра страны, но главным образом по потенциальной способности окраин (империя старалась избегать названия «колонии») прочно слиться с русским государственным ядром [19]. Степной край и Туркестан4 в Азиатской России5 (именно такие определения закрепляются в имперской топонимике «географии власти») рассматривались в этом смысле как не лишенные перспектив, схожих по историческим результатам с Новороссией, Нижним Поволжьем, Сибирью и Дальним Востоком. Российские географы историческую миссию Российской империи распространяли до достижения цивилизационных целей – изменить саму границу Европы и Азии!
Если представить имперское пространство сложным и динамичным с точки зрения политико-административной и социально-экономической организации, то, помимо «внутренних губерний» и «окраин», можно увидеть и переходные формы, которые постепенно (в этом была долгосрочная имперская программа) теряли свою окраинность (за счет управленческого и экономического освоения, введения общеимперских институтов, развития сети коммуникаций (особенно телеграфа и железных дорог), русской колонизации и даже ментального присвоения), хотя и сохраняли особые региональные качества пространства и идентичности. Это были своего рода «внутренние окраины», имевшие своеобразный статус интегрированности в имперское пространство [20]. Колониальный дискурс в империи оказался почти под запретом, что было вызвано стремлением подчеркнуть отличие территориальной и в потенциале национальной целостности «единой и неделимой» России от заморских колоний европейских держав. Вместе с тем, Российская империя так и не преодолела амбивалентности в определении статуса своих азиатских окраин, зафиксировав это в официальном издании: «Земли Азиатской России – это неотъемлемая и неотделимая часть нашего государства – в то же время и единственная наша колония» [21].
Имперская история позволила вернуть в число приоритетных направлений политическую историю, историю государственных институтов. У нас все еще нет полной картины, как при низком уровне развития коммуникаций империя могла функционировать на столь огромном пространстве, насколько модерным и эффективным был ее бюрократический аппарат, каким образом он взаимодействовал с традиционными институтами самоуправления и суда, как сочетался правовой плюрализм и административное своеобразие окраин с требованиями «административной русификации» и унификации? Была ли Российская империя жестко централизованным бюрократическим государством или, напротив, страдала от «недоуправляемости»? Как осуществлял имперский центр свою гегемонию в условиях хронического отсутствия «объединенного правительства» и низкой скоординированности действий ведомств, слабой согласованности управленческих и даже политических решений центральной и региональной администрации, при отсутствии российского варианта «министерства колоний»? Очевидно, важную роль играли периодически возникавшие высшие территориальные комитеты (Азиатский, Сибирский, Амурский комитеты, Комитет Сибирской железной дороги, Комитет Дальнего Востока, Комитет по заселению Дальнего Востока), особые межведомственные совещания и комиссии и главным образом генерал-губернаторства. Бюрократическая централизация сосуществовала с деконцентрацией и даже децентрализацией власти.
Империя Романовых искала подкрепления своего могущества и прочности в создании «русской нации» и «русской гражданственности». Тема «русские в Российской империи» в национальном и имперском нарративах становится необычайно важной, хотя и весьма чувствительной с точки зрения исторической памяти. Сама же проблема «русскости» в этой связи остается чрезвычайно сложной, сочетая этнические, национальные, конфессиональные, региональные, государственные и имперские параметры. Не случайно в известной книге Андреаса Каппелера «Россия – многонациональная империя» не нашлось места русским, а попытка британского историка Джеффри Хоскинга восполнить этот пробел вряд ли может быть признана удачной [22].
Социокультурный аспект имперской политики включает в качестве одного из важных объектов изучения язык и школу, которые всегда играли важную роль, и эта роль нарастала, постепенно отодвигая на второй план даже миссионерскую христианскую деятельность или же рассматривая ее как удаленную перспективу. При этом политическая лояльность и конфессиональная толерантность как скрепляющие конструкции Российской империи дополняются (или сменяются) новыми идентичностями, в которых проблема языка приобретает особую актуальность. Межрегиональная филиация идей и транзит политических, управленческих и социокультурных практик позволяют заметить, что при отсутствии единой языковой политики в империи связь между процессами, шедшими на различных окраинах, несомненно существовала. Попытки перевести местные языки на кириллическую основу имели место не только в Западном крае, где они носили наиболее ярко выраженный политический характер, но и в Поволжье, Сибири, Степном крае и Средней Азии6. По мнению Х. Глембоцкого, это может быть хорошим примером передачи политического опыта, полученного на разных «инородческих» окраинах империи, что позволяет лучше понять механизмы выработки политических решений, выяснить какие акторы действовали на этом поле, какие влиятельные концепции определяли этнокультурную политику империи [23].
Курс на «обрусение» и внедрение «русской гражданственности» претерпел известную трансформацию (хотя и не получил окончательной определенности и сохранял в правительственных сферах дискуссионность), когда к концу XIX – началу XX в. стало ясно, что усвоение «инородцами» русского языка и получение «русского образования» не только ведет к их интеграции в российское общество, но и создает альтернативные национальные проекты. Либерализируясь политически, империя предъявляет все более жесткие (хотя непоследовательные и даже хаотичные) претензии к национальным и конфессиональным движениям. В имперский дискурс, помимо цивилизаторских мотивов, исторической и географической предопределенности, христианской просветительской миссии, активно вторгаются националистические мотивы. Традиционный для империи конфессиональный аспект приобретает дополнительные национальные инварианты. Юридически декларируемая веротерпимость соседствует с практикой недоверия к различным вероисповеданиям, которые также подвергаются классификации по степени благонадежности. Так, прежняя толерантная лексика в отношении ислама сменяется агрессивными обвинениями мусульман в фанатизме, невозможности мирного сосуществования двух религий и даже появлением исламской фобии. Империя начинает позиционировать себя в качестве защитника народов, которые подвергаются экономической и культурной экспансии со стороны татар и ислама, а движение джадидов, направленное на «обновление» ислама и усиление светских черт в мусульманском образовании, выглядит еще более опасным, нежели традиционный ислам с его уже заметно адаптированной в имперскую среду духовной элитой.
Исследователь Российской империи не должен упускать различий в политических культурах контактирующих цивилизаций, наличия, кроме формальных структур власти, личных, клановых и клиентальных связей, традиционных форм политической и военной консолидации. В рамках имперской истории можно рассматривать процессы формирования имперского пространства не только при помощи жестких оценочных понятий «завоевание» или даже «присоединение», но и через взаимодействие внутренних и внешних акторов. Американский историк Пол Верт предлагает описывать протестные действия в менее идеологически загруженных терминах, таких как «сопротивление» и «подрывная деятельность», что позволяет точнее понять различия между борьбой за независимость, социальную справедливость и терроризмом, а то и просто бандитизмом [24]. Нам еще предстоит выяснить роль в империи так называемых «мобилизованных диаспор», наличие, кроме русского, альтернативных культуртрегерских и экспансионистских проектов. Найдется место и пониманию мотивов сотрудничества и лояльностей, стремлений местной аристократии войти в общеимперскую элиту через систему косвенного или прямого управления. В интеграции единого имперского пространства можно будет увидеть, как сочетались традиционные и модерные методы, как воздействовали на традиционное общество инновации, связанные с урбанизацией, системой массового школьного образования, секуляризацией знания, появлением газет, строительством железных дорог и телеграфа, созданием банковской системы, современных медицинских учреждений и т. д.
В этом ряду нам предстоит еще понять значение «научного завоевания» окраин империи, что Мишель Фуко определял как «знание-власть». Картографирование и конструирование географического, административного, экономического и ментального пространства Российской империи составляло основу «географии власти», в которой политико-правовое и административное обустройство включало сложный диалог имперского центра, периферийных властей и экспертов, специфику поведения российских бюрократов и их контрагентов из элит местного сообщества на восточных окраинах. Ориенталистский (в трактовке Эдварда Саида) и постколониальный дискурсы, ментальная история и география способны стать объяснительными моделями в изучении цивилизационного взаимодействия европейских и азиатских народов. Географические образы могут рассматриваться как культурные артефакты, обозначающие и оценивающие сегменты пространства. Более сложным предстанет и процесс «русификации», который будет включать и «обрусение» как стихийное или направляемое включение в модерное общество [25], аккультурацию, создание современной национальной или космополитичной интеллигенции. Замещение традиционных институтов управления и суда имперскими учреждениями будет включать и процесс их рационализации, а изменения в «технологиях» администрирования, напротив, выглядеть как унификация и элиминирование национальной правовой культуры.
Колонизационные процессы в Российской империи не ограничивались только завоеванием, присоединением территории и не всегда совпадали с переселенческим движением, поскольку основной смысл смещался от заселения к долговременному процессу «поддержания» завоевания, созданию своего «русского» пространства. Важнейшую роль в строительстве империи должны были сыграть не столько военные и чиновники, сколько мирные крестьяне-переселенцы. Рассматривая усложнение в этой связи имперского дискурса в конце XIX – начале XX в., Виллард Сандерланд представил его как неоднозначное по смыслам движение: «Если российская колонизация и русское переселение равнозначны, это означает, что колонизация в России была не только крестьянской или земледельческой, или домашней, или колониальной проблемами, но всеми этими проблемами вместе. Результатом явилось то, что русские образы колонизации были изначально запутанными» [26]. Вместе с тем, миграционные процессы могут быть оценены и как стихийное народное движение, и как этнодемографический инструментарий «внутреннего» расширения империи, национального закрепления территории, реализации проекта «большой русской нации» за счет переселения и консолидации славянских народов. Со второй половины XIX в. движение русского населения на имперские окраины (как стихийное, так и регулируемое государством) начинает сознательно восприниматься и в правительстве, и в обществе как целенаправленное политическое конструирование империи. Это была своего рода сверхзадача, которая с 1860-х гг. формулируется как новый национальный курс на создание «единой и неделимой» России с центральным русским государственным ядром, окруженным окраинами. Однако эти окраины со временем способны «обрусеть» и «слиться» с сердцевиной империи, ее внутренними губерниями, населенными русскими [27]. Основным отличием Российской империи от западных мировых держав считалось то, что она представляла собой цельный территориальный монолит, и поэтому колонизационное движение из внутренней России не носило характера эмиграции. Как заметил современный британский историк и политолог Д. Ливен, «русскому колонисту было затруднительно ответить на вопрос, где, собственно, заканчивается Россия и начинается империя?» [28]. Российский же исследователь Л.Е. Горизонтов видит в русском колонизационном движении своего рода перспективу «двойного расширения» Российской империи путем ее внешнего территориального роста в целом, который дополнялся параллельным разрастанием «имперского ядра» за счет примыкающих к нему окраин [29].
Имперский проект в Азиатской России предусматривал постепенное поглощение имперским ядром (прежде всего в результате русской крестьянской колонизации) Сибири, Дальнего Востока, а также части Степного края. Это был сложный и длительный процесс, в котором сочетались тенденции империостроительства и нациостроительства, что должно было обеспечить империи большую стабильность, дать ей национальную перспективу. Тема расширяющегося «фронтира» на нерусской окраине, помимо военных действий и организации управления, включала «конструктивные» аспекты российской колонизации: «рождение новой социальной идентичности, этнических отношений, новых ландшафтов, регионального хозяйства и материальной культуры» [30].
Имперская история позволяет вернуться и к вопросу об имперской идеологии, посмотреть на нее с новых позиций. В данном случае важно понять, кто и как формировал имперскую идеологию, вырабатывал геополитические стратегии «естественности» имперских границ, исторической предопределенности и цивилизационной миссии, формулировал новые вызовы («желтая опасность», «панисламистская угроза», «польская интрига», «всемирный жидомасонский заговор»), осуществлял транзит новейших западных политических теорий? Активное движение империи на Восток вызвало, как это отметила Марлен Ларуэль, потребность в новой аргументации идентификационной принадлежности России к Европе или Азии, породив легитимационный дискурс в определении самой российской государственности: «европейская страна с азиатскими колониями или специфическое евразийское государство?».
Следует признать, что Российская империя не имела единого, четко сформулированного политического курса на востоке, а ведомственная разобщенность неизбежно порождала конкурирующие проекты [31]. Газеты и журналы, вырабатывавшие и транслировавшие разные политические сценарии имперской экспансии и внутреннего обустройства России, в сотрудничестве с правительственными группировками (ведомственными и вневедомственными, столичными и периферийными), формировали новый политический язык, с помощью которого стремились влиять на массовое общественное сознание. В то же время журналистская «война перьев», нередко инспирированная влиятельными государственными деятелями, лишь дополняла традиционную для самодержавного режима закулисную борьбу за влияние на монарха. Соперничество ведомственных интересов и личных амбиций усложняло и без того запутанный процесс принятия политических решений. В результате управление империей выглядело не только непоследовательным, но и многовариантным, способным сохранять известную гибкость в отношении разных региональных, национальных и конфессиональных ситуаций.
История Российской империи включила в себя ментальную географию, стала частью постколониального дискурса. Она пытается определить эвристические возможности «ориентализма». С появлением в 1978 г. книги Э. Саида «Ориентализм» [32], одного из наиболее влиятельных сочинений последней четверти прошлого века, изучение феноменов колониализма и империализма и в целом проблем взаимодействия Запада и Востока приобрело новый теоретический ракурс. Опираясь на постмодернистские идеи М. Фуко о неразрывной связи знания и власти, Э. Саид пришел к выводу, что проект Просвещения был, помимо прочего, попыткой сделать Европу посредством колониальной экспансии доминирующей над всеми другими культурами и обществами мира. Появление работы Э. Саида привело к радикальному пересмотру исследовательских приоритетов и подходов в изучении европейского колониализма, к открытию новых, прежде игнорировавшихся смысловых пластов. Речь шла об интеллектуальном «вторжении» в историографию взаимоотношений Востока и Запада постструктуралистской в своей основе теории критического дискурса. Через междисциплинарные контакты с другими гуманитарными науками (литературоведением, антропологией, регионоведением, междисциплинарными исследованиями культуры) даже в столь традиционной науке, как история, исследователи стали уделять больше внимания проблемам культуры и колониализма, конструирования образов колонизованных народов, инвенции, выработанных европейской наукой, знаний в политическую практику. Ориентализм в этом случае предстал в виде особого дискурсивного поля суждений о Востоке, презентаций и репрезентаций «другого». В оборот были введены новые типы источников, иному прочтению подверглись прежние имперские нарративы.
В современных западных исследованиях европейского восприятия Востока были поставлены важные научные задачи, имеющие несомненное значение и для понимания российской имперской специфики. Первыми на познавательные возможности ориентализма и ментальной географии обратили внимание зарубежные историки, занимающиеся проблемами Российской империи (исследования Н. Найта о востоковеде В.В. Григорьеве, Д. Схимелпеннинка ван дер Ойе о путешествии наследника российского престола, будущего императора Николая II, на Восток, о взглядах Н.М. Пржевальского и Э.Э Ухтомского, об образах Сибири М. Бассина и др.). В XIX в. влияние западного ориентализма, как отмечает А. Каппелер, распространилось и на Россию. Восток стал заметной темой в русской художественной литературе, в стране быстро развивалось востоковедение, а такие видные его деятели, как Н. Ильминский, Н. Остроумов или Е. Марков, служили российскому правительству. Конечно, высокомерно-патерналистский колониальный контекст неизменно усиливался в описаниях восточных народов, хотя не была полностью забыта и традиция сотрудничества с соседями-мусульманами. Но к рубежу XIX–XX вв. политическая и социокультурная напряженность, особенно в отношениях с кочевниками, нарастала, когда империи понадобились земли для массовой крестьянской колонизации.
Вместе с тем, приходится признать, что отечественные исследования истории Российской империи до сих пор оставались в стороне от ряда современных тенденций мировой историографии колониализма и не испытали какого-либо интеллектуального воздействия работ Э. Саида и других постколониальных теоретиков (см. дискуссию Н. Найта, М. Тодоровой и А. Халида в журнале «Kritika» (2000. Vol. 1. № 4.) и И. Герасимова, Н. Найта, Д. Схимелпеннинка, Е. Кэмпбелл, А. Эткинда в журнале «Ab Imperio» (2002. № 1). Примером первых российских попыток такого рода могут служить книга С.В. Сопленкова «Дорога в Арзрум: российская общественная мысль о Востоке» (М., 2000), а также статьи В.О. Бобровникова, С.Н. Абашина, А.В. Ремнева и О.Е. Сухих [33].
Сознавая известную ограниченность возможностей применения саидовского ориентализма, следует отметить продуктивность самого подхода для изучения российского дискурса о Востоке, так как на протяжении длительного времени восточное направление было одним из основных в территориальном расширении империи и ее географии власти. Будучи в глазах Запада Востоком, Россия, в силу своего географического положения и исторических традиций, демонстрировала разные модели политического, социокультурного и управленческого поведения в отношении восточных народов. У Российской империи, наряду с внешнеполитическими имперскими стратегиями на Западе и Востоке, была не только своя внутренняя Европа, но и своя внутренняя Азия, свой «внутренний ориентализм» (А. Эткинд).
Поэтому так важно критически проанализировать исследовательские возможности ориентализма на примере отдельных регионов и деятелей Российской империи второй половины XIX – начала XX в., определить, – в чем российский Восток и подходы к нему были аналогичны колониальному управлению европейских держав, а также охарактеризовать своеобразие и оригинальность российского имперского видения Востока. Следует понять, кто и как осуществлял ориенталистский дискурс и каким образом он влиял на имперские практики на азиатских окраинах. Это позволит выйти на тему взаимных связей и влияния науки и политики, выявить экспертный уровень лиц, формулировавших разные имперские варианты политических идеологий и практик применительно как к внутренним, так и внешним азиатским регионам, проследить возможности и уровни научного и идеологического транзита западных колониальных теорий, а также пути формирования собственного российского вектора изучения Востока и выработки имперских технологий управления азиатскими народами.
Исследовательское поле должно включить не только научные общества, отдельных профессиональных ученых-восто-коведов, этнографов, но и широкий круг ранее малоизвестных лиц (военных, дипломатов, миссионеров, чиновников, про-мышленников и торговцев), вовлеченных как в процесс изучения Востока, так и в имперское строительство. Неисследованной остается и важная тема подготовки административных и научных кадров империи с участием самих выходцев из восточных окраин России, в том числе изучение роли так называемых мобилизованных диаспор (татары и башкиры в случае с казахами или буряты в случае с монголами или маньчжурами), выборных членов местных традиционных (или смешанных) органов управления и суда, мусульманских священников, национальной интеллигенции как акторов культурного сотрудничества и конкуренции. Нам еще предстоит ответить на вопрос: кто они были: имперские референты и оппоненты по делам Востока? Все это позволит по-новому взглянуть на историю Российской империи, выяснить региональные и национальные условия взаимодействия на ее огромном пространстве разных культур, методов и технологий решения управленческих проблем, определить механизмы социальной устойчивости полиэтничного и мультикультурного сообщества народов.
Важную роль в стабильности имперского пространства играла наука, которая стремилась оперативно отыскать теоретические ответы на исторические вызовы быстро меняющегося мира. Это был слож-ный дискурс интеллектуалов, обосновывавших идеальные геополитические конструкции и пугавших мир возможными глобальными конфликтами, и политических прагматиков, которые, хотя и скептически относились к интеллектуальным писаниям, но не могли не использовать их в имперской политической и управленческой практике. Исторический опыт Российской империи демонстрировал не только дистанцию и даже конфликт между властью и наукой, но и своеобразные формы идеологической диффузии в сотрудничестве ученых и политиков, что особенно отчетливо проявилось в обосновании имперского расширения в Азии.
На определение управленческих задач влияли не только политические и экономические установки, исходившие из центра империи, но и «географическое видение» региона, его политическая и социокультурная символика и мифология, трансформация регионального образа в правительственном и общественном сознании того, как налагалась «карта сознания» (по выражению Лэрри Вульфа) на стратегические карты Генерального штаба.
Активизация российской политики на азиатском Востоке после поражения в Крымской войне усилила географическую доминанту в имперской идеологии. Середина XIX в. ознаменовалась всплеском общественного внимания к востоку и формированием новых политико-геогра-фических «образов» Российской Азии. Географическое и этнографическое освоение зауральских территорий сопровождалось исследовательским бумом. Экзотические и фантастические описания путешественников, романтическая приключенческая литература о благородных, диких и кровожадных азиатах соседствовали с академическими трудами о восточных древностях и подробными этнографическими описаниями. Но даже строго научные познания содержали ловушки, в которые попадали имперские теоретики и практики, охваченные мифами о Востоке, желанием не только искать исторические устои, чтобы опереться на них в управлении, но и сконструировать традиционные институты по заранее усвоенным из книг стандартам.
Многие из тех, кто соприкоснулся непосредственно с «Русским Востоком»7, начинают мыслить категориями политической географии. Отчетливо это проявилось на рубеже XIX–XX вв. в дальневосточной и центральноазиатской политике, идеологическое обоснование которой включило, наряду с традиционными утверждениями о стихийном движении русских на восток, «к морю-океану», собирание земель, выполнение православной христианской миссии, новые геополитические мотивы. Во внутриправительственной полемике и в рассуждениях идеологов российского империализма появляются евразийские претензии на наследие Золотой Орды, теории о естественных границах, о морском или континентальном характере Российской империи, колониальной политике, национальных интересах, стремлении нести европейскую цивилизацию азиатам, а также пророчества о «желтой опасности», исламской и пантюркистской угрозах или новом грядущем монгольском иге. Вместе с тем в теориях «восточников» было явно больше идеологического модерна, нежели у «западников».
Одним из важных направлений имперской географии власти являлось «научное завоевание» новых территорий и народов: землеведение, картографирование, статистические описания, этнография. Так, перепись населения, несомненно, преследовала управленческие цели, направленные на систематизацию и классификацию народов и культур. Научные экспедиции, специальные исследовательские программы, составленные по инициативе или под контролем центральной или местной администрации, должны были выяснить экономический потенциал региона, меры по его обороне, наметить направления хозяйственного освоения, перспективы сельскохозяйственной и промышленной колонизации, выстроить стратегию управленческого поведения в отношении коренных народов с учетом их социокультурной специфики. География, этнография и история Востока, мотивированные потребностями «знания-власти», развиваются под явным запросом имперской практики. В качестве экспертов, обсуждавших имперские проблемы на страницах журналов и газет, на заседаниях научных обществ, а нередко и в закрытых особых правительственных совещаниях и комиссиях, часто можно видеть ведущих российских ученых, которые осуществляли интеллектуальный транзит достижений западной политической и экономической науки и практики и определяли различные варианты российского видения Востока.
Особую роль в становлении азиатского направления российской геополитики сыграли российская политическая география, этнография и востоковедение, быстро расцветавшие под сенью военных ведомств империи и Императорского Русского географического общества [34]. Министерство финансов по инициативе С.Ю. Витте для изучения и обоснования экономических потребностей империи создает Общество востоковедения. Основное внимание разделенных по ведомствам и научным школам востоковедов концентрируется на стратегически важных внутренних районах и исследовании сопредельных зарубежных территорий, которые попадают в зону имперских интересов. Географические научные изыскания становятся важным средством и прикрытием имперской политики, имея, как заметил американский историк Р. Фишер, «научные результаты, но не научные цели». Между военными ведомствами империи и Императорским Русским географическим обществом существовала несомненная связь. Географическое общество объединило самых разных людей, охваченных стремлением изучать новые земли и народы на Востоке. Именно здесь состоялась встреча русского административного опыта и европейских общественно-поли-тических идей, здесь формируются экспертные группы ученых, обслуживающих имперскую политику.
Имперская политика на Востоке в известной степени зависела не только от петербургских политиков, но и взглядов и решимости местных администраторов, занимавших, пусть и незначительные, в бюрократической иерархии посты. Их видение имперских задач на азиатских окраинах основывалось на собственной трактовке географических и климатических условий края, этнографических познаний, колониального опыта других стран, и даже на самостоятельном понимании внешнеполитических условий. Служба на окраинах, особенно там, где активно шел процесс их инкорпорации в имперское пространство, не только способствовала быстрой карьере, но и вырабатывала свой стиль управления, формировала особый тип государственного и общественного деятеля. Перед имперской администрацией на азиатских окраинах, в условиях слабости местной общественной инициативы, отсутствия вне службы значительного слоя просвещенного дворянства и разночинцев, кроме административных, стояли задачи изучения огромного географического и этнографического массива.
Вызванное имперскими потребностями новое азиатское политико-географи-ческое направление, однако, далеко не всегда следовало в русле правительственного заказа, рано проявив автономность в формировании общественного мнения. Заметную роль в оформлении азиатской парадигмы российского движения на восток, как это ни парадоксально, сыграли политические оппоненты самодержавной власти (ссыльные декабристы, петрашевцы, народники, сибирские областники). Даже оппозиционно настроенные в отношении самодержавия российские либералы и демократы, как и их западные единомышленники, были не чужды в XIX столетии, как казалось, благородных идей колониализма и цивилизационной миссии. Ориенталистский дискурс пересекался с другими, главным образом с народническим дискурсом, в котором даже свой собственный русский народ воспринимался как отсталый, как объект, требующий опеки и цивилизации [35]. Не случайно прогрессивно настроенные окраинные чиновники так легко сотрудничали даже с теми, кто был радикально настроен против самодержавия, но готов был предложить свой сценарий преобразования и укрепления империи, но не разрушения. Государственный потребитель на восточных окраинах в целях удовлетворения запросов имперской практики не останавливался перед сотрудничеством (впрочем, взаимно дистанцированным) со ссыльными, людьми, имеющими, как тогда выражались, «предосудительный политический формуляр».
Таким образом, только перечисление тем и краткая характеристика проблем и перспектив, которые открывает имперская история, может служить демонстрацией того, насколько перспективным становится это новое направление исторических исследований. Вместе с тем, следует заключить, что, несмотря на имеющиеся существенные достижения, мы все еще в начале пути. В такой историографической ситуации для историка важно не только определить объект изучения, разработать понятийный аппарат, но и найти органический синтез новейших теоретических конструкций с плодотворным накоплением эмпирических знаний. Стоит надеяться, что расширяющаяся проблематика истории Российской империи, которая была длительное время нашей общей историей, найдет достойное место в изучении и преподавании, а слово «империя», которое ныне все еще преимущественно ассоциируется с абсолютным или наименьшим «злом», приобретет более строгое академическое назначение.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Такой подход стремились реализовать авторы серии «Окраины Российской империи», заявленной издательством «Новое литературное обозрение». Уже вышли в этой серии две книги: «Западные окраины Российской империи» под редакцией М.Д. Долбилова и А.И. Миллера (М., 2006) и «Сибирь в составе Российской империи» под редакцией Л.М. Дамешека и А.В. Ремнева (М., 2007). Ждут своей очереди еще две коллективные монографии, посвященные Центральной Азии и Северному Кавказу.
2 Уже издан двухтомник: «Красноярье: пять веков истории», который утвержден в качестве учебника для школ Красноярского края.
3 За этим термином закрепился иронический перевод – «самодельная история».
4 И даже Русский Туркестан, по мнению Д.В. Васильева, не был колониальной окраиной государства: «Это была особая национальная территория, стремившаяся к органичному слиянию с остальной империей». (Васильев Д.В. Организация и функционирование главного управления в Туркестанском генерал-губернаторстве (1865–188 гг.) // Вестн. Мос. ун-та. Сер. 8: История. 1999. № 3. С. 62).
5 Термин «Азиатская Россия» начинает постепенно возвращаться в российский политико-геогра-фический и исторический дискурс, демонстрируя, впрочем, трудности в определении его границ. Так, современные исследователи определяют историко-географическое деление России на Европейскую и Азиатскую по аналогии с Европой и Америкой в терминах «Старого» и «Нового Света» России. Главным основанием для них стала русская колонизация как своего рода экспансия европейской цивилизации (в «перекодированном» русском варианте) на мировую периферию. Если западную границу они уверенно проводят по Уралу, северную – по берегам Ледовитого океана, а восточную – Тихого океана, то южные пределы поддаются демаркации с большими трудностями. Отбрасывая возможности исторической альтернативности и сохраняя политкорректность, следует утверждение, очевидно, разделяемое всеми авторами книги, о ее четкости: «это граница между областью бесспорного демографического, социально-эконо-мического и культурного преобладания русского населения и теми областями, где русская экспансия не смогла изменить фундаментальные основы экономики, культуры и быта коренного населения (Казахстан и Средняя Азия)» (Алексеев В.В., Алексеева Е.В., Зубков К.И., Побережников И.В. Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике XVI–XX века. М., 2004. С. 10).
6 Проблемам алфавита, языка и национальной идентичности на западных окраинах Российской империи посвящен ряд статей в журнале «Ab Imperio» (2005. № 2). Эта тема также будет затронута в моей статье: «Язык и алфавит в имперской политике в казахской степи (вторая половина XIX века)» (в печати).
7 Примечательно, что таким термином оперировал А.Е. Снесарев – один из влиятельных имперских военных экспертов по Центральной Азии. (Снесарев А.Е. Русский Восток как задача краеведного изучения // Восток. 1993. № 3. С. 97–108).
ЛИТЕРАТУРА
[1] См. об этом: Региональный нарратив в новой имперской истории России // Вестн. Ом. ун-та. 2004. Вып. 4. С. 6–13. Критические замечания на этот счет см. также в статье: Миллер А.И. Новая история Российской империи: региональный или ситуационный подход? // Азиатская Россия: люди и структуры империи / Под ред. Н.Г. Суворовой. Омск, 2005. С. 7–23.
[2] Слезкин Ю. СССР как коммунальная квартира // Американская русистика: вехи историографии последних лет: Антология. Самара, 2001. С. 329–374.
[3] Эмар М. Категории «Центр» и «периферия» в историографии XX в. // Европейский опыт и преподавание истории в постсоветской России. М., 1999. С. 68–69.
[4] Каппелер А. «Россия – многонациональная империя»: некоторые размышления восемь лет спустя после публикации книги // Ab Imperio. 2000. № 1. С. 21.
[5] См. напр.: Matsuzato K. Regions: A Prism to View the Slavic-Eurasian World. Towards a Discipline of «Regionology». Sapporo, 2000. P. IX–X, а также другие его публикации: The Concept of «Space» in Russian History – Regionalization from the Late Imperial to the Present // Empire and Society: New Approaches to Russian History. Sapporo, 1997; Emerging Meso-Areas in the Former Socialist Countries: Histories Revived or Improvised? / Ed. By K . Matsuzato. Sapporo, 2005.
[6] Рибер А. Изучая империи // Исторические записки. М.: Наука, 2003. Т. 4. С. 86–131.
[7] См., например: Замятин Д.Н. Русские в Центральной Азии во второй половине XIX века: стратегии репрезентации и интерпретации историко-географических образов границ // Восток. 2002. № 1.
[8] Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001.
[9] Бурдье П. Идентичность и репрезентация: элементы критической рефлексии идеи «региона» // Ab Imperio. 2002. № 3. С. 52.
[10] Хрох М. Ориентация в типологии // Ab Imperio. 2000. № 2. С. 15.
[11] Подробнее об этом понятии см.: Ремнев А.В. Россия Дальнего Востока. Имперская география власти XIX – начала XX вв. Омск, 2004.
[12] См.: Миллер А. Империя Романовых и национализм: Эссе по методологии исторического исследования. М.: Новое литературное обозрение, 2006.
[13] Обзоры новейшей литературы по истории Российской империи: Большакова О.В. Российская империя: система управления // Современная зарубежная историография: Аналитический обзор / РАН ИНИОН. М., 2003; Бахтурина А. Российская государственность и российская этнополитика // Исторические исследования в России – II: Семь лет спустя. М.: АИРО-XX, 2003. С. 246–267; Russian Modernity: Politics: Knowledge and Practices / Ed. by D. Hoffmann and Y. Kotsonis. N. Y., 2000; Of Religion and Empire. Mission, Conversion, and Tolerance in Tsarist Russia / Ed. by R. Geraci and M. Khodarkovsky. Ithaca and London, 2001; The Construction and Deconstruction of National Histories in Slavic Eurasia / Ed. by T. Hayashi. Sapporo, 2003; Imperial Rule / Ed. by A. Miller and A. Rieber. Budapest, 2004; Российская империя: стратегии стабилизации и опыты обновления / Под ред. М.Д. Карпачева. Воронеж, 2004; Российская империя в сравнительной перспективе / Под ред. А. Миллера. М., 2004. Новая имперская история постсоветского пространства / Под ред. И. Герасимова и др. Казань, 2004; Азиатская Россия: люди и структуры империи / Под ред. Н.Г. Суворовой, Омск, 2005; Russia and Eastern Europe: Applied “Imperiology” / Ed. by A. Nowak. Krakow, 2006; Imperiology. From Empirical Knowledge to Discussing the Russian Empire / Ed. by K. Matsuzato. Sapporo, 2007; Empire, Islam, and Politics in Central Eurasia / Ed. by T. Uyama. Sapporo, 2007; Russian Empire. Space, People, Power. 1700-1930 / Ed. by J. Burbank, M. von Hagen and A. Remnev. Indiana Univ. Press, 2007.
[14] См. например: От миропорядка империй к имперскому миропорядку / Отв. ред. Ф.Г. Войтоловский, П.А. Гудев, Э.Г. Соловьев. М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2005.
[15] Это особо подчеркивает редактор нового сборника статей Кимитака Мацузато: Imperiolodgy. From Empirical Knowledge to Discussing the Russian Empire. Sapporo, 2007. P. 6.
[16] См.: Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней, Пер. с англ. М.: Изд-во «Европа», 2007.
[17] Правилова Е.А. Финансы империи: Деньги и власть в политике России на национальных окраинах, 1801–1917. М.: Новое изд-во, 2006.
[18] Мацузато К. Генерал-губернаторства в Российской империи: от этнического к пространственному подходу // Новая имперская история постсоветского пространства. Казань, 2004.
[19] Куропаткин А.Н. Русско-китайский вопрос. СПб., 1913. С. 55–75. Ремнев А.В. Колония или окраина? Сибирь в имперском дискурсе XIX века // Российская империя: стратегии стабилизации и опыты обновления. Воронеж, 2004. С. 112–146.
[20] Подробнее об этом: Ремнев А.В. Россия и Сибирь в меняющемся пространстве империи, XIX – начало XX века // Российская империя в сравнительной перспективе. М., 2004.
[21] Азиатская Россия. СПб., 1914. Т. 1. С. VIII.
[22] Хоскинг Д. Россия: народ и империя (1552–1917). Смоленск, 2000; Он же. Россия и русские. Взгляд Запада на Россию. М., 2006. Кн. 1–2.
[23] Глембоцкий Х. Александр Гильфердинг и славянофильские проекты изменения национально-культурной идентичности на западных окраинах Российской империи // Ab Imperio. 2005. № 2. С. 162-163.
[24] Верт П. От «сопротивления» к «подрывной деятельности»: власть империи, противостояние местного населения и их взаимозависимость // Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет: Антология / Сост. П. Верт, П.С. Кабытов, А.И. Миллер. М., 2005. С. 48-82.
[25] Миллер А.И. Русификации: классифицировать и понять // Ab Imperio. 2002. № 2 С. 133-148.
[26] Sunderland W. The «Colonization Question»: Visions of Colonization in Late Imperial Russia // Janrbucher fur Geschichte Osteuropas. 2000. № 48. P. 210-213; он же. Империя без империализма // Новая имперская история постсоветского пространства. Казань, 2004. С. 459-472.
[27] Кэмпбелл Е. «Единая и неделимая Россия» и «Инородческий вопрос в имперской идеологии самодержавия // Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности. М., 2001. С. 206-207.
[28] Ливен Д. Русская, имперская и советская идентичность // Европейский опыт и преподавание истории в постсоветской России. М., 1999. С. 299.
[29] Горизонтов Л.Е. «Большая русская нация» в имперской и региональной стратегии самодержавия // Пространство власти: исторический опыт России и вызовы современности. М., 2001. С. 130.
[30] Барретт Т.М. Линии неопределенности: северокавказский «фронтир» России // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Императорский период: Антология. Самара, 2000. С. 168.
[31] Рибер А. Устойчивые факторы российской внешней политики: попытка интерпретации // Американская русистика: Вехи историографии последних лет. Советский период. Самара, 2001. С. 108–115; Schimmelpenninck van der Oye D. Toward the Rising Sun: Russian Ideologies of Empire and the Path to War with Japan. DeKalb, 2001.
[32] Русский перевод: Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб.: «Русский Мiръ», 2006.
[33] Бобровников В.О. Ориентализм в литературе и политике на Северном Кавказе // Азиатская Россия: люди и структуры империи. Омск, 2005. С. 23–42; Абашин С.Н. В.П. Наливкин: «…будет то, что неизбежно должно быть; и то, что неизбежно должно быть, уже не может не быть…». Кризис ориентализма в Российской империи? // Там же. С. 43–96; Ремнев А.В., Сухих О.Е. Казахские депутации в сценариях власти: от дипломатических миссий к имперским презентациям // Ab Imperio. 2006. № 1. С. 119–154.
[34] Basin M. The Russian Geographical Society, the „ Amur Epoch” and the Great Siberian Expedition 1855–1863 // Annals of the Association of American Geographers. 1983. № 73/2. P. 240–256; Rich D. Imperialism, reform and strategy: Russian military statistics, 1840–1880 // Slavonic and East European rev. L., 1996. Vol. 74. № 4; Knight N. Science, Empire, and Nationality: Ethnography in the Russian Geographical Society, 1845–1855 // Imperial Russia. New Histories for the Empire. Bloomington & Indianapolis: Indiana Univ. Press, 1998.
[35] См. например: Эткинд А. Бремя бритого человека, или Внутренняя колонизация России // Ab Imperio. 2002. № 1; Коцонис Я. Как крестьян делали отсталыми. Сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России. 1861–1914 гг. М., 2006.
Статья написана при финансовой поддержке Российского государственного научного фонда, грант № 06-01-00417а
