Элджернон Генри Блэквуд
| Вид материала | Документы |
| Человек, которого любили деревья |
- Элджернон Генри Блэквуд, 6581.81kb.
- Итоговый контрольный тест по рассказу О. Генри «Дары волхвов» Назовите настоящее имя, 16.24kb.
- Генри Хейла «Становление сильной партийной системы», 341.33kb.
- Генри Форд и его автомобиль, 405.04kb.
- Урок творческая мастерская о*генри «дары волхвов», 89.67kb.
- О. Генри биография, 29.28kb.
- Генри Минцберга "The Five Minds of a Manager", 66.58kb.
- Генри Стивенсон в царстве тюленей (сказка), 46.03kb.
- Литература. 11, 122.29kb.
- Реферат по экономике на тему: «Генри Форд основатель конвейера», 105.95kb.
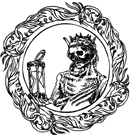
Человек, которого любили деревья
I
Он писал деревья, руководствуясь неким особенным, божественным постижением их сущности. Он понимал их. Он знал, почему, например, в дубовой роще каждый представитель абсолютно не похож на своих собратьев и почему в целом мире нет двух одинаковых берез. Люди просили его написать любимую липу или серебристую березу, поскольку он схватывал индивидуальность дерева, как некоторые схватывают индивидуальность лошади. Он писал, будто собирал мозаику, ведь он никогда не брал уроков живописи, рисовал до ужаса неаккуратно, и, несмотря на то что его восприятие личности древа было верным и ясным, изображение могло стать почти нелепым. Однако это отдельное дерево со своим характером и личностью продолжало жить под его кистью — сияющее или нахмуренное, задумчивое или веселое, дружелюбное или враждебное, доброе или злое. Оно проявлялось.
В этом огромном мире не было больше ничего, что он мог писать; на цветы и пейзажи он только зря тратил время, превращая рисунок в грязное пятно; портреты выходили беспомощными, безнадежно испорченными; так же обстояло дело с животными. Иногда ему удавалось передать цвет неба или порыв ветра в листве, но, как правило, он оставлял это без внимания. Он держался деревьев, мудро следуя инстинкту, которым ведает любовь. И поскольку был всецело захвачен ею, дерево в его исполнении выглядело как существо — живое. Эффект выходил почти сверхъестественным.
«Да, Сандерсон знает, что делает, когда изображает дерево! — думал старый Дэвид Биттаси, бакалавр хирургии, в последнее время увлекшийся природой, вернее лесами. — Вот-вот услышишь, как оно шелестит. Чувствуешь его запах. Слышишь шум дождя в листве. Кажется, что шевелятся ветви. Оно растет».
Так он выражал удовлетворение, отчасти чтобы успокоить себя, что двадцать гиней были потрачены не зря (хотя его жена полагала иначе), отчасти чтобы объяснить эту сверхъестественную реальность жизни в прекрасном старом кедре, теперь поселившемся в рамке над рабочим столом.
Впрочем, воззрения мистера Биттаси на мир были, в общих чертах, строгими, если не сказать мрачными. Очень немногие угадывали в нем скрытую глубокую любовь к природе, которая подпитывалась годами, проведенными в лесах и дебрях Востока. Она была странной для англичанина, но, возможно, была обязана евразийским корням. Тайно, будто стыдясь, он лелеял в себе чувство прекрасного, которое с трудом вязалось с его обликом, более того, было необычайно сильным. Особенно же это чувство подкрепляли деревья. Он тоже понимал деревья, ощущал чувство родства с ними, возникшее, быть может, за годы, что он провел в заботе о них, охраняя, защищая, выхаживая, годы одиночества, проведенные среди этих великих тенистых существ. Конечно, он никому в этом не признавался, потому что знал мир, в котором жил. И от жены тоже в некоторой степени скрывал, понимая, что дерево встает между ними, понимал, что жена страшится и противится этой привязанности. Но чего он не знал или в какой-то мере не осознавал — степень ее понимания власти деревьев над всей его жизнью. Ее страх, как он полагал, был вызван годами, проведенными в Индии, когда внезапный зов на целые недели увлекал его прочь от жены в глубь джунглей, а она оставалась дома, представляя, что там могло его постигнуть. Это, конечно, объясняло ее инстинктивное сопротивление страсти к лесам, которая никак не отпускала его. И теперь, как и в те тревожные дни, она одиноко ждала, надеясь, что он вернется целым и невредимым.
Потому что миссис Биттаси, дочь протестантского священника, была женщиной, склонной к самопожертвованию, и в большинстве случаев находила обязанность делить с мужем все печали и радости совсем не обременительной, вплоть до самозабвения. Только в отношении деревьев она не так преуспела. Здесь трудно было смириться.
И Биттаси знал, к примеру, что она возражала против портрета кедра с лужайки возле их дома не из-за денег, что он заплатил за него, а именно потому, что картина зримо запечатлевала несходство их интересов — единственное, но коренное.
Художник Сандерсон зарабатывал не так уж много денег своим странным талантом; немногочисленные чеки выпадали нечасто. Редкие владельцы красивых или интересных деревьев хотели запечатлеть их отдельно от всего, а этюды, которые он делал для собственного удовольствия, художник оставлял у себя. Даже если находились на них покупатели, он не желал с ними расстаться. Только очень немногим, особо близким друзьям, можно было взглянуть на эти работы, поскольку Сандерсон не любил выслушивать поверхностную критику дилетантов. Нельзя сказать, что он не допускал иронии над своей техникой — скрепя сердце, он мог это принять, — но ремарки о личности самого дерева легко могли ранить или разозлить его. Художника возмущало малейшее замечание относительно них, будто оскорбляли его личных друзей, которые не могут за себя постоять. И сразу кидался в бой.
— Как все-таки удивительно, — сказала одна женщина, которая понимала, — что у вас получилось изобразить этот кипарис с характером, ведь на самом деле все кипарисы совершенно одинаковы.
И хотя в этой верной мысли чувствовался привкус расчетливой лести, Сандерсон вспыхнул, будто она выказала неуважение его близкому другу. Он резко прошел мимо нее и развернул картину лицом к стене.
— И правда странно, — грубо ответил он, передразнивая ее глупые интонации, — что вы воображаете, будто у вашего мужа, мадам, есть какой-то характер, ведь на самом деле все мужчины совершенно одинаковы!
Так как единственное, что выделяло ее мужа из толпы, были деньги, из-за которых она и вышла за него, отношения Сандерсона с этой семьей прекратились бесповоротно. Может быть, подобная чувствительность и была патологической, но в любом случае путь к его сердцу лежал через деревья. Сандерсона можно было назвать влюбленным в деревья. Он, несомненно, черпал в них глубокое вдохновение, а источник человеческого вдохновения, будь то музыка, религия или женщина, никогда не выдерживает критики.
— Я действительно полагаю, что это несколько расточительно, дорогой, — сказала миссис Биттаси, глядя на чек за картину, — когда нам так нужна газонокосилка. Но если это доставляет тебе такое удовольствие…
— Он напоминает мне один день, София, — отозвался пожилой джентльмен, сначала с гордостью взглянув на нее, а потом с любовью на картину, — давно прошедший день. Напоминает другое дерево — на весенней лужайке в Кенте, птиц, поющих в кустах сирени, и девушку в муслиновом платье, терпеливо ожидающую под кедром… Не тем, что на картине, но…
— Я никого не ждала, — возмущенно ответила она, — я собирала еловые шишки для камина классной комнаты…
— Еловые шишки, моя дорогая, не растут на кедрах, а камины в классных комнатах в дни моей юности не топили в июне.
— И все же это не тот кедр.
— Он заставил меня полюбить все кедры, — сказал он, — и напоминает, что ты все еще та самая юная девушка…
София пересекла комнату, подойдя к нему, и они вместе выглянули в окно, где над лужайкой у их загородного дома в Хэмпшире в одиночестве возвышался шероховатый ливанский кедр.
— Ты, как всегда, весь в мечтах, — мягко сказала она, — и мне ни капельки не жалко потраченных денег, правда. Только вышло бы правдивее, будь это портрет того дерева, не так ли?
— Его повалило ветром много лет назад. Я проезжал там в прошлом году — не осталось и следа от него, — с нежностью ответил он.
И тогда она, успокоенная его словами, приблизилась к картине, написанной Сандерсоном с их кедра на лужайке, и тщательно вытерла пыль. Она прошлась по всей раме своим носовым платочком, привстав на цыпочки, чтобы дотянуться до верхнего края.
— Что мне нравится больше всего, — сказал старик самому себе, когда жена вышла из комнаты, — то, как художник делает дерево живым. Жизнь таится во всех деревьях, но кедр, безусловно, открыл мне это первый, — деревья обладают неким свойством, позволяющим им осознавать мое присутствие, когда я близко и смотрю на них. Кажется, я почувствовал это тогда, потому что был влюблен, а любовь открывает жизнь повсюду.
Он взглянул на ливанца — угрюмый, раскидистый, тот неясно вырисовывался в сгущающемся сумраке. В глазах Биттаси проскользнула странная задумчивость.
— Да, Сандерсон увидел его таким, как есть, — пробормотал он, — мрачно грезящим своей смутной, скрытой жизнью на границе леса, и так же непохожим на то, другое дерево в Кенте, как я, скажем, на викария. Оно тоже совсем чужое здесь. И я о нем на самом деле не знаю ничего. Тот, другой, кедр я любил; а этого старину уважаю. Хотя как друга — да, вполне по-дружески. Сандерсон передал это довольно точно. Он увидел.
— Хотелось бы узнать этого человека получше, — добавил он. — Я бы спросил у него, как он смог увидеть так ясно, что дерево находится между домом и лесом — ближе к нам, чем к массе деревьев позади него — посредник в некотором роде. Вот этого я никогда раньше не замечал. А теперь вижу — его глазами. Оно стоит, как страж — или, скорее, как защитник.
Биттаси резко отвернулся и посмотрел в окно. Лес обступил лужайку сумрачной массой. С наступлением темноты он еще ближе подступал к дому. Аккуратный садик с симметричными клумбами казался здесь почти неуместным — каким-то маленьким цветастым насекомым, которое ищет, где бы присесть на спящее чудище, яркой мошкой, нахально кружащейся над поверхностью большой реки, которой ничего не стоило поглотить ее малейшим всплеском. Да, этот лес со своей тысячелетней историей, с уходящим вглубь пространством был дремлющим чудищем. Их домик и сад стояли слишком близко от его вздымавшейся губы. Когда дули сильные ветры, они поднимали тенистые полы его черных и багровых одежд… Старику нравилось это ощущение личности леса; он всегда его любил.
«Странно, — размышлял он, — ужасно странно: я чувствую смутную, но грандиозную жизнь в этих деревьях! Особенно это чувствовалось в Индии; и еще в канадских лесах; но здесь, в английских рощах, еще ни разу. И Сандерсон единственный человек на моей памяти, кто тоже это чувствует. Он никогда этого не говорил, но вот доказательство».
И Биттаси снова повернулся к картине, которая ему полюбилась. Поток необычной жизненной энергии пронизал его.
«Интересно… Господи, до чего интересно, может ли дерево… э-э… в полном смысле слова быть… живым существом. Помню, один мой пишущий приятель как-то рассказывал, что деревья в прежние времена ходили, как животные, но так долго кормились, стоя на одном месте, что замечтались и никак не могут очнуться!..»
Образы беспорядочно проносились в его голове, и тогда он, закурив сигару, опустился в кресло у открытого окна и пустил их в свободный полет. Снаружи в кустах на дальней стороне лужайки посвистывали черные дрозды. До него доносились запахи земли, деревьев и цветов, дух скошенной травы и аромат вереска с далекой пустоши из самого сердца лесов. Летний ветер легонько шевелил листья. Но широкие тенистые юбки с черно-багряным подбоем великого нового леса почти не колыхались.
Однако мистеру Биттаси была хорошо знакома каждая черточка в этой массе деревьев. Он знал все темные ложбинки, усеянные желтыми волнами дрока; сладкие от запаха можжевельника и мирта, они мерцали чистыми, темноглазыми заводями, глядящими в небо. А там парили ястребы, кружа час за часом, и мелькал чибис, чей грустный, нетерпеливый крик только углублял чувство умиротворения. Он знал одинокие сосны, приземистые, сильные деревья с пучками игл, которые отзывались песней на малейшее касание ветра, а цыгане разбивали под ними шатры; знал косматых пони с жеребятами, похожими на кентаврят; знал болтливых соек, льющееся молоком кукованье кукушки весной и крик выпи с томящихся одиночеством болот. И подлесок настороженного остролиста был ведом ему, таинственного, манящего темной красотой и желтым мерцанием опавших листочков.
Весь Лес жил здесь и дышал, ничего не опасаясь, защищенный от любого увечья. Никакое злодейство топора не могло нарушить покой его непостижимой внутренней жизни, и ни одному Человеку-Разрушителю не под силу было навлечь ужас преждевременной смерти. Лес осознавал себя высшим существом; он раскинулся и, не таясь, прихорашивался. Он не ставил никаких дозорных башен, потому что ни один ветер не приносил сигналов тревоги, и он наливался силой от солнца и звезд.
Но стоило покинуть его лиственные врата, и сельские деревья становились непохожи на лесные. Им угрожали дома; и деревья чувствовали себя в опасности. Дороги перестали быть тихими тропами, а стали шумными, жестоко пробитыми просеками, откуда люди атаковали лес. Их обихаживали, приручали, но только затем, чтобы рано или поздно убить. Даже в деревнях покой величественных вековых каштанов лишь изображал безопасность, но нетерпеливое метание ветвей серебристой березки на их фоне при малейшем ветерке неустанно внушало тревогу. Пыль не давала им дышать. Внутренний гул размеренной жизни заглушался визгами и криками грохочущих машин. Городские деревья жаждали и молили о возможности войти в великий покой леса, что был так близко, но двигаться они не могли. Больше того, они знали, что лес во всем своем царственном великолепии презирал и жалел их. Жители искусственных садов, они были прикованы к клумбам, которых заставляли расти по ранжиру.
«Хотелось бы узнать этого художника получше, — с этой мыслью Биттаси наконец вернулся к повседневности. — Может, София не будет возражать, если он ненадолго поселится у нас?..»
Он поднялся от звука гонга, стряхивая пепел с крапчатого жилета, и оправил его. Если бы не посеребренные сединой усы, Дэвид Биттаси, тонкий, сухощавый, подвижный, при неярком освещении легко мог сойти за сорокалетнего.
«Все равно, предложу ей», — решил он, поднимаясь по лестнице в гардеробную.
На самом деле он надеялся, что Сандерсон сможет объяснить ту связь, которую он всегда чувствовал с деревьями. Человек, который смог передать на холсте душу кедра, должен знать об этом все.
— Почему бы и нет? — высказала она свое мнение позже, за пудингом. — А он тут не заскучает без собеседников?
— Он мог бы целыми днями писать в лесу, дорогая. Я хочу лишь немного поковыряться в его мировоззрении, если справлюсь.
— Ты с чем хочешь справишься, Дэвид, — был ее ответ.
Эта престарелая бездетная пара беседовала с вежливой нежностью, давно считавшейся старомодной. Замечание, однако, Софии самой пришлось не по вкусу, ей стало неловко, и она пропустила мимо ушей слова мужа, произнесенные с довольной улыбкой:
— Только не с тобой, дорогая, и нашим счетом в банке.
Эта страсть к деревьям прежде была яблоком раздора, постоянно тлеющего раздора. Такая страсть пугала ее. И никуда не денешься. В Библии, ее путеводителе по земле и небесам, об этом не нашлось ни слова. Муж посмеивался над ее инстинктивным страхом, однако победить не мог. Получалось лишь чуть успокоить, но переменить ее отношение он был не в силах. Леса ей нравились, но, скорее, как тенистые места для пикников, полюбить же их так, как он, София была не в состоянии.
После обеда, сев с лампой у открытого окна, он стал читать жене вслух «Таймс», которую только что доставили с вечерней почтой, выбирая отрывки поинтереснее. Этот обычай был неизменен, исключая воскресные дни, когда мистер Биттаси, желая угодить жене, почитывал Теннисона15 или Фаррара16, порой засыпая над их строками. Она вязала, что-то уточняя по ходу чтения, похваливая за очаровательный голос, и наслаждалась небольшими обсуждениями по случаю, а он неизменно поощрял ее:
— Ах, София, я раньше никогда и не думал в таком ключе; но теперь, когда ты заговорила об этом, должен сказать, здесь что-то есть…
Дэвид Биттаси был мудр. Еще в Индии, где он целые месяцы проводил один в джунглях, оставляя жену ждать его в бунгало, проявилась иная, глубинная часть его натуры, странная страсть, которую миссис Биттаси не могла понять. И после одной-двух безуспешных попыток разделить ее с супругой (они уже давно были женаты), он научился таить ее в себе. Научился говорить о ней только походя — ведь жена чувствовала, что та никуда не исчезла, и молчание только бы усиливало боль. Время от времени он приоткрывал завесу только для того, чтобы позволить Софии указать на его заблуждения и ощутить себя победительницей. Однако спорная территория оставалась островком надежды на компромисс. Он терпеливо выслушивал критику, ее соображения и страхи, зная, что это ее утешит, но его изменить не сможет. Эта страсть засела в нем слишком глубоко и прочно. Но ради сохранения мира было очень желательно найти какую-то точку соприкосновения, и он ее нашел.
У жены был единственный на его взгляд недостаток — религиозная мания, этот пережиток ее воспитания, который не доставлял большого вреда. От избытка чувств эта мания иногда выплескивалась наружу. Вера не пришла к ней в результате зрелых размышлений, а была привита отцом с детства. На самом деле, подобно большинству женщин, она никогда по-настоящему не «думала», а только отражала образы мышления других людей, которые научилась понимать. Умудренный знанием человеческой натуры, старый Дэвид Биттаси вынужден был сохранять неприступной какую-то часть своей внутренней жизни от женщины, которую сильно любил. Он относился к ее библейским фразам как к маленьким странностям, которые все еще цеплялись к утонченной, щедрой душе — наподобие рогов или прочих, не утраченных до конца в процессе эволюции, но бесполезных деталей у животных.
— В чем дело, дорогой? Как ты меня напутал! — воскликнула она, выпрямившись в кресле так резко, что ее чепец сбился почти на ухо, когда Дэвид Биттаси, закрывшись шуршащей газетой, издал неожиданный возглас удивления.
Он опустил газету и уставился на нее поверх очков в золотой оправе.
— Послушай, что пишут, сделай одолжение, — сказал он с ноткой нетерпения в голосе, — послушай, милая София. Это из речи Фрэнсиса Дарвина из Королевского общества. Он президент общества, как ты знаешь, и сын великого Дарвина. Умоляю, слушай внимательно. Это чрезвычайно важно.
— Я слушаю, Дэвид, — сказала она с некоторым изумлением, поднимая глаза.
Она прекратила вязать и на секунду оглянулась. Что-то неожиданно изменилось в комнате, что заставило ее встрепенуться, хотя до этого она почти дремала, — голос мужа и интонация, с которой он произнес последние слова. В ней тут же воспряли все инстинкты.
— Читай же, дорогой.
Он набрал в легкие воздуха и еще раз взглянул на нее поверх оправы — убедиться в ее внимании. Он, несомненно, наткнулся на нечто по-настоящему интересное, хотя пассажи из этих «речей», по ее мнению, зачастую были несколько тяжеловатыми.
Глубоким, выразительным голосом он начал читать:
— «Невозможно выяснить, обладают ли растения сознанием; но, согласно доктрине целостности, все живое имеет нечто вроде психики, и если мы примем эту точку зрения…»
— «Если», — перебила она, почуяв опасность.
Он пропустил замечание мимо ушей, как что-то малозначимое, к чему он привык.
— «Если мы примем эту точку зрения, — продолжал он, — то должны поверить, что в растениях существует слабая копия того, что мы называем у себя самих сознанием».
Он отложил газету и посмотрел на жену в упор. Их глаза встретились. Он сделал акцент на последней фразе.
Минуту-другую жена не отвечала. Они молча смотрели друг на друга. Он ждал, пока смысл этих слов во всей своей важности дойдет до нее. Потом вернулся к тексту и прочел их снова по слогам, а она, освободившись от его пытливого, буравящего взгляда, еще раз инстинктивно оглядела комнату. У нее было такое чувство, что кто-то, не замеченный ими, вошел.
— Мы должны поверить, что в растениях существует слабая копия того, что мы называем у себя самих сознанием.
— Если, — повторила она, слабо сопротивляясь.
Она чувствовала, что под этим вопрошающим взглядом должна что-то сказать, но еще не собралась с мыслями.
— Сознание, — повторил он.
А потом весомо добавил:
— Это, дорогая, утверждение ученого двадцатого века.
Миссис Биттаси так резко подалась вперед, что шелковые оборки на платье зашуршали громче, чем газета. Издав какой-то тихий звук — нечто среднее между сопением и фырканьем, — она резко сомкнула ступни и положила руки на колени.
— Дэвид, — тихо сказала она, — я думаю, что эти ученые просто потеряли голову. В Библии, насколько я помню, об этом ничего нет.
— Насколько я помню, тоже, София, — терпеливо ответил он. Затем, после паузы, добавил, скорее, возможно, для себя, чем обращаясь к ней: — Кажется, Сандерсон говорил однажды нечто подобное.
— Значит, мистер Сандерсон мудрый и думающий человек, и человек надежный, — быстро подхватила она, — если он так сказал.
Она думала, что муж отнесет эту ремарку к Библии, а не к ученым. Он не стал исправлять ее ошибку.
— А растения, дорогой, это не то же самое, что деревья, — отстаивала она свою позицию, — не совсем то.
— Согласен, — тихо произнес Дэвид, — но и те и другие принадлежат к великому царству растений.
Помолчав секунду, она ответила:
— Царство растений! Тьфу!
И покачала прелестной немолодой головкой. В эти слова она вложила такую степень презрения, чтобы царство растений услышало ее и устыдилось бы, что покрывает треть мира спутанной сетью корней и веток, робко трепещущими листьями и миллионами остроконечных верхушек, что жадно ловят солнце, и ветер, и дождь. Это слишком верно, чтобы подвергаться сомнению.
