В поисках дома
| Вид материала | Документы |
СодержаниеАппликативная складка Складка как репликация Складка как возобновление Складка как реплика Демаркация академического и философского дискурсов Структура мира и её ритмическая пульсация |
- Избирательный участок, 564.55kb.
- Первая целевая жилищная программа «Дома-коммуны» 22 Первые дома-коммуны 22 Дома-коммуны, 1379.57kb.
- Описание территорий и границ судебных участков мировых судей ростовской области, 568.37kb.
- Селинджера План "В поисках смысла…", 277.68kb.
- 13. недорогие загородные дома, элитные загородные дома Элитные загородные дома, 31.36kb.
- Государственного Российского Дома народного творчества Московского дома национальностей, 42.44kb.
- Задачи: Сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников Детского, 794.55kb.
- Методика проведения занятий по разделам «интерьер жилого дома» с учащимися V-VII классов, 84.13kb.
- 01. 01. 2008г. Стоимость индивидуального жилого дома, 44.69kb.
- Материалы Детского Дома №19. Автор текста Т. Губина Январь-март 2007, 3396.51kb.
§1. К вопросу о типологии свойств складки
§2. Типология видов: виды и параметры работы складки в философском дискурсе
§3. Макет складки: стиль и текстиль текста
§4. Текст как медицинское заключение: ортография и поэзис складки
§5. Заключение в заключении: внутреннее и внешнее в философской рефлексии
§6. Метаморфозы складки внутреннее-внешнее в академическом дискурсе
§7. Складка и цензура
§8. Философские ресурсы письма
В качестве вводной главы мне бы хотелось предпослать описание ряда моментов, касающихся собственно складчато-барочного типа дискурса, в режиме которого я и стремился выдержать работу, проведенную и представленную в основной части.
§1. К вопросу типологии свойств складки
Итак, к вопросу типологии свойств складки. Что в первую очередь свойственно сложенному в бесконечное множество дискурсу складки и каковы качественные параметры этого складчатого дискурса? Для начала, перечислю основные аналитические моменты складки.
Во-первых, в складчатом дискурсе, сложенном в несколько раз и под разными углами (точками зрения, в фокусе которых разворачивается понимание текста) отчетливо (и это преследовалось намеренно и представляет из себя результат последовательной установки автора) отсутствуют философские демаркации единственного-множественного, внутреннего и внешнего, традиционного и инновационного, тождественного и нетождественного себе и многих других оппозиций, маркируемых в философском тезаурусе как бинарные (Ж.Деррида), отказ от которых в рамках французского языка представляет из себя нечто наподобие “философской мечты” или “мозоли” (оценка опять же попадает в зависимость от того типа складки, которая при этом используется, см. далее - “Виды складки”).
Во-вторых, отметим, что свойство складки подминать под себя любую поверхность было использовано мною с тем, чтобы позволить собственному дискурсу разворачиваться в любом ареале, на любом культурном материале, какой только может предоставить современная ситуация в гуманитарной среде вообще (WWW-паутина, СМИ-реклама, черный-белый PR и проч.). Поэтому я стремился, - и это также принципиальный момент, - в наименьшей степени цензурировать собственный вариант барочного дискурса (настолько, насколько это вообще допустимо в рамках научно-философской стилистики, все еще во многом пребывающей (как справедливо замечает Ж.Делез) в тисках лейбницианского “достаточного основания”, ресурсы которого, на мой взгляд более ограничены и менее своевременны, чем предлагаемые в моем тексте фигуры философской риторики).
В-третьих, говоря о складке, и, складывая из этого говорения картину философского дискурса современности, определяющим для меня было соблюдать строгую дистанцию по отношению к известному образцу барочного дискурса, представленного в лоне французского языка Жилем Делезом в одноименной философской поэме “Складка. Лейбниц и барокко”. В решении этой задачи мною использовались исключительно1[1] ресурсы русского языка, что, с одной стороны облегчает герменевтические усилия, востребуемые текстом подобного аграмматического заряда, и с другой стороны – проблематизирует границы философского дискурса, подотчетного длительному греко-латинскому воздействию в рамках сложившегося языка академической философии. Изменение философской ситуации в сторону нового не произойдет без обращения внимания к языку, но отнюдь не только и не столько в хайдеггеровском варианте доверия, но (и это обстоятельство выступает в работе на правах гипотезы, которую следует иметь ввиду при чтении основной части) в гораздо большей степени в том, чтобы суметь отказать языку, - определявшему судьбы современной философии со времен античности, - в доверии, избежать этого доверия, или уж во всяком случае, подозревать языковое преступление в каждом речевом или письменном жесте, отказать языку в презумпции невиновности.
А это значит не просто обнаружить складки в философском дискурсе, но смоделировать такой дискурс, который был бы обречен на бесконечную складчатость, на продуцирование складок в дискурсе путем смятия\сжатия этого дискурса в складку.
§2. Типология видов: виды и параметры работы складки в философском дискурсе
1. Складка: механизм редупликации. Слияние оригинала и дубликата в сгибающем акте демонстрирующего изложения того или иного философского концепта. Исходя из этого, философский концепт представляет из себя оконченный вариант использования бесконечного ресурса складки. Умножение, деление и редупликация складки не зависят от качества или уровня сложности концепта. Концепт может быть составлен на основе одной или нескольких складок и, тем не менее, он всегда будет соответствовать принципу окончательности, вносимому в складчатость дискурса извне, искусственно, с тем, чтобы образовать, таким образом, углы и сгибы, дискурсивно модифицирующие принципиальную неопределенность складки в определение концепта (возможность приписать ему дефиницию, раскрыть его, распаковать, вывернуть). В определении, таким образом, несомненно используется складка, а именно так, что определяя, мы “выворачиваем наизнанку” оппозицию внутреннее-внешнее и содержание-форма. Но для проведения подобной операции мы должны уже заранее предполагать вложенность складки внутреннее-внешнее в концепт, “сгибаемый” этим определением. Определением складка сгибается в концепт, но само определение – не что иное как складка в дискурсе. Одна из многих, приводимая здесь в качестве примера работы складки. При этом происходит стирание границ между уникальным и серийным в письме.
2. Аппликативная складка. Наложение одного дискурса (напр. рекламного) на другой (напр. интерактивный). Рекламный дискурс представляет из себя среду, перенасыщенную слоганами и логотипами, поэтому мотив заимствования перекликается здесь с бесчисленными ремарками, отсылающими к дискурсу комфорта, заботы, эротики, элитности или общедоступности (Ж.Бодрияр). Реклама, как тип дискурса, функционирует за счет этой перенасыщенности, которая изобличает себя в каждом новом слогане. При этом неизбежно наложение и, своего рода, интерференция элементов различных дискурсивных практик в рамках одного слогана. В слогане складка представлена в “скрученном” и потому чрезвычайно компактном виде. Компактность эта достигается за счет интерактивности составных частей слогана (цвет, шрифт, интонация, повторы и т.д.)
3. Складка как репликация. Фрактальная оптика ризомы - искаженная (искривленная) оптика складки. Следование фрактальной логике саморазворачивающейся складки и есть первое измерение представленного мной текста.
4. Складка как возобновление replitition (фр. repetition – повторение и le pli – собственно складка) – прокладывание как вторение, возобновляющее складчатость.
5. Складка как реплика. Вкрапление в дискурс реплики задает логику паузы дискурса, размыкает его, предлагая, тем самым, вернуться к началу, вглядеться в исток речи, ее случайность и немотивированность (Батай “Внутренний опыт”). Реплика незначительна в той же мере, в какой значима ее напряженность в дискурсе, порой удаляющая излишние коннотации, порой, наоборот, - задающая дополнительные семантические аллюзии и культурфилософские оттенки.
§3. Макет складки
Текст, представленный во второй главе настоящей работы, можно охарактеризовать как опыт постинформационного письма, предлагаемого в качестве примера философской интернет-литературы. Что же касается использования в тексте слоганов, то это задает ракурс прочтения текста как совокупности слоганов, что отвечает задаче выработать систему философских слоганов, которые так или иначе уже внедрены в массовое сознание, с тем, чтобы в дальнейшем это выполняло вспомогательную функцию рекламы философии, ориентированной на массовую аудиторию, с целью создания определенного и популярного имиджа философии. Последнее обстоятельство немаловажно и способно, на мой взгляд, сыграть свою роль в создании более адаптивного статуса для философии и философа в современной социально-культурной ситуации.
Текст (иль) и материя дискурса2[2] - мануфактурное производство дискурса. Ведь рулон материи обнаруживает складку лишь будучи подвержен операциям сегментации, членения, изготовления объектов (наука) и артефактов (искусство, мода).
Текст – это дискурс в самом процессе своего изготовления (бартовское “ткать текст”). Текст первичнее дискурса. Дискурс – то, для чего текст изготовляется и чему он затем всецело принадлежит каждой своей репликой, которая всегда маркируется своеобразным дискурсивным клеймом, функция которого в том, чтобы с легкостью отличить одного владельца от другого. Поэтому кому принадлежит дискурс? Тому, кому он нечто из себя называет, тому, кто говорит или тому, кто способен клеймить дискурс, расставлять в нем бесчисленные знаки-таро, знаки принадлежности к власти дискурса (М.Фуко).
§4. Текст как медицинское заключение: ортография и поэзис складки
Складка представляет из себя современный аналог русского поля экспериментов, поля зачехленного и чахлого, поля, с отсутствующим лендлордом, взгляд которого(-ых) плавно рассредоточен по редким достопримечательностям и заморским диковинкам. Поэтому складка возможна лишь как примечание. Меч-кладенец складки иссекает голограммы, проходит сквозь, в лучшем случае лишь вызывая кроткое замыкание в сети отдельно взятого нейрона головного мозга, а чаще лишь засвидетельствовав свое почтение к и без того почтительным до неузнаваемости нервам спинного. Многочисленны и безноги цветные биллиардные шары складки, возможно ли описать их у(се)ченым языком Екклезиаста? Язык науки, язык ученых усечен в самом своем основании, и потому нем как стерлядь - рыба без костей, с одними хрящами, и столь же съедобен, ведь ничто не мешает глотанию. Язык науки уже проглочен подобно рогалику. Это вторая причина того, что наука нема. Она ничего не говорит, даже прибегая к спецсредствам ей редко удается издать-исторгнуть из себя хотя бы что-то членораздельное. Разделять и властвовать не ее удел, безязыкой. В научном дискурсе – свои прорехи, свои лузы, в которые она с успехом забрасывает свои стратосферные спутники. В этом – большой утиный праздник науки. Ее большая победа. На мой взгляд, этот взлет научного дискурса, наученного философией летать на заре Эры Научности, когда максимумом и пределом научного дискурса было долгое и протяжное “э-э-э”, которое и поныне в серьезной научной дискуссии всплывает как архаизм, своей тщедушностью открывающий незалатанное днище научного дискурса, его исток и исход.
§5. Заключение в заключении (записки джина из Бутырки): внутреннее и внешнее в философской рефлексии
Сбои в кратком описании основных результатов работы приводят к тому, что ультрановые искания начинают опоясывать собственно заключение. Быть в скобках – значит быть заключением. Введение и заключение – структурные скобки всей этой и любой иной подробной школьной работы. Скобка введения и скобка заключения видным и ключевым образом предопределяют разряд философского письма.
Намеченная в исходе работы цель – раз- и от-работать зычный способ проблематизации языка философии, в котором (способе) не столько важно насколько он нов или стар, равно как и то, укладывается ли он в прокрустово ложе любой иной бинарной оппозиции, сколько то, что происходит с философией в момент подробной обструкции по адресу ее лемм, - достигнута врасплох и полностью самой тканью текста.
Если рассматривать тело текста наподобие живого тела, то следующим положительным ресурсом и фактом, достигнутым в работе является осуществленность попытки усмотреть в цезурах традиционного языка философии – степень его цензурированности собственными императивами, регулятивами и инвективами, цементирующими философский дискурс, но отнюдь не сминающими его в складку, как это показано текстом работы.
Концепт складки реализовывался на всем пространстве текста, начиная с элементарных семантических, грамматических и морфологических блок-схем дискурса, и заканчивая тетическим дискурса складки в целом. При этом тетическое в дискурсе (собственно высказывание мысли, желающей сказать нечто) выполняло троякую функцию фигуры троянского коня в древнегреческом героическом эпосе. Демонстративность тетического, его привычность, общедоступность (герменевтика текста) и общезначимость призваны были, дополняя друг друга, создать в тексте серийность читаемого, его длительность и неоднократную повторяемость, выполняя тем самым задачу анестезии чтения. Эта функция – аналог новокаиновой блокады дискурса. Второе. Поскольку тетическое в дискурсе складки не играет главенствующей роли, то периодичность тетического в складках дискурса – намеренно истощена и выхолощена (аналог ленинградской блокады: тетическое в складчатом дискурсе каннибализирует самое себя). Третье. Каждый блок текста – раковый corpus (Нанси едва ли был знаком с Солженицыным), блок ада. “Satan porte la pierre pour l`edifice du Seigneur”. Mistrale “Netro”. (“Сатана приносит камень для строения Бога”). Позитивность философского проекта обструкции языка философии – дело ближайшего будующего, когда вопрос о доверии к языку, равно как и его презумпция невиновности будут изъяты из философского обихода и оставлены на полях учебников по философии.
Возможно ли рассмотреть предлагаемый текст в фокусе перспективы? Требуется ли вообще для его прочтения помощь оптических метафор, если в нем самом нет ни одной метафоры, ни одного ни переноса, ни подмены, ни замены смысла? Перспективность складчатого дискурса в том, что он проходит сквозь весь спектр семантических отложений гуманитаристики, не задерживаясь в их горизонтности, ризоматически сминая и скрадывая их горизонтальность.
Слово живое – письмо во власти машин желания, потому и живое, что живет жизнью желания. Письмо по долгу – долговая расписка, расписываться подолгу, тщательно прописывая каждый шаг, каждую одинокую мысль, чем-то знакомую. Око мысли: мыслить глазом, оптическими конструктами. Около мысли – мыслить не столько “ближайшее” (М.Хайдеггер), сколько краевое, то, что рядом с мыслью в мышлении, но все же это не совсем мысль и уж точно не мышление. Мысль, не способная заметить, - в силу своего функционирования по типу оптического (как замечает глаз), - того, что находится около нее, но не рядом с ней, не в одном ряду, не нечто одного с ней порядка.
Канон – письмо вне машин желания. Техника канонизации письма, изъятия его из-под покровов и альковов желания и обращение на службу тому или иному делу. Тело, таким образом, мутирует в дело, в котором вновь обнаруживает себя неизбежность бинарных пропозиций тетического, стертая до того в границах одного – тела дискурса тления. Предел и экстремум здесь – тело работающее, тело, задействованное делом в работе по канонизации имеющихся тел.
§6. Метаморфозы складки внутреннее-внешнее
в академическом дискурсе
1. Демаркация академического и философского дискурсов.
Под пристальным вниманием настоящего исследования находится т.н. «барочная складка» (Ж.Делез), пролегающая внутри традиционных бинарных пропозиций (их поменяли местами) – тетически организованных суждений, ориентированных на высказывание, приписывание и прописывание демаркаций в тексте, основанном на бинарных оппозициях внутреннего-внешнего, тетического-нететического, рационального-иррационального, формы и материи, философии и литературы, подлинного и неподлинного.
Подобный философский стандарт выполняет в академическом дискурсе в первую очередь знаковую функцию, ритуализированную наподобие обряда (поднятия штандарта в дисциплинарно-мифологическом модусе восхода солнца и начала нового (дня, действия, задачи, команды и т.д.)). Оставаясь в этом модусе, представляется возможным работа не столько с дискурсом складки, сколько с дискурсом излома, поскольку демаркационная брешь философского концепта (извечный изъян в его дефинициях) определяется характерной изломанностью, которая привносится в дискурс складки извне. Например: создание на изломах дискурса иллюзии его связности, последовательности, периодичности и законченности (символика шара, как идеальной фигуры, с отсутствующими складками, законченной и последовательной, как нельзя лучше иллюстрирует эту академическую мечту дискурса). Ломка дискурса происходит как раз в точках его соприкосновения с иным, чуждым ему и незнакомым. По этой причине властный дискурс – дискурс, в той или иной степени облеченный властью, вынужден прибегать к цензурирующим стратегиям, с тем, чтобы избежать столкновения и возможного смешения с иным.
Основная опасность, извлекаемая академическим дискурсом из собственных интеллектуальных запасников – опасность потери самоидентификации. В этом есть как положительные, так и отрицательные стороны.
Во-первых, власть дискурса, если следовать мысли М.Фуко (“Порядок дискурса”), вовсе не дискурсивная его характеристика, а значит, и об этом уже шла речь выше, она не есть свойство дискурса, взятое в аспекте его существенности. Скорее это некая случайность, сравнимая со случайностями эмпирического порядка, как, скажем, то обстоятельство, что человеческий глаз способен различать цвета, а не видит мир черно-белым, в отличие от ряда других млекопитающих. В этом смысле верно, что власть – наиболее странный и загадочно непредсказуемый предикат дискурса. Существует совершенно определенная корреляция между цензурной рамкой дискурса и степенью его погруженности во власть (наименее цензурированные дискурсы, как правило, вообще не имеют права голоса). Здесь мы подходим ко второму важному обстоятельству, связанному с соотношением власти, дискурса и цензуры, как техники дискурсивного престидижитаторства (сглаживания изломов, от перманентного неизбежного столкновения с иным).
А именно, к рассмотрению собственно дискурсивных качеств, вне их зависимости от властного механизма цензуры, то есть от социо-культурных и политических размышлений перейдем непосредственно к философскому анализу, беспристрастному в силу удаленности из сферы рассмотрения тех черт дискурса, которые еще могли бы вызывать и разжигать страсти в нем самом.
Итак, философское абстрагирование трансформирует “изломы” дискурса в своеобразные “шарниры” поверхности с уже сглаженными изломами. Все это, разумеется, не более, чем оптические иллюзии дискурса, закавычивание и раскавычивание (см. Заключение: пассаж о структурных скобках научной работы) которых выступает связующим звеном между оптикой глаза и моторикой письма.
Оптика глаза связана с видением, в котором только и возможны иллюзии и видения. Такая оптика в самом своем основании уже мыслиться, исходя из визуальных возможностей видимого. Несамостоятельность оптики глаза коренится в ее зависимости от объекта зрения, от видимого. Искусственный глаз, в этом смысле, являет собой новую оптику с обратной перспективой, поскольку этот глаз – мертв, он не видит, для него нет ничего видимого, он не способен ошибиться и иллюзии – не его стихия (компьютерный глаз, глаз искусства). И тем не менее, сам этот глаз – видим и в этой видимости видны и его недостатки, например, то, что он – слеп. Искусственный глаз, не имея оптических критериев зрения, не имеет никакой оптики, окуляр (см. “Письмо без адреса”)
§7. Складка и цензура
Рассмотрим механизм цензуры, выступающей в качестве демаркационного ориентира дискурсивного построения. Цензура-до и цензура-после. Из логики делезианской модели различия (“Различие и повторение”) вытекает немаловажное для нашего исследование обстоятельство, фиксирующее отсутствие в тексте различия как такового, а также факт его привнесенности в текст. Привнесенность различия в текст находится в жесткой корреляции с актом обнаружения и демонстрации очевидности этого различия в тексте. Текст, вступая в игру различий и повторений, обнаруживает себя в пространстве чтения, в котором, собственно, и задействована деконструктивная операция разнесения (differance).
Таким образом, осуществляется переход от бинарных оппозиций к множественному различению, представленному в академическом дискурсе в качестве фиксации и демонстрации в виде тезисов (бинарных пропозиций) концептуальных положений той или иной теории, того или иного исследования. Набор концептов, фигурирующих при этом как отправная точка исследования, а также, как его дискурсивное обоснование, представляет из себя простейший операциональный каркас дискурса. Построение и прописывание дискурсивного каркаса основано, в свою очередь, на изломе, которому последовательно подвергается ткань дискурса.
Иначе обстоит дело с письмом, как привнесением каллиграфического жеста (жеста, в котором “графо” подразумевает “калли”3[3], пре-гуттенберговская традиция красоты графического). Различения, вносимые вписыванием, не влекут, тем самым, создание концептов или оппозиций, что, вообще говоря, предполагает наличие известной дистанции между складками философского письма и изломами дискурса академического, насыщение которого происходит за счет изобретения новых концептов, по существу имплицитно обоснованных самой парадигмой “полагания” тетического в дискурс и не требующих никаких дополнительных методов обоснования, помимо уже имеющихся и освидетельствованных в данной парадигме. При этом требование обоснования выступает методом парадигмы, а не свойством дискурса.
Из уже сказанного следует, что философское письмо – один из немногих оплотов вне-парадигмальности и неподотчетности технологиям цензуры, в котором в этой ситуации, адаптированной к академическому дискурсу философствования, пребывает мысль философа. Иными словами, речь идет не об оценочных характеристиках того или иного дискурса, его преимуществах или несоответствиях, но о том философском ресурсе, который им может быть предоставлен.
§8. Философские ресурсы письма
Выше уже было упомянуто о традициях письма и проблемах, возникающих в этой связи. Основная трудность здесь в том, что рассмотрение вопроса о письме ни не шаг не приближает исследователя к самому этому письму. Рассмотрение письма внутри философского дискурса в идеале дает лишь эвристику философских концептов письма (Ж.Деррида, Ж.Батай). Но само философское письмо при этом нисколько не трансформируется. Изменить эту ситуацию можно только подвергнув философское письмо радикальной обструкции со стороны, на первый взгляд, инородных ему дискурсов (СМИ, реклама, интернет, черно-белый PR и т.д.) – тех типов дискурсов, развитие которых сейчас активно финансируется и которые, в силу этой и ряда других причин имеют сейчас картбланш, очень богатый дискурсивный ресурс, который практически никак не используется академической философией. И на данный момент представляет интерес, по преимуществу только для маргинальных стратегий философского поиска.
Кошмило О.К.
СТРУКТУРА МИРА И ЕЁ РИТМИЧЕСКАЯ ПУЛЬСАЦИЯ
В СТРУКТУРАЛИЗМЕ ДЕЛЕЗА.
Серия текстов Жиля Делеза выстраивается в такой текст, в котором непрерывно повторяется описание всегда одной и той же структуры различия. Серийный дискурс Делеза стремится ко все более точному схватыванию структуры, становление которой происходит в направлении зазора между "идеальной" и "реальной" проекциями этой структуры. То есть, уточнение нацелено на их схождение и пересечение. Теоретизирование Делеза идет в режиме циклообмена бинарными крайностями в преодоление конфликта между цикличностью традиционной диалектики и линейностью трансцендентальной "логики вывода". Чего бы ни касалась структурная аналитика Делеза, любой предмет опыта она редуцирует к биполярности и к "парадоксальности" отношения внутри этой биполярности.
Прежде всего, Делез начинает с выделения сообществ сингулярных элементов, которые, по принципу чередования противоположностей выстраиваются в циклические серии. Серии также коррелируют друг с другом и образуют молекулярные и молярные серии.
Главными принципами структурных отношений в аналитике Ж. Делеза выступают различие и повторение, предельно полное описание которых дано в одноименной книге. Здесь Делез показывает сцепление различия и повторения, которое выстраивается в определенную фигуру, которая функционирует по "закону обратного соотношения".
В самом центре этой фигуры пребывает "непонятийное" и безобъектное Различие как эссенция, чьей экзистенцией является Повторение. Различие есть то, что есть как Повторение. Поскольку всякое "что" есть различие — оно "различие в себе". Поскольку всякое "как" есть повторение — оно "повторение для себя". Если различие есть "проведение различия", то, чем оно проводится есть вертикальная ось, и различие есть вертикальная тенденция, которая интегрирует проекции различия в единый горизонт, который Делез называет серией. Серия — это интегрированное единство сингулярностей, среди которых надо различать элементы и случаи.
Вся схема мира сводится Делезом к "вечному" повторению "одного и того же различия. Такая схема содержит помимо явных ницшевских реминисценций аллюзии к философии Гегеля, возводившего "противоречие" в онтологический принцип. Структура заключается во включенности инстанции различия в зазор между конституируемыми им крайностями, которых всегда, как минимум, две, различие –это “такой разрыв, при котором оба разорванных элемента отбрасывают и активизируют друг друга”[1]) Двоица — это матрица и рамка всякого отношения внутри элементарного различия. "Функция противопоставления состоит здесь в том, чтобы ограничить в правах элементарное повторение, замкнуть его на самой простой группе, свести минимум до двух"[2]. Поскольку изначальное различие — это различие на два, пополам, а пара — форма изначального повторения, то изначальное различие и изначальное повторение — одно и то же. А также "центр" различия и "центр повторения" — это одна и та же точка как центральная точка. Это центральная точка изначальных различия и повтора выступает как "означаемое", для которой "есть две означающие вещи" (Иоахим)[3]. В этом смысле Делез различает два порядка означающих как "два реальных ряда, сосуществующих относительно сущностно иного виртуального объекта"[4]. Таки образом, каждый из этих реальных рядов представляет собой проективную серию, одна из которых по способу отношения к идеальному есть идеальная и потому внутренняя, другая — по способу отношения к реальному есть реальная и внешняя[5]. Идеальная серия свивается вокруг вертикальной оси в спираль идеальной репрезентации, но и бесконечная репрезентация напрасно умножает точки зрения, выстраивает их в ряды; эти ряды все так же подчинены условию сходимости на одном и том же объекте, на одном мире. Реальная серия развивается вдоль горизонта в спираль реальной репрезентации, но "бесконечная репрезентация напрасно умножает образы и моменты, располагая их кругами, способными к самодвижению; у этих кругов остается единый центр — центр большего круга сознания"[6]. Центр различия и повторения, являясь основанием конвергенции, схождения идеального и реального, вертикального и горизонтального, центрального и периферийного рядов, является "парадоксальным" образом и условием их расхождения, дивергенции. Дело в том, что этот "парадоксальный элемент", "нонсенс", "виртуальный объект" и т.д. конституируется исключительно за счет различия этих двух означающих серий, конституируется именно благодаря принципиальному несовпадению этих рядов, из-за фундаментальной блуждающей "асимметрии". "Виртуальный объект — частичный не просто потому, что ему недостает оставшейся в реальном части, но в себе и для себя, поскольку он расщепляется, разделяется на две виртуальные части, одной из которых всегда недостает другой"[7]. Виртуальный объект в темпоральном плане "всегда был", а в тоническом — "он там, где его находят, лишь при условии, что его ищут там, где его нет"[8].
Мы видим, что структура по Делезу трехсоставна: она состоит из "децентрированного центра" и двух различаемых им проекций — вертикальной проекции как интроекции и горизонтальной проекции. Эта структура напрямую соотносится со временем. Однако она не просто накладывается на время, но каждая составляющая структуры строго темпорально акцентирована. Децентрированный центр конституирует непрерывную функцию Теперь, вертикальная проекция сжимает прошлое, а горизонтальная проекция разжимается в будущее.
Поскольку центр различия конституируется как парадоксальная конъюнкция "быть и не быть", то его проекция размыкается в периферию, для которой конституитивной является дизъюнкция "быть или не быть". То есть, парадоксальный центр содержит одновременно некое номинальное (идеальное) "быть", "есть" и наличное (реальное) "есть", и содержит он их как одновременное различие, которое проецируется в диахроническое повторение по типу "либо есть, либо нет", "Fort/Da", располагающееся по периферии. То есть, темпоральной модификацией различия является синхрония, а темпоральной модификацией повторения является диахрония. Периферийная проекция центрального различия обнаруживает наличное, реальное "есть" в есть, а номинальное, идеальное "есть" в "несть". То есть, периферия составляется чередованием "есть" и "несть".
Но это касается только ряда реальной периферии. А мы помним, что с ним коррелирует другой ряд как идеальный или внутренний. И их корреляция основана на принципиальном несовпадении, асимметрии. В то время, когда возникает элемент в реальном ряду, то есть, некая вещь, в то же самое время исчезает его идеальный эквивалент в ряду идеальном как некое соответствующее ей имя. И идеальная серия, и реальная серия коррелируют относительно инстанции, которая самоконституируется как "форма пустого времени" по ту сторону номинальной синхронии и реальной диахронии, ни одна из которых не является "исходной" или "производной". Дело в том, что именно своим различием они утверждают эту инстанцию как центр своего различия. Обе серии скользят друг относительно друга, с одной стороны, как ряд "пустых мест", а, с другой стороны, как ряд "пассажиров без места".[9] Инстанция, учреждающая одновременность отсутствия и присутствия, образует два ряда пассивных синтезов, и, "если первый пассивный синтез относится к настоящему" и "учреждает "эстетику", "то второй — к прошлому" и определяется "как эквивалентный "аналитике". (Поскольку прошлое существует в идеальной форме памяти, то его бытие носит исключительно номинальный или "виртуальный" характер, и в прошлое мы в состоянии проникнуть только мыслью в режиме вос-по-минания. Традиция этой гносеологической парадигмы протянулась от платоновской теории "припоминания" до гегелевского Erinnerung. Мышление — это всегда назад-мышление или вовнутрь-мышление). Ряд прошлого и ряд будущего — это дуги некогда распавшегося круга "живого настоящего". "Дело в том, что ряд реального (или настоящих, переходящих в реальное) и ряд виртуального (или прошлого, сущностью отличного от всех настоящих) образуют две расходящиеся круговые линии, два круга, или даже две дуги одного и того же круга по отношению к первому пассивному синтезу Габитуса"[10].
Затем Делез приводит эти три составляющие структуры времени к соответствию триаде структуры "бессознательного" Фрейда. Фрейд сообщает бессознательному три великие неведения: “Нет”, “Смерть” и “Время”[11]. "Нет" — повторение в настоящем или собственно Габитус; Смерть — повторение в прошлом или Эрос; и Время — это повторение в будущем или Танатос.
Поскольку серия прошлого есть лингвистический поток имен, а серия будущего — оптический поток лиц, время есть либо пауза, задержка, отсрочка со стороны внешнего, либо спешка, опережение со стороны внутреннего в отношения между ними. И пауза спешки и задержки времени — это пауза нехватки. И здесь Делез солидарен с мыслью Деррида о различии "начала" и "изначального", так как "изначально отсутствие начала"[12]. Ибо "нет более оригинала, но вечное мерцание, в котором в свете отклонения и возвращения рассеивается отсутствие первоисточника".
Рассмотрим некоторые серии, которым в работах Делеза отведена роль слоев, чье скольжение друг относительно друга в режимах схождения и расхождения определяет всю динамику внутримировых процессов. Множество серий, взаимно переплетаясь, конденсируясь в ризому, тем не менее сохраняют свою дуальность, сохраняют различие на две большие группы серий — оптическую и семантическую, причем в последнюю вписана и экономическая серия, поскольку ее функцией является функция экономического означающего. Вообще, основным конституэнтом всякой серии выступает центральный символ, который есть одновременно и как символ центростремительной идентификации, чье движение выстраивается по вертикали, и как символ центробежной интеграции, чей ход прочерчивается линией горизонта.
Оптическая серия. Идущее в вертикальной сфере складывание или сведение угла зрения нацелено на схватывание идеала нулевой оптической формы. Здесь идет синтезирование "зерна" в смысле оптической "зернистости" как единицы оптического разрешения. Схватывание единичного объекта осуществляется как проекция структурной "формальной" вертикали на "содержательный", "объективный" горизонт сущего. Непрерывное направленное к нулю уточнение оптической формы, с помощью микро- и макроскопического инструментария развертывает объективный горизонт от мельчайших элементарных частиц до самых дальних звезд, причем развертывает его в совершенно гомогенную однообразную линию, лишенную какой бы то ни было разнородности. Высота вертикали синтезирования оптической единицы h равна (или почти равна) радиусу (лучу) размаха "паноптического" горизонта, в котором объективируются серии поднадзорных объектов R так, что выполняется соотношение
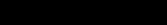
где j - угол схождения лучей зрения, коррелятивный h;
R - радиус расхождения паноптического горизонта.
Экономическая серия обуславливается возрастанием всеобщности денежного эквивалента, которое увеличивает пространство так называемого Мирового рынка, товарооборота, рынка труда, ведет к глобализации мировой экономики, которая начинает определять политическую реальность. Режимом обобщения экономического эквивалента является создание знаменателя, или символической, или условной единицы денежного измерения, на точности которой основана точность сравнения двух числителей в качестве товаров в процессе операции обмена. Обмен, лежащий в основании динамики труда и капитала, непосредственно относится к метафорическому замещению идеальным означающим реальности. Стоимость как экономическое означающее означаемого труда есть символическая мера вещи. Чем интенсивней экономический символ, тем экстенсивней мера его интеграции. Так, интенсивность доллара вовлекает в орбиту своей интеграции уже весь мир.
В социальной серии, которая выстраивается при рассмотрении Делезом аналитики "соотношения власти и знания" Фуко в одноименной книге, особый статус получает дискурс, чья роль заключается в том, чтобы стабилизировать сингулярные аффекты прочерчиванием "общей линии силы" (линии горизонта), интегрировать сингулярности в серии. Равноисходные серии социальных процессов и центрирующие их инстанции как "центры господства" регламентируют "жизненный мир" в системе социальной стратификации. "Интегрирующие факторы, движущие силы стратификации, образуют общественные институты: Государство, а также Семью, Религию, Производство, Рынок, даже само Искусство, Мораль..."[13].
Вертикальная диаграмма власти коррелирует с горизонтальными стратами знания. Способ такой корреляции Делез называет кодетерминацией. И если "знание… стратифицировано, архивизировано, наделено относительно жесткой сегментацией", то "власть, напротив, диаграмматична: она мобилизует нестратифицированные виды материи и функций и работает с весьма гибкой сегментарностью, ведь она проходит не через формы, а через точки, единичные точки, которым всякий раз отмечается применение силы…"[14]. Власть "пускает в оборот" дискурсивное означающее тем, что наполняет его своим властным содержанием как значением, символическим значением. Так, круг государства зацикливается на символе государственной власти или на символической фигуре монарха, горизонт рынка центрируется долларом, и т.д. В знаменитом манифесте "Капитализм и шизофрения" Делез (в соавторстве с Ф. Гваттари) прописывает кодетерминацию "машин желания" и "тела без органов". "Тело без органов" представляет собой пассивный территориализированный горизонт социальных объектов как институтов, интегрируемых в "консервативно"-периферийную линию Закона, округу которого центрирует единица той или иной социальной интеграции. Производство такого центрального символа идет в "революционно"-вертикальной сфере Желания-Власти. Диалектика Закона и Желания осуществляется как борьба "возрастания" (Ницше) "трансгрессии" (Батай) вертикального желания и "сохранения" или "сдерживания" этого желания периферией закона. Желание, центростремительно синтезируя в стремлении к центру своей истины очередной сингулярный объект, проецирует его на линию центробежного закона, и тем самым трансгрессирует за его пределы. Закон в своей охранительной функции, с одной стороны, вынужден адаптироваться к желанию, перестраивая "задним числом" внезапно возникшие лагуны, а, с другой стороны, закон вынуждает желание переступать себя. Система желание-закон работает по тому же принципу, что и диалектика раба и господина, где осью, структурирующей пирамиду социальной иерархии является вертикаль желания, а периферией этой пирамиды является линия признания, в феноменах которого проявляет, манифестирует себя желание.
Признание относится к желанию формально также, как следствие к причине, то есть, объективно это след виртуального желания, и только по признанию желание измеряется. И здесь социальная серия переходит в серию психологическую. Производство желания как "самопроизводство бессознательного" осуществляет себя в расщеплении бытия как семантико-оптического коррелята. Это расщепление бытия связано с неким онтологическим преступлением, в котором одновременно присутствует "убийство отца" и "инцест с матерью". Место этого преступления означается фрейдовским понятием Id. Формы субъективности возникают на пересечении идеальных проекций желания, черпающего свое начало в нулевом Ничто, и тангенциальных страт закона (функция Super-Ego). Психологический режим субъективности осуществляется в двух режимах: параноидальном центробежном волнении от центра к периферии как волнении страха, и шизоидном центростремительном волнении от периферии к центру как волнении желания. Имеет место когерентность этих душевных колебаний. Высокочастотное волнение желания и низкочастотное волнение страха ковариантны. Их взаимодействие выражается следующим соотношением
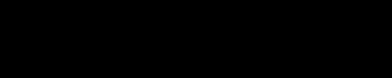
Садомазохистская косистема, анализируемая Делезом в "Представление Захер-Мазоха", выявляет структурные особенности человеческой субъективности. Вся аналитика мазохизма доказывает равноправие пассивной составляющей структуры субъективности наряду с ее активной составляющей; субъективность — не голая активность, но теснейшая корреляция активности с пассивностью как условие желания.
Чтобы стать садистом как активным агентом желания и сексуальности, необходимо одновременно становится мазохистом. Инцест и отцеубийство взаимодополнительны. Инцест как мазохистская идентификация с матерью ("отожествление") невозможен без одновременного отцеубийства как садистской идентификации с отцом ("идеализирующее" замещение). Желание возникает в том садомазохистском зазоре, который есть "открытие возможности сексуального удовольствия"[15]. Более того, этот зазор и есть сама такая возможность. Нарциссическое Я возникает только из пересечения двух взаимоотрицательных тенденций: мазохистском центробеге к матери и садистском центростремлении к отцу. В каждой из этих расстановок имеет место соответствующее акцентирование закона. "В случае садизма отец становится над законом в качестве верховного принципа, избирающего мать своей жертвой par excellens. В случае мазохизма весь закон переносится на мать, которая исторгает отца из символической сферы"[16]. Садизм и мазохизм представляют разнонаправленное расслоение относительно инстанции Id как инстанции "фаллоса кастрации"; садист центростремительно "вытесняет" отца, нарциссически идентифицируясь с законом, мазохист центробежно "отклоняет" мать, идентифицируясь с законом инцестуозно; оба, таким образом, открывают себе путь к наслаждению. Если садист наслаждается непосредственно устранив препятствие, то мазохист опосредовано, "обходным путем" получает наслаждение вменив себе "виновность", несет "кару", ибо только "кара разрешает от страха виновности"[17]. Поэтому садист в стремлении к наслаждению маниакален, мазохист — обесессивен. Садист пытается заместить инстанцию кастрации, перед которой он испытывает страх и отвращение ; мазохист готов пожертвовать собой спасаясь от кастрации, переживая ее в комплексе.
В этой же работе Делез говорит о "трансцендентальности" принципа удовольствия, указывая на его особую функцию связывания (Bindung)[18]. Поскольку "одно только связывание возбуждения и делает его разрешимым в удовольствие, то есть обеспечивает возможность его разгрузки", и "именно связывание делает возможным удовольствие как принцип"[19], связывание или синтез выступают как "трансцендентальная форма" эмпирического наслаждения. То есть за всяким наслаждением стоит синтез, а всякая боль симптоматизирует анализ. Эротический синтез и танатический анализ, центростремительный синтез Эроса и центробежный синтез Танатоса суть стороны единого Инстинкта смерти, и их непрерывное расхождение является условием его непрерывной идентичности. И, если "инстинкт" — это регулярность, непрерывность, утверждение, а "смерть" — это прерывность, различие, уничтожение, тогда структура, описываемая Делезом абсолютно парадоксальна — это некая непрерывность прерывания, идентичность различия, жизнь смерти, если угодно; то есть структура — это невозможное сочетание абсолютных противоположностей в качестве их источника. И вот минимальное условие структуры вообще: по Делезу:
здесь должны быть по крайней мере две разнородные серии, одна из которых определяется как "означающая", а другая — как "означаемая",
каждая из серий задается терминами, существующими только посредством отношений, переживаемых между ними...".
Две разнородные серии сходятся к парадоксальному элементу, выступающему в качестве их "различителя"[20].
Все это позволяет сделать некое обобщение. В целом модель мира в структурализме Делеза выглядит так. Начальный круг Мира вдруг размыкается и начинает двигаться в двух перпендикулярно-противоположных направлениях: с одной стороны, он центробежно развивается в горизонтальной плоскости, образуя периферию, с другой, он центростремительно свивается в складку вертикали, образуя центральную область, причем так, что разорван в прямую круг, эти спирали, сводящие круг в точку, строго кодетерминированы. Линия горизонтальной спирали, как линия Внешнего протекает в распределении сегментарно-дифференцированных объектов в их экстенсивности и протяженности. Линия горизонта связывает периферию объектов, интегрируя их в серии дистрибуторного единства, тогда как диаграмма вертикали формирует канал интенсивного схватывания сингулярного объекта. Вертикальная складка Внутреннего синтезирует единицу измерения, которая является функтивом угла между сторонами луча зрения j, в меру которого является сингулярный объект. Углу j коррелятивен радиус R поля связанных в периферийные серии объектов так, что имеет место соотношение:

В силу пропорционального соотношения угла j и R, при уменьшении угла j идет возрастание R, то есть, при приближении угла зрения j к нулю (0), понимаемым как "уточнение", происходит возрастание радиуса поля зрения R как "расширение". Вертикаль единицы измерения складывается к 0° как точке совпадения лучей радиуса, тогда как линия горизонта выпрямляется, или развертывается к касательной или углу в 180°.
Имеет место субъект-объектный оборот – по вертикали субъект интроецируется в центр, осуществляя самоидентификацию, мера этой идентификации по горизонтали проецируется на периферию, порождая новый объект. Игра центра и периферии есть диалектика означающего и означаемого, скручивающегося и раскручивающегося, соответственно, вокруг одной и той же оси.

[1] Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. Москва. 1998. С. 62.
[2] Делез Ж. Различие и повторение. СПб., 1998. С. 97.
[3] Там же. С. 122.
[7] Делез Ж. Различие и повторение. СПб., 1998. С. 130.
[8] Там же. С. 132.
[9] Делез Ж. Логика смысла. М., 1995. С. 60.
[10] Делез Ж. Различие и повторение. СПб., 1998. С. 141.
[11] Там же. С. 146.
[12] Делез Ж. Различие и повторение. СПб., 1998. С. 157.
[13] Делез Ж. Фуко. М., 1988. С. 103.
[14] Там же, с. 101.
[15] Делез Ж. Представление Захер-Мазоха // Венера в мехах. Л. фон Захер-Мазох. Ж. Делез. З. Фрейд. М., 1992. С. 284.
[16] Делез Ж. Представление Захер-Мазоха // Венера в мехах. Л. фон Захер-Мазох. Ж. Делез. З. Фрейд. М., 1992. С. 270.
[17] Там же. С. 281.
[18] Там же. С. 293.
[19] Там же. С. 293.
[20] Делез Ж. Логика смысла. СПб., 1995. С. 70-71.
