Жан-Поль Сартр бытие и ничто опыт феноменологической онтологии Номера стр. = В конце стр
| Вид материала | Документы |
СодержаниеЧасть первая Глава 1. ИСТОЧНИК ОТРИЦАНИЯ К оглавлению |
- Сартр Жан Поль. Бытие и ничто: Опыт феноменологической онтологии, 47931.06kb.
- Закон приморского края, 196.64kb.
- Домашнее задание по английскому языку 26 класс, 14.86kb.
- Методика лабораторных экспериментов 50 стр, 147.5kb.
- Жан-Поль Сартр, 2552.6kb.
- Жан Поль Сартр. Слова, 1929.04kb.
- Динамический план произведения- 8 стр. Техническое овладение произведением 9стр. Игра, 174.25kb.
- Домашнее задание для учащихся 7-ых классов Предмет, 18.53kb.
- Игра «Слабое звено». Южная Америка» стр. 38-47 Заседание клуба коапп в Северной Америке, 72.32kb.
- Домашнее задание Русский язык по тетради стр. 1-24 Украинский по тетради стр. 1-8, 160.62kb.
Часть первая
| ПРОБЛЕМА НИЧТО |
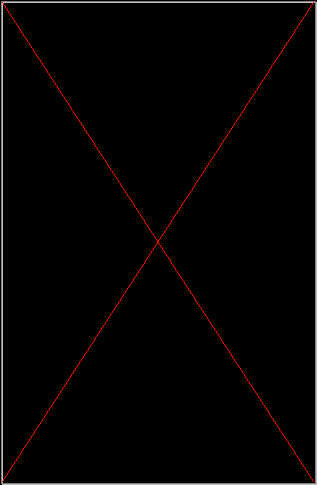 |
==41
00.htm – glava03
Глава 1. ИСТОЧНИК ОТРИЦАНИЯ
1. Вопрос
Наши исследования привели нас в недра бытия. Но они же и завели в тупик, поскольку мы не смогли установить связь между двумя областями бытия, которые обнаружили. Несомненно, мы выбрали не тот угол зрения для проведения расследования. Декарт оказался перед аналогичной проблемой, когда занимался отношением души и тела. Он тогда советовал искать решение этой проблемы на почве действительности, где мыслящая субстанция действует в единстве с протяженной, то есть в воображении. Его совет драгоценен. Конечно, мы озабочены не тем и понимаем воображение не так, как Декарт, но что можно сохранить, так это его нежелание сначала разделить два термина отношения, чтобы потом попытаться их снова соединить: отношение есть синтез. Следовательно, результаты анализа не перекрываются моментами этого синтеза. Г-н Лапорт говорит, что абстрагируют тогда, когда представляют в отдельности то, что вовсе не может существовать отдельно. Конкретное, напротив, есть целостность, которая может существовать только сама по себе. Гуссерль того же мнения: для него красное есть абстрактное, так как цвет не может существовать без фигуры. Зато "вещь" со всеми ее пространственно-временными определениями есть нечто конкретное. С этой точки зрения сознание есть нечто абстрактное, поскольку оно содержит в-себе как онтологическое начало в самом себе и, соответственно, феномен есть тоже абстрактное, потому что он должен "явиться" сознанию. Конкретное – не что иное, как синтетическая целостность, в которой сознание как феномен образует лишь один из моментов. Конкретное и есть человек в мире, то особое объединение человека с миром, которое Хайдеггер, например, называет "бытие-в-мире". Вопрошать "опыт" об условиях его возможности, как это делает Кант, совершать феноменологическую редукцию, как это делает Гуссерль, который превратил мир в ноэматический коррелят сознания, – значит произвольно начинать с абстрактного. Но восстановить конкретное посредством сложения или организации элементов, которые от него абстрагированы, удастся не больше, чем в системе Спинозы получить субстанцию из бесконечного сложения ее модусов. Отношение между областями бытия есть простое разбрызгивание, сделавшееся частью их структуры. Мы раскрываем его с первого осмотра. Достаточно открыть глаза и со всей наивностью вопрошать эту целостность, которая есть человек-в-мире. Описывая эту целостность, мы и могли бы ответить на следующие два вопроса: 1) Что это за синтетическое отношение, которое мы называем бытием-в-мире? 2) Какими
==42
должны быть человек и мир, чтобы между ними это отношение было возможно? По правде говоря, оба вопроса переходят друг в друга, и мы не надеемся ответить на них по отдельности. Но всякий человеческий образ действия, будучи поведением человека в мире, может сразу выдать нам человека, мир и отношение, которое их объединяет, только при условии, чтобы мы рассматривали эти формы поведения в качестве объективно постигаемых реальностей, а не как субъективные привязанности, открывающиеся только рефлексии.
Мы не ограничимся исследованием какого-либо одного образа действия. Напротив, мы попытаемся описать многие из них, и, переходя от одного к другому, проникнуть в глубокий смысл отношений "человек-мир". Но прежде всего условимся выбрать наиглавнейший способ действий, который мог бы служить нам путеводной нитью исследования.
А ведь сам поиск дает нам желанный образ действия. Этот человек, каков есть я, если я уловил его таким, каков он есть в этот момент в мире, – удерживает, я свидетельствую, перед лицом бытия установку вопрошания. В тот самый момент, когда я спрашиваю: "Есть ли образ действия, который мог бы раскрыть мне отношение человека к миру?" – я ставлю некий вопрос. Этот вопрос я мог бы рассматривать объективно, поскольку неважно, сам ли я задаю его или мой читатель спрашивает вместе со мной. Но, с другой стороны, он (вопрос) – не просто объективная совокупность слов, начертанных на этой странице: он безразличен к знакам, с помощью которых его выражают. Словом, это человеческая установка, наделенная смыслом. Что раскрывает нам
эта установка?
Во всяком вопросе мы удерживаем себя перед лицом бытия, которое вопрошаем. Следовательно, всякий вопрос предполагает бытие, которое спрашивает, и бытие, которое спрашивают. Он не есть первоначальное отношение человека к бытию-в-себе, а, напротив, удерживается в пределах этого отношения и предполагает его. С другой стороны, мы спрашиваем вопрошаемое бытие о чем-то. Это, о чем я спрашиваю бытие, причастно трансцендентности бытия: я спрашиваю бытие относительно его способов бытия или о его бытии. С этой точки зрения вопрос есть разновидность ожидания: я ожидаю ответа от вопрошаемого бытия. Это значит, что на основе довопрошающего знакомства с этим бытием я ожидаю от него раскрытия его бытия и его способа бытия. Ответом будет некоторое "да" или какое-то "нет". Именно существование этих двух одинаково объективных и противоречащих возможностей в принципе отличает вопрос от утверждения или отрицания. Есть вопросы, которые не допускают, по-видимому, отрицательного ответа, например, вопрос, который мы поставили выше: "Что раскрывает нам эта установка?" Но в действительности на вопросы этого типа всегда можно ответить: "ничто" или "никто" или "никогда". Таким образом, в тот самый момент, когда я спрашиваю: "Есть ли образ действия, который мог бы раскрыть мне отношение человека к миру?" – я β принципе Допускаю возможность отрицательного ответа, как, например: "Нет, такого образа действия не существует". Это означает, что мы соглашаемся поставить себя перед лицом трансцендентного факта несуществова-
==43
ния такого образа действия. Может быть, не захотят поверить в объективное существование небытия, просто скажут, что этот факт в данном случае отсылает меня к моей субъективности. Я узнаю от трансцендентного бытия, что искомый образ действия – чистая фикция. Но с самого начала называть этот образ действия чистой фикцией – значит замаскировать отрицание, не избавившись от него. "Бытие чистой фикции" здесь равнозначно "не быть ничем, кроме фикции". Далее разрушить реальность отрицания – значит заставить исчезнуть реальность ответа. Этот ответ в действительности и есть само бытие, которое мне его дает, оно же раскрывает мне и отрицание. Значит, для спрашивающего существует постоянная и объективная возможность отрицательного ответа. По отношению к этой возможности спрашивающий, поскольку он спрашивает, ставит себя в неопределенное положение: он не знает, будет ли ответ утвердительным или отрицательным. Таким образом, вопрос есть мост, наведенный между двумя видами небытия: небытием знания в человеке и возможностью небытия в трансцендентном бытии. Наконец, вопрос предполагает существование истины. Самим вопросом спрашивающий утверждает, что он ожидает объективного ответа – такого, чтобы мы могли сказать: "Это так, а не иначе". Одним словом, истина в качестве дифференциации бытия вводит третье небытие как детерминанту самого вопроса – небытие ограничения. Это тройное небытие обусловливает всякое вопрошание, в особенности вопрошание метафизическое, которое и есть наше вопрошание.
Мы отправились на поиск бытия и нам показалось, что серия вопрошаний бытия привела нас к его средоточию. Так вот, взгляд, брошенный на само вопрошание в момент, когда мы думаем достичь цели, внезапно открывает нам: мы окружены ничто. Именно постоянная возможность небытия вне нас и в нас обусловливает наши вопросы о бытии. И небытие еще и набрасывает контуры ответа: то, чем бытие будет, с необходимостью поднимается на основе того, что оно не есть. Каким бы ни был ответ, он может быть сформулирован так: "Бытие есть это и вне этого – ничто".
Таким образом, перед нами появляется новая составляющая реальности: небытие. Тем самым проблема усложняется, так как мы должны исследовать не только отношения человеческого бытия с бытием-в-себе, но также отношения бытия с небытием и отношения человеческого небытия с трансцендентным небытием. Но присмотримся получше.
2. Отрицания
Естественно, нам возразят, что бытие-в-себе не может дать отрицательных ответов. Не сами ли мы сказали, что оно находится по ту сторону как утверждения, так и отрицания? Впрочем, обычный опыт, кажется, не раскрывает нам небытие. Я думаю, что в моем бумажнике полторы тысячи франков, а я нахожу там только тысячу триста. Это вовсе не значит, скажут нам, что опыт обнаружил небытие пятнадцати сотен франков, но просто, что я насчитал тринадцать билетов по сто
==44
франков. Отрицание, собственно говоря, приписывается мне, оно появится только на уровне акта суждения, посредством которого я произвожу сравнение между ожидаемым результатом и результатом полученным. Так, отрицание было бы просто качеством суждения, а ожидание вопрошающего – ожиданием ответа-суждения. Что касается Ничто, то его источником стали бы отрицательные суждения. Это было бы понятие, устанавливающее трансцендентное единство всех этих суждений, пропозициональная функция типа: "х не есть". Видно, куда ведет эта теория: вас побуждают снова отметить, что бытие-в-себе есть полная положительность и не содержит в себе самом никакого отрицания. Это отрицательное суждение, с другой стороны, в качестве субъективного акта строго уподобляется суждению утвердительному: незаметно, например, чтобы Кант отличал в своем внутреннем построении отрицательный акт суждения от утвердительного, – в обоих случаях действует синтез понятий; просто этот синтез, который является конкретным и полным событием психической жизни, выражен здесь посредством связки "есть", а там – посредством связки "не есть". Таким же образом ручная операция разборки (разделения) и ручная операция сборки (соединения) суть два объективных образа действия, которым присуща та же самая эмпирическая реальность. Следовательно, отрицание будет "в конце" суждения, не будучи, тем не менее, "в" бытии. Оно – ирреальное, внедренное между двумя полными реальностями, ни одна из которых не берет его на себя: бытие-в-себе, вопрошаемое относительно отрицания, отсылает к суждению, поскольку оно не что иное, как то, что оно есть, и суждение, эта цельная психическая позитивность, отсылает к бытию, поскольку формулирует отрицание, касающееся бытия и, стало быть, трансцендентное. Отрицание – результат конкретных психических операций, – поддерживаемое в своем существовании этими операциями, не способно существовать само по себе, его существование – это ноэматический коррелят, его esse как раз пребывает в его perdpi. И Ничто – концептуальное единство отрицательных суждений – не будет иметь ни малейшей реальности, кроме той, которую стоики приписывали своему "лектону"*. Можем ли мы принять эту концепцию?
Этот вопрос можно поставить в следующих словах: есть ли отрицание как структура суждения источника ничто или, наоборот, ничто как структура реального есть источник и основание отрицания? Так, проблема бытия отсылает нас к проблеме вопроса как человеческой установки, а проблема вопроса отсылает к проблеме бытия отрицания.
Очевидно, что небытие всегда возникает в рамках человеческого ожидания. Именно потому, что я ожидаю найти полторы тысячи франков, я нахожу не более чем тысячу триста. Потому, что физик ожидает именно такого подтверждения своей гипотезы, природа может сказать ему нет. Следовательно, было бы напрасным отвергать, что отрицание появляется на первоначальной основе отношения человека к миру: мир не обнаружит различных форм небытия иначе, как перед тем, кто сначала положил их как возможности. Но означает ли это, что указанные формы небытия должны быть сведены к чистой субъективности? И значит ли это, что им нужно придать значение и способ существования "лектона" стоиков, гуссерлевской ноэмы? Мы так не считаем.
==45
Прежде всего неверно, что отрицание есть только качество суждения: вопрос формулирует себя с помощью вопросительного суждения, но он не есть суждение. Это образ действия до суждения. Я могу спрашивать взглядом, жестом; спрашивая, я занимаю определенную позицию по отношению к бытию, и это отношение к бытию само бытийственно, суждение же всего лишь необязательный способ выражения. Нет необходимости также и в человеке, которого стали бы расспрашивать о бытии: эта концепция вопроса, делая из него интерсубъективный феномен, отрывает его от бытия, которому он принадлежит, и отпускает на простор чистой модальности диалога. Надо понять, что вопрос в диалоге есть, напротив, особый вид в жанре "вопрошания" и что вопрошаемое бытие не выступает сначала как мыслящее бытие: если мой автомобиль неисправен, то я опрашиваю как раз карбюратор, свечи и т. д.; если мои часы остановились, я могу спросить часового мастера о причинах этого, но сам часовой мастер будет ставить вопросы к механизму часов. То, что я ожидаю от карбюратора, а часовой мастер – от колесиков часов, вовсе не есть суждение. Это раскрытие бытия, на основе которого можно сформулировать суждение. И если я ожидаю раскрытия бытия, значит я подготовлен одновременно к возможности небытия. Если я вопрошаю карбюратор, значит я считаю возможным, что в карбюраторе "ничего нет". Таким образом, мой вопрос по своей природе включает определенное понимание небытия до суждения. Сам по себе он есть отношение бытия к небытию на основе первоначальной трансцендентности, то есть отношения бытия к бытию.
Если, впрочем, собственная природа вопрошания затемнена тем фактом, что вопросы ставятся одним человеком перед другими людьми, то нужно отметить, что многочисленные способы действия, не относящиеся к суждениям, представляют в своей первоначальной чистоте это непосредственное понимание небытия на основе бытия. Если мы рассматриваем, например, разрушение, нам нужно будет признать, что это деятельность, которая, без сомнения, смогла бы использовать суждение как инструмент, но которую нельзя определить как всецело или даже в основном судительную. Однако она имеет ту же самую структуру, что и вопрошание. В определенном смысле, конечно, человек есть единственное бытие, посредством которого может быть совершено разрушение. Образование горных складок, буря не разрушают, или, по крайней мере, они не разрушают непосредственно: они просто изменяют распределение масс существующих вещей. Их не меньше после бури, чем перед ней. Есть другая вещь. И даже это выражение не подходит, так как, чтобы полагать нечто иное, необходим свидетель, который мог бы каким-либо способом удерживать прошлое и сравнивать его с настоящим в форме "больше нет". В отсутствие этого свидетеля существует бытие как перед бурей, так и после нее, и это все. И если циклон может принести смерть некоторым живым существам, то эта смерть будет разрушением липа постольку, поскольку она переживается как таковая. Чтобы произошло уничтожение, необходимо вначале отношение человека к бытию, то есть трансцендентность. И в рамках такого отношения необходимо, чтобы человек постигал некоторое бытие как разрушаемое. Это предполагает ограничивающее вырезание бытия в бытии, то, что, как мы это видели
==46
в отношении истины, уже есть ничтожение. Рассматриваемое бытие есть это, и вне этого – ничто. Артиллерист, которому определили цель, тщательно наводит пушку в данном направлении, исключая все остальные. Но это еще ничего не значило бы, если бы бытие не открылось как хрупкое. А что такое хрупкость, как не вероятность небытия для данного бытия в определенных обстоятельствах? Бытие хрупко, если носит в своем бытии определенную возможность небытия. Но опять-таки, хрупкость приходит к бытию как раз через человека, так как условие хрупкости – индивидуализирующее ограничение, о котором мы сейчас упомянули. Хрупким является некое бытие, а не все бытие, которое находится по ту сторону всякого возможного разрушения. Таким образом, отношение индивидуализирующего ограничения, которое человек поддерживает с неким бытием на основе своего первичного отношения с бытием, вносит хрупкость в это бытие как постоянную возможность небытия. Но это не все: чтобы могла существовать разрушимость, человек должен определиться перед этой возможностью небытия или позитивно, или негативно. Нужно, чтобы он принял необходимые меры для ее реализации (собственно разрушение) или посредством отрицания небытия для утверждения его всегда лишь на уровне простой возможности (меры защиты). Таким образом, именно человек делает города разрушающимися, поскольку полагает их в качестве хрупких и дорогих и поэтому принимает совокупность мер для их охраны. И как раз в силу наличия этих мер подземный толчок или вулканическое извержение могут разрушить города или человеческие постройки. Главный смысл и цель войны и содержатся в самой незначительной постройке человека. Нужно, следовательно, признать, что разрушение есть по существу дело человека и что именно человек разрушает свои города посредством подземных толчков или непосредственно, разрушает свои суда посредством циклонов или непосредственно. Но в то же время надо сознаться, что разрушение предполагает и понимание ничто как такового до всякого суждения и способ действия перед лицом ничто. Кроме того, разрушение, хотя и приходит к бытию посредством человека, есть некий объективным факт, а не мысль. Именно в бытии этой японской вазы заложена хрупкость, и ее разрушение было бы необратимым и абсолютным событием, которое я мог бы только констатировать. Есть трансфеноменальность небытия, так же как и бытия. Следовательно, исследование способа действия "разрушения" приводит нас к тем же самым результатам, что и исследование вопрошающего поведения.
Но если мы хотим решить наверняка, нужно только рассмотреть отрицательное суждение в себе самом и спросить себя, заставит ли оно обнаружить небытие в недрах бытия, или ограничится выражением предшествующего открытия. Я встречаюсь с Пьером в четыре часа. Я прихожу с опозданием на четверть часа. Пьер всегда точен, будет ли он ждать меня? Я рассматриваю зал, посетителей и говорю: "Его здесь нет". Есть ли интуиция отсутствия Пьера или отрицание вступает только вместе с суждением? На первый взгляд, кажется абсурдным говорить здесь об интуиции, поскольку не может быть интуиции ничто, а отсутствие Пьера и является этим ничто. Однако обыденное сознание свидетельствует об этой интуиции. Не говорят ли, например: "Я только что видел,
==47
что его здесь нет"? Идет ли здесь речь о простом перемещении отрицания? Рассмотрим это поближе.
Конечно, кафе само по себе с его посетителями, столами, диванчиками, зеркалами, светом, прокуренным воздухом, шумом голосов, складываемых блюдец, шагов есть полнота бытия. И все отдельные интуиции, которые я могу иметь, наполнены этими запахами, звуками, цветами, всеми феноменами, имеющими трансфеноменальное бытие. Точно так же действительное присутствие Пьера в месте, которого я не знаю, есть тоже полнота бытия. Кажется, что мы находим полноту повсюду. Но нужно заметить, что в восприятии форма всегда образуется на каком-то фоне. Никакой объект, никакая группа объектов не предназначены специально для того, чтобы стать фоном и формой: все зависит от направления моего внимания. Когда я вхожу в это кафе, чтобы найти здесь Пьера, все объекты кафе образуют фон, на котором дан Пьер, перед тем как появиться. И это превращение кафе в фон есть первое ничтожение. Каждый элемент комнаты – лицо, стол, стул, укромный уголок – выделяется на фоне, образованном целостностью других объектов, и погружается в индифферентность этого фона, расплывается на этом фоне. Ибо фон есть то, что видится сверх того, что образует объект лишь бокового зрения. Таким образом, это первое ничтожение всех форм, возникающих и поглощающихся полной равноценностью фона, есть необходимое условие явления основной формы, которой выступает здесь личность Пьера. И это ничтожение моей интуиции, я – свидетель последовательного исчезновения всех объектов, которые рассматриваю, в особенности физиономий, на которых я задерживаюсь на мгновение ("не это ли Пьер?") и которые тотчас распадаются как раз потому, что это "не лицо" Пьера. Если бы я все-таки нашел, наконец, Пьера, моя интуиция получила бы твердое наполнение, я был бы внезапно загипнотизирован его лицом, и все кафе скромно организовалось бы вокруг него. Но Пьера-то здесь и нет. Это вовсе не означает, что я обнаруживаю его отсутствие в каком-то определенном месте заведения. В действительности Пьер отсутствует во всем кафе; его отсутствие замораживает кафе в его рассеянном состоянии, кафе остается фоном. Оно пребывает, предлагая себя как недифференцированное целое лишь моему боковому зрению, оно соскальзывает на задний план и продолжает свое ничтожение. Оно делает себя только фоном для определенной формы, оно несет ее повсюду впереди себя, оно повсюду показывает мне ее, и эта форма, постоянно проскальзывающая между моим взглядом и твердыми, реальными объектами кафе, как раз и есть постоянное исчезновение, это и есть Пьер, возносящийся как ничто на фоне ничтожения кафе. Таким образом, то, что дано интуиции, и есть мигание ничто, это – ничто фона, ничтожение которого вызывает форму, требует ее появления и эта форма – ничто, она скользит как некое небытие по поверхности фона. То, что служит основой суждения: "Пьера здесь нет", и есть, следовательно, интуитивное постижение двойного ничтожения. И, конечно, отсутствие Пьера предполагает первичное мое отношение к этому кафе; есть бесконечное число людей, которые не имеют отношения к этому кафе за неимением реального ожидания, которое установило бы их отсутствие. Но я как раз надеюсь увидеть Пьера, и мое ожидание
==48
привело к отсутствию Пьера как реальному событию, относящемуся к этому кафе, теперь объективным фактом является то, что это отсутствие я открыл, и оно выступает как синтетическое отношение Пьера к помещению, в котором я его ищу: отсутствующий Пьер посещает это кафе, являясь условием его ничтожащего превращения в фон. Напротив, суждения, которые я могу, забавляясь, потом сформулировать, типа "Веллингтона нет в этом кафе, Поля Валери также там нет, и т. д.", суть чисто абстрактные значения, чистые приложения принципа отрицания без реального основания и действенности и не доходят до установления реального отношения между кафе, Веллингтоном или Валери: отношение "нет" – здесь просто мысленное. Этого достаточно, чтобы показать, что небытие не приходит к вещам благодаря суждению отрицания: напротив, именно суждение отрицания обусловливается и поддерживается небытием.
Как, впрочем, могло быть по-иному? Как мы смогли бы даже понять отрицательную форму суждения, если все есть полнота бытия и положительность? Мы думали в какой-то момент, что отрицание может появиться из сравнения, устанавливаемого между ожидаемым результатом и полученным результатом. Но посмотрим на это сравнение. Вот первое суждение, психический конкретный и позитивный акт, который констатирует факт: "В моем бумажнике имеется 1300 франков", а вот другое, которое является не чем иным, как также констатацией факта и утверждением: "Я ожидал найти там 1500 франков". Это, стало быть, реальные и объективные факты, позитивные психические события, утвердительные суждения. Где может найти место отрицание? Считают, что оно есть простое применение категории? Хотят, чтобы уму как таковому была присуща категория нет как форма отбора и разделения? Но в этом случае устраняют малейшее подозрение на отрицательность отрицания. Если допустить, что категория "нет", категория, существующая в уме фактически, положительный и конкретный метод для разбора и систематизации наших знаний, внезапно вступает в дело в присутствии определенных утвердительных суждений и что она внезапно накладывает свой отпечаток на некоторые наши мысли, вытекающие из этих суждений, то тщательно устраняется всякая негативная функция отрицания. Ибо отрицание есть отказ от существования. Посредством него бытие (или способ бытия) полагается, потом отбрасывается в ничто. Если отрицание есть категория, если оно лишь затычка, безучастно вставляемая в некоторые суждения, то откуда возьмется у него способность ничтожить бытие, заставить его внезапно появиться и получить имя, чтобы отбросить в небытие? Если предшествующие суждения констатируют факт как то, что мы взяли в качестве примера, нужно, чтобы отрицание было свободным изобретением, нужно, чтобы оно оторвало нас от той стены позитивности, к которой мы прижаты: это резкий выход из непрерывности, который ни в коем случае не может следовать из предшествующих суждений, событие своеобразное и необратимое. Но мы находимся отныне в сфере сознания. А сознание может произвести отрицание только в форме сознания отрицания. Никакая категория не может "обитать" в сознании и существовать там в форме вещи. Нет, в качестве быстрого интуитивного открытия, является как сознание
==49
(бытия), сознание нет. Одним словом, если повсюду бытие, то не только Ничто, как это допускает Бергсон, непостижимо: из бытия никогда не получить отрицания. Для того чтобы можно было сказать "нет", необходимо постоянное присутствие небытия в нас и вне нас, когда ничто преследует бытие.
Но откуда приходит ничто? И если оно главное условие вопрошающего поведения и вообще всякого философского или научного дознания, каково же исходное отношение человеческого бытия к ничто, каково исходное ничтожащее поведение?
3. Диалектическая концепция ничто
Еще слишком рано, чтобы мы могли требовать выявления смысла этого ничто, перед которым нас вдруг вытолкнуло вопрошание. Но есть некоторые уточнения, которые мы могли бы дать сейчас. Было бы неплохо, в частности, определить отношения бытия с преследующим его небытием. Действительно, мы констатировали определенный параллелизм между образом действия человека перед бытием и его поведением перед Ничто. И к нам тотчас пришло искушение рассматривать бытие и небытие в качестве двух взаимодополнительных составляющих реального, на манер тени и света: это означало бы, в сущности, что перед нами одновременно два наличествующих понятия, настолько тесно связанных в создании сущих, что было бы напрасным рассматривать их по отдельности. Чистое бытие и чистое небытие были бы двумя абстракциями, воссоединение которых и легло бы в основу конкретных реальностей.
Такова, несомненно, точка зрения Гегеля. И действительно, в "Логике" он как раз исследует отношения бытия и небытия и называет эту логику "системой чистых определений мышления". И он уточняет свое определение1: "Мысли, какими их обычно представляют, не являются чистыми мыслями, так как под мыслимым бытием понимают бытие, содержание которого получено из опыта. В логике мы понимаем мысли так, что они не имеют никакого другого содержания, кроме содержания, входящего в мысль и порожденного ею". Конечно, эти определения суть "то, что имеется самого глубокого в вещах, но в то же время, когда их рассматривают "в-себе и для-себя самих", их выводят из самой мысли и открывают в них их истину. Во всяком случае, задачей гегелевской логики будет "выявить неполноту понятий, которые она рассматривает поочередно, и, чтобы их постигнуть, возвыситься к понятию более полному, которое их превосходит, интегрируя данные понятия"2. К Гегелю можно применить то, что Ле Сенн** сказал о философии Гамелена***: "Каждое из низших понятий зависит от понятия высшего, как абстрактное от конкретного, которое ему необходимо, чтобы реализовать себя". Истинно конкретное для Гегеля и есть сущее с его сущнос-
' Предварительное понятие, § 24, прибавление 2; цит. по: Lefebvre. Morceaux choisis*.
2 Lapone. Le problème de l'Abstraction, p. 25 (Presses Universitaires, 1940).
К оглавлению
==50
тью, то есть целое, образованное посредством синтетического включения всех абстрактных моментов, которые в нем себя превосходят, требуя своего дополнения. В этом смысле бытие будет самой абстрактной и самой бедной абстракцией, если мы его рассматриваем само по себе, то есть в отрыве от его перехода к сущности. В самом деле, "бытие относится к сущности как непосредственное к опосредованному. Вещи, в общем, "суть", но их бытие состоит в том, чтобы обнаруживать свою сущность. Бытие переходит в сущность; это можно выразить, сказав: "Бытие предполагает сущность". Хотя сущность появляется по отношению к бытию в качестве опосредованной, сущность тем не менее является истинной основой. Бытие возвращается в свое основание. Бытие возвышается в сущность"1.
Таким образом, бытие, оторванное от сущности, которая является его основанием, становится "простой пустой непосредственностью". И так его определяет, например, "Феноменология духа", которая представляет чистое бытие "с точки зрения истины" как непосредственное. Если началом логики должна быть непосредственность, мы найдем, следовательно, начало в бытии, которое есть "неопределенность, предшествующая всякому определению, неопределенное как абсолютная исходная точка".
Но определенное так бытие тотчас "переходит" в свою противоположность. "Это чистое бытие, – пишет Гегель в "Малой логике", – есть чистая абстракция и, следовательно, абсолютное отрицательное. которое, взятое также непосредственно, есть небытие". Не есть ли, в самом деле, ничто простое тождество с самим собой, совершенная пустота, отсутствие определений и содержания? Таким образом, чистое бытие и чистое ничто – одно и то же. Или правильнее сказать, что они различны. Но "так как различие здесь еще не определилось, ибо бытие и небытие составляют момент непосредственности, то оно здесь невыразимо, есть не что иное, как одно лишь мнение"2. Это конкретно означает, что "нет ничего ни на небе, ни на земле, что не содержало бы в себе и бытие и ничто"3.
Рано еще обсуждать гегелевскую концепцию саму по себе: лишь совокупность результатов нашего исследования позволит занять позицию по отношению к ней. Следует только отметить, что бытие сводится Гегелем к значению сущего. Бытие охвачено сущностью, которая является его основанием и источником. Вся теория Гегеля основывается на идее, что необходимо философское действие, чтобы вновь найти в начале логики непосредственное, исходя из опосредованного, абстрактное, исходя из конкретного, которое его обосновывает. Но мы уже заметили, что бытие не относится к феномену как абстрактное к конкретному. Бытие не есть "структура среди прочих", некий момент объекта, оно
— само условие всех структур и всех моментов, основание, на котором затем обнаруживаются свойства феномена. И равным образом неприем-
' Набросок "Логики", написанный Гегелем между 1808 и 1811 гг. для его гимназического курса в Нюрнберге. •Гегель. Раздел первый, § 87*. ÎГeгeль. Большая логика, глава I**.
==51
лемо утверждение, что бытие вещей "состоит в обнаружении их сущности". Ибо тогда понадобилось бы бытие этого бытия. Если, впрочем, бытие вещей "состояло бы" в обнаружении, то непонятно, как Гегель смог бы определить чистый момент бытия, где мы не нашли бы даже следа этой первой структуры. Верно, что чистое бытие определяется рассудком, изолируется и закрепляется в самих его определениях. Но если переход к сущности образует главное свойство бытия и если рассудок ограничивается тем, чтобы "определять и упорствовать в своих определениях", то неясно, почему он не определяет бытие именно как "состоящее в обнаружении". Скажут, что для Гегеля всякое определение является отрицанием. Но в этом смысле рассудок ограничивается тем, что отрицает у своего объекта возможность быть иным, нежели его отрицание. Этого, без сомнения, достаточно, чтобы помешать какому-либо диалектическому действию, но этого недостаточно, чтобы устранить до конца переход. Поскольку бытие превращает себя β иную вещь, оно избегает определений рассудка, но, поскольку оно превращает себя, то есть содержит в глубине себя источник своего собственного перехода, оно, напротив, должно являться рассудку таким, каково оно есть, закрепляясь в своих собственных определениях. Утверждать, что бытие есть только то, что оно есть, значит, по крайней мере, оставить его нетронутым, поскольку оно есть его переход. Здесь сказывается двусмысленность гегелевского понятия "переход", которое выступает то как самое глубокое фонтанирование рассматриваемого бытия, то как внешнее движение, увлекающее это бытие. Недостаточно утверждать, что рассудок находит в бытии только то, чем оно является, нужно еще объяснить, как бытие, которое есть то, чем оно является, может быть только этим. Подобное объяснение получило бы правомочность из рассмотрения феномена бытия как такового, а не из отрицающих методов рассудка.
Но в особенности здесь следует рассматривать утверждение Гегеля о том, что бытие и ничто образуют две противоположности, различие которых, на уровне рассматриваемой абстракции, является только простым "мнением".
Противопоставлять бытие и ничто как тезис и антитезис, на манер гегелевского рассудка, значит предполагать между ними логическую одновременность. Следовательно, две противоположности появляются в одно и то же время как два крайних члена логического ряда. Но здесь нужно принять во внимание, что противоположности могут обладать этой одновременностью, поскольку они являются одинаково позитивными (или одинаково негативными). Однако небытие не является противоположностью бытия, оно ему противоречит. Это предполагает логическую вторичность ничто по отношению к бытию, раз оно сначала полагается бытием, а потом отрицается. Следовательно, бытие и небытие не могут быть понятиями одного и того же содержания, так как небытие предполагает необратимое действие ума. Какой бы ни была первоначальная нерасчлененность бытия, небытие есть та же самая нерасчлененность, подвергнутая отрицанию. То, что позволяет Гегелю "перевести" бытие в ничто, и есть неявное введение им отрицания в само определение бытия. Это само собой разумеется, так как определение является отрицательным, поскольку Гегель сказал нам, заимствуя фор-
==52
мулу Спинозы, "omnis determinatio est negatio"1. И не писал ли он: "Любое определение или содержание, которое различало бы бытие другой вещи, полагало бы в ней содержание, не позволило бы удержать его в чистоте. Оно есть чистая неопределенность и пустота. Нельзя ничего схватить в нем..."? Таким образом, именно он извне ввел в бытие это отрицание, которое найдет потом, когда заставит бытие перейти в небытие. Только здесь имеет место игра слов с самим понятием отрицания. Ибо, если я отрицаю в бытии всякое определение и содержание, это можно сделать не иначе, как утверждая, что оно по крайней мере есть. Итак, отрицая в бытии все, что угодно, нельзя добиться, чтобы его не было, поскольку отрицают, что оно было тем или этим. Отрицание не может достичь ядра бытия в бытии, которое есть абсолютная полнота и совершенная положительность. Зато небытие является отрицанием, которое имеет в виду это ядро плотности самого бытия. Как раз в его сердцевине небытие отрицает себя. Когда Гегель пишет: "[Бытие и ничто] есть пустые абстракции и каждое из них столь же пусто, как и другое"2, он забывает, что пустое является пустым от чего-то3. Однако бытие пусто от всякого иного определения, чем тождество с самим собой. Но небытие пусто от бытия. Одним словом, здесь кое-что нужно вспомнить вопреки Гегелю, а именно: что бытие есть, а ничто нет.
Таким образом, даже если бытие не будет опорой никакому дифференцированному качеству, ничто будет его логическим следствием, поскольку оно предполагает бытие, чтобы его отрицать, поскольку несводимое качество нет добавляется к этой недифференцированной массе бытия, чтобы ее выявить. Это означает не только то, что мы должны отказаться ставить бытие и небытие на одну и ту же плоскость, но еще и то, что мы всегда должны остерегаться выставлять ничто как первоначальную бездну, из которой выходит бытие. Применение нами понятия "ничто" в обычной его форме всегда предполагает предварительную детализацию бытия. Поразительно в этом отношении, что язык обозначает для нас ничто вещей ("Rien") и ничто человеческих существ ("Personne"). Но в большинстве случаев детализация простирается еще дальше. Говорят, указывая на отдельную коллекцию предметов: "Не трогайте ничего", то есть очень точно – ничего из этой коллекции. Так же тот, кого спрашивают о совершенно определенных событиях личной или общественной жизни, отвечает: "Я ничего не знаю" – и это "ничего" предполагает совокупность фактов, о которых его спрашивают. Сам Сократ своей знаменитой фразой "Я знаю, что ничего не знаю" обозначает этим ничего как раз целостность рассматриваемого бытия как Истину. Если, усвоив на мгновение точку зрения наивных космогонии, мы попытались бы спросить, что "было" перед тем, как появился мир, и мы ответили бы "ничего", то мы вынуждены были бы признать, что это "перед" и это "ничего" имеют обратный эффект. То, что мы отрица-
1 "Всякое определение есть отрицание" (лат.).
2Гeгeя,. Раздел первый. § 87·.
ЗЭтo тем более странно, что он первый признал, что "всякое отрицание является определенным отрицанием", то есть проведанным на некотором содержании.
==53
-Ред.
ем сегодня, мы, которые водворены в бытие, означае, что существовало бытие перед этим бытием. Отрицание проистекает здесь из сознания, которое возвращается к истокам. Если бы мы убрали от этой первоначальной пустоты ее свойство быть пустотой этого здесь мира и всей совокупности, принявшей форму мира, так же как и ее свойство "перед", предполагающее "после", по отношению к которому я образую его как "перед", то само отрицание исчезло бы, оставляя место полной неопределенности, которую было бы невозможно понять, даже и особенно в качестве ничто. Таким образом, перевертывая формулу Спинозы, мы смогли бы сказать, что всякое отрицание есть определение. Это значит, что бытие предшествует ничто и его обосновывает. Под этим необходимо понимать не только то, что бытие обладает перед ничто логическим первенством, но еще то, что именно из бытия ничто конкретно извлекает свою действенность. Именно это мы и выразили, говоря, что ничто преследует бытие. Это означает, что бытие совсем не нуждается в ничто, чтобы понять себя, и исчерпывающее его рассмотрение не обнаруживает там ни малейшего следа ничто. Но, наоборот, ничто, которого нет, может иметь только заимствованное существование: именно из бытия оно берет свое бытие; ничто бытия встречается только в рамках бытия, и полное исчезновение бытия не было бы пришествием царства небытия, но, напротив, сопутствующим исчезновением ничто. Нет небытия иначе, как на поверхности бытия.
4. Феноменологическая концепция ничто
Правда, взаимную дополнительность бытия и ничто можно понять иначе. Можно видеть в том и другом две одинаково необходимые составляющие реального, но без "перехода" бытия в ничто, как у Гегеля, и не настаивая, как мы это пытались, на вторичности ничто: напротив, подчеркивая силы взаимного исключения, с которыми бытие и небытие действуют друг на друга, так что реальное есть некоторым образом напряжение, проистекающее из этих антагонистических сил. Как раз на эту новую концепцию ориентируется Хайдеггер1.
Не нужно много времени, чтобы увидеть прогресс, который представляет его теория по сравнению с гегелевской. С самого начала бытие и небытие – уже не пустые абстракции. Хайдеггер в своем главном произведении показал правомочность вопроса о бытии. Последний не носит больше отпечатка схоластической универсалии, какой он сохранял еще у Гегеля. Налицо смысл бытия, который нужно прояснить. Есть "доонтологическое понимание" бытия, которое включено в каждый образ действия "человеческой реальности", то есть в каждый из ее проектов. Таким же образом апории, которые обычно возникают, как только философ касается проблемы Ничто, обнаруживают свою бессмысленность. Они имеют ценность, лишь поскольку ограничивают применение рассудка, и просто показывают, что эта проблема не нахо-
' Heidegger. Qu'est-ce que la métaphysique (trad. Corbin, N.R.F., 1938)*.
==54
дится в компетенции рассудка. Напротив, существует много установок "человеческой реальности", которые предполагают "понимание" ничто: ненависть, защита, сожаление и т. д. Для "Dasein" даже есть постоянная возможность находиться "напротив" ничто и открывать его как феномен: это – тревога. Во всяком случае, Хайдеггер, вполне допуская возможности конкретного постижения Ничто, не впадает в ошибку Гегеля, он не сохраняет в небытии бытие, хотя бы и абстрактное. Ничто не есть, оно ничтожит себя. Оно поддерживается и обусловливается трансцендентностью. Известно, что для Хайдеггера бытие человеческой реальности определяется как бытие-в-мире. А мир есть синтетическая совокупность инструментальных реальностей, поскольку они указывают одни на другие, расширяясь кругами, и поскольку исходя из этой совокупности, человек заявляет о себе, кто он есть. Это означает, что человеческая реальность сразу возникает как "обложенная" бытием, она "находит себя" (sich befinden) в бытии, и одновременно человеческая реальность заставляет бытие, которое ее осаждает, расположиться вокруг нее в форме мира. Но она может заставить бытие появиться в качестве целостности, организованной в мир, только выйдя за пределы последнего. Всякое определение для Хайдеггера есть возвышение, потому что оно предполагает расстояние, принятие точки зрения. Это возвышение над миром —условие самого его возникновения как такового, Dasein приближает его к нему самому. На самом деле свойство ipséité (Selbstheit1) в том и состоит, что человек отделен от себя самого всей широтой бытия, которое не есть он. Он заявляет о себе самому себе из другой стороны мира и, овнутряясь, пробивается к себе, ориентируясь на горизонт: человек есть "бытие далей" (un être des lointains). Именно в движении овнутрения, пронизывающем все бытие, бытие возникает и устраивается как мир, не отдавая первенства ни движению над миром, ни миру – над движением. Но это явление себя по ту сторону мира, то есть целостности реального, есть внезапное возникновение "человеческой реальности" в ничто. Только в одном ничто можно подняться над бытием. В то же самое время с потусторонней миру точки зрения бытие обустраивается в мир, то есть, с одной стороны, появление человеческой реальности есть внезапное возникновение бытия в небытии и с другой – в ничто мир содержится в "непроявленном" состоянии. Тревога есть открытие этого двойного и постоянного ничтожения. И как раз благодаря этому возвышению над миром, Dasein поймет случайность мира, то есть поставит вопрос: "Откуда вытекает, что есть нечто, скорее чем ничто?" Случайность мира является, таким образом, в человеческой реальности, поскольку она погружается в ничто, чтобы ее уловить.
Вот, стало быть, ничто, обложившее бытие со всех сторон и одновременно изгоняемое из бытия; вот как проявляет себя ничто, в результате чего мир и получает свои очертания. Может ли это решение нас удовлетворить?
Конечно, нельзя отрицать, что восприятие мира как мира является ничтожащим. Едва только мир появляется в качестве такового, он проявляет себя не чем иным. как этим. Необходимой противоположностью этого восприятия выступает, следовательно, внезапное появление "человеческой реальности" в ничто. Но откуда проистекает сила, кото-
loτ Selbst – самость (нем.). – Ред.
==55
рая должна, таким образом, внезапно выявить "человеческую реальность" в небытии? Вне сомнения, Хайдеггер имеет основание настаивать на том, что отрицание имеет свою основу в ничто. Но если ничто обосновывает отрицание, значит, оно включает в него как его существенную структуру нет. Иначе говоря, ничто служит основанием отрицания не как недифференцированная пустота или как инаковость (altérité), которая не полагала бы себя как инаковость1. Оно лежит в основе отрицательного суждения, поскольку оно само есть отрицание. Оно обосновывает отрицание в качестве акта, потому что оно есть отрицание как бытие. Ничто не может быть ничто иначе, как если оно определенно себя ничтожит как ничто мира, то есть, если в своем ничтожении оно направляется точно к этому миру, чтобы конституировать себя как отказ от мира. Ничто носит бытие в своей сердцевине. Но почему внезапное появление свидетельствует об этом ничтожащем отказе? Не трансцендентность, которая есть "проект себя по ту сторону...", может основать ничто, а как раз, наоборот, ничто заключено в недрах трансцендентности и обусловливает ее. Однако особенность хайдеггеровской философии – использование для описания Dasein положительных понятий, которые скрывают все неявные отрицания. Dasein находится "вне себя, в мире", оно есть "бытие далей", оно есть "забота", "свои собственные возможности" и т. д. Все это значит, что Dasein "не есть" в себе, в непосредственной близости к самому себе и что оно "поднимается над миром", полагая себя тем, что не есть в себе и не есть мир. В этом смысле именно Гегель прав по сравнению с Хайдеггером, когда он заявляет, что Дух есть отрицательное. Однако как одному, так и другому можно поставить вопрос в несколько различной форме. Нужно сказать Гегелю: "Недостаточно видеть в духе опосредованность и отрицательное, нужно показать отрицательность как структуру бытия духа. Чем должен быть дух, чтобы он мог себя образовать как отрицательное?" И можно спросить Хайдеггера: "Если отрицание есть основная структура трансцендентности, чем должна быть основная структура "человеческой реальности", чтобы она могла трансцендировать мир?" В обоих случаях нам показывают отрицающую деятельность и не заботятся о том, чтобы основать эту деятельность на отрицательном бытии. А Хайдеггер, кроме того, делает из Ничто своего рода интенциональный коррелят трансцендентности, не замечая, что он его уже ввел в саму трансцендентность как ее изначальную структуру.
Но, кроме того, чему служит утверждение, что Ничто является основанием отрицания, если не тому, чтобы создать потом теорию небытия, которое отрезает, согласно гипотезе, Ничто от всякого конкретного отрицания? Если я внезапно появляюсь в ничто по ту сторону мира, как это внемирское ничто может служить основанием этих маленьких канканов небытия, которые мы в каждый момент встречаем в недрах бытия? Я говорю, что "Пьера здесь нет", что "у меня нет больше денег" и т. д. Нужно ли, в самом деле, подниматься над миром к ничто и возвращаться потом к бытию, чтобы обосновать эти повседневные суждения? И как может осуществиться эта операция? Речь
