Детскому и взрослому сердцу приятна сверкающая мишура, извлекаемая из старого чемодана, целый год томившегося где-нибудь на антресолях
| Вид материала | Документы |
- Перечень экзаменационных вопросов на вступительный экзамен в ординатуру по специальности, 199.39kb.
- «Расскажите детям сказку!», 24.15kb.
- Тверское библиотечное общество, 19.4kb.
- Iv съезда онкологов Республики Беларусь, 69.89kb.
- Холм Большого Будды, где сможете повязать амулет у монаха. Услышите рассказ, 149.74kb.
- Административный регламент, 151.2kb.
- Мир Арании, мир непохожий на другие. Мир, где технология и магия развиваются не отдельно, 800.45kb.
- Анна Гавальда: «Мне бы хотелось, чтоб меня кто нибудь где нибудь ждал», 1240.6kb.
- Как подготовить ребёнка к детскому саду, 122.63kb.
- Тема Родины в творчестве С. Есенина, 59.76kb.
М
 УНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
УНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
им. В.И.ЛЕНИНА»
ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ
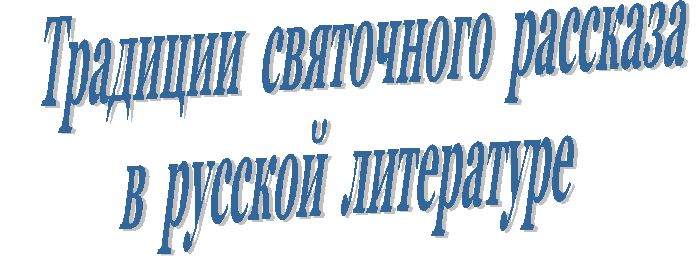
Н. Новгород
2006
Детскому и взрослому сердцу приятна сверкающая мишура, извлекаемая из старого чемодана, целый год томившегося где-нибудь на антресолях. Нам не запрещено доставать и открывать чемодан в другой сезон, но обычно мы так не делаем.
Что же, раз у нас есть елочные игрушки, карнавальные маски, рождественские пироги – следует быть и рождественским или святочным книгам.
Кстати о терминологии. В писательской среде, как западноевропейской, так и русской, термины «рождественский» и «святочный» строго не различались. Например, в подзаголовке «Рождественской песни в прозе» Ч. Диккенса указано: «святочный рассказ». Хотя, если подходить строго, определенная разница в понятиях все же прослеживается. Святочный рассказ своими корнями восходит к русскому фольклорному жанру былички, короткого сказочного рассказа якобы имевшего место, а рождественский – к западноевропейской традиции к творчеству Ч. Диккенса, являющегося классиком рождественского рассказа как жанра, обязательным элементом которого является наличие в рассказе какого-либо сверхъестественного чуда, подобно тому, как с приходом в мир Богочеловека – Иисуса Христа чудо входит в жизнь каждого.
Но, если в святочном рассказе чудо не обязательно носит сверхъестественный характер, а чаще всего раскрывается как удачное стечение вполне жизненных обстоятельств, то в рождественском рассказе, как правило, имеют место мистические явления: привидения, духи и т.д., и чудо происходит непосредственно при участии потусторонних сил. Другими важнейшими элементами этой разновидности рассказа, как рождественского, так и святочного, являются приуроченность времени действия к зимнему праздничному циклу (Рождество, святки, Новый год) и набор постоянных мотивов: кроме рождественского чуда, это могут быть гадания, ряженья, сновидения и обязательное наличие в начале рассказа картины дисгармонии – это могут быть природные катаклизмы, конфликт в человеческих отношениях. Большинство святочных рассказов начинается с описания несчастий героев, каких-то бед, но в итоге рассказ обязательно заканчивается чудом. Этот традиционный мотив святочного рассказа – борьба добра со злом – объясняется двойственной природой самих святок, рождественских дней. Считалось, что в это время нежить приходит на землю пугать христианский люд. Но Рождество это и время чудес и проявлений милости Бога к людям. Это народное поверье природы святок находит свое отражение и в святочном рассказе.
В XX столетии начиная еще до того времени, когда святочный рассказ сформировался как жанр, в России к Рождеству издавались особые литературные сборники. Во всех газетах и журналах помещалось множество святочных материалов: сообщения о елках и маскарадах, объявления о выставках и продажах праздничных товаров, этнографические заметки о святках, стихотворения и рисунки на рождественскую тему, и непременно, особые рассказы.
Таким образом, святочный рассказ был, прежде всего, формой массовой литературы. Однако к его становлению как жанра в России оказались причастны классики русской литературы: Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Н.С. Лесков, Л.Н. Толстой, М.Е. Салтыков-Щедрин и др.
Наверное, самым хрестоматийным святочным произведением является повесть Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством» – одна из самых веселых повестей цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Смеховая народная культура бьет в ней ключом, мы слышим отголоски языческих народных праздников, чувствуем атмосферу неудержимого веселья, рожденного полнотой жизни, и при этом все здесь пронизано духом православия. Повесть начинается с имени Христа («Месяц величаво поднялся на небо посветить добрым людям и всему миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа») и кончается описанием сельской церкви, которую расписал искусный Вакула.
В начале повести нарождается ясный месяц, возвещающий о приближении праздника Рождества Христова, и тщетно пытаются темные силы украсть и спрятать его от людей. Свет оказывается сильнее Тьмы. В конце произведения Гоголь рисует новую хату, перед которой стоит молодая красивая женщина «с дитятей на руках», как символ вечного обновления жизни, и женщина эта – Оксана, жена кузнеца Вакулы – «самого нáбожнейшего из всего села человека».
И на протяжении всей повести посрамляются гордыня, жадность, чревоугодие, зависть. Вознаграждается же трудолюбие, вера, верность. Все это делает «Ночь перед Рождеством» чудесным рождественским подарком любому читателю.
Рождество и дети, детская непосредственность восприятия праздника, детская вера в чудо, милосердие и сочувствие к ней – вот лейтмотив рождественской прозы в мировой литературе.
В рождественском контексте ребенок соотносится с образом Бога Младенца. «Ведь так отрадно порой снова стать хоть на время детьми! А особенно хорошо это на святках, когда мы празднуем рождение Божественного младенца», – восклицал Диккенс.
Только детство далеко не у всех детей светлое и радостное, многие обитают в беспросветной нужде, но от этого вера в рождественское чудо только усиливается во стократ, и оно не подводит, оно обязательно свершается.
Вот зло перерождается в добро, как случилось, например, в «Рождественской песне в прозе» с «холодным и твердым как кремень» Скруджем, который стал «щедрым человеком» для многих нуждающихся. Видения, ночные полеты над спящим городом, возвращение в прошлое, перенесение в будущее, размышления над поросшей травой каменной надгробной плитой словно открывают перед Скруджем иное зрение на окружающий мир. Показав перерождение Скруджа, Диккенс пытался доказать, что человек способен переделать мир, переделав при этом самого себя. Писатель в своем рождественском рассказе воплотил свою мечту о «наибольшем счастье для наибольшего количества людей».
«Даже веками раскаяния нельзя возместить упущенную на земле возможность сотворить доброе дело» – согласитесь, насколько эта мысль Ч.Диккенса переплетается с мыслью Федора Михайловича Достоевского о том, что слезинка одного замученного ребенка не стоит высшей гармонии. Именно об этом святочный рассказ Достоевского «Мальчик у Христа на елке». Да как же не быть этой слезинке, когда маленького голодного замерзшего мальчика, у которого только что накануне Рождества умерла мама, и его, оказавшегося выброшенным на улицу, толпа напугала до смерти, дама вытолкнула за дверь, а «блюститель порядка» просто отвернулся, чтобы не видеть страдающего ребенка.
И в «Мальчике у Христа на елке» и в «Рождественской песне в прозе» повествование ведется по принципу контраста: великолепные елки, горы сластей и маленький оборвыш, замерзающий на улице у Достоевского; разубранные витрины и маленький больной Тим, обреченный на смерть у Диккенса.
Но финал рассказа Достоевского «Мальчик у Христа на елке» совсем не похож на благополучную концовку английского классика: «А внизу наутро дворники нашли маленький трупик забежавшего и замерзшего за дровами мальчика».
Но где же чудо? – спросите вы. А чудо было…
В предсмертном видении бедному несчастному ребенку представляется, что его приводит на райскую елку Христос; там он встречает свою маму, знакомится с другими мальчиками и девочками и ему так хорошо!
И Диккенс и Достоевский считали, что человек не имеет права замыкаться в себе, жить только для себя, не имеет права проходить мимо несчастий, царящих в мире, он ответственен не только за свои собственные поступки, но и за всякое зло, совершающееся в мире.
И Диккенс и Достоевский обладали самым ценным человеческим даром – даром сострадания, любви к людям, к детям. Великие гуманисты не хотели, не могли верить в то, что зло было нормальным состоянием людей, стремились заронить искру любви в сердце каждого человека. Именно об этом высокогуманистические рождественские рассказы «Мальчик у Христа на елке» Ф.М. Достоевского и «Рождественская песнь в прозе» Ч. Диккенса.
Но все же, если говорить о массовой святочной прозе XIX века, то из года в год она повторяла набор давно разработанных тем. Немецкий писатель Карл Грюнберг, перебрав немало изданий, в заметках «Кое-что о святочном рассказе» указал на однообразие святочных сюжетов. Все они завершаются счастливым концом («как-никак сочельник») и «в финале какой-нибудь благотворитель достает толстенный бумажник. Все растроганы, все поют песню в честь сил небесных!»
В 1888 г. Николай Семенович Лесков замечал в письме критику Суворину: «Форма рождественского рассказа сильно поизносилась…»
Но собственным святочным творчеством Лесков доказал жизненность жанра, выявив его нераскрытые возможности, способность к саморазвитию. Именно Лескову во многом принадлежит заслуга возрождения святочного жанра в русской литературе.
Лесков с полным основанием мог гордиться своим рождественским рассказом, который выделился не только на фоне «массовой» святочной беллетристики России, но и получил признание в Европе с ее развитой рождественской литературной традицией: «Слышал ли ты или нет, – спрашивал Лесков своего брата в письме от декабря 1890 года, – что немцы, у которых мы до сих пор щепились рождественскою литературою, – понуждались и в нас. Знаменитое берлинское «Echo» вышло рождественским номером с моим рождественским рассказом «Неразменный рубль»…
Мы заставляем помаленьку Европу узнавать умственную Россию и считаться с ее творческими силами… Сколько это было надо уступки со стороны немца, чтобы при их отношении к рождественскому номеру издания… дать иностранца, да еще русского!.. Право это даже торжество нации!»
Художественный эффект многих святочных рассказов Лескова, построенных как детские воспоминания, определяется образом рассказчика-ребенка. Своеобразие таких произведений, как «Неразменный рубль», «Зверь», «Привидение в инженерном замке», «Пугало» и других, заключается в том, что события здесь преломляются через призму детского сознания, – художественный прием, который многократно усиливает глубинный «взрослый» смысл повествования.
Лесков был твердо убежден, что «Бог есть начало добра». Только этот путь открывает дорогу к спасению и преображению, воскрешению «мертвых душ».
И здесь мне хочется несколько подробно остановиться на рассказе Лескова «Зверь», как одном из самых ярких и показательных в рамках рассматриваемой темы.
В рождественском рассказе Лескова «Зверь» происходит такое психологическое преображение, что многие считают его невероятным, выдуманным, подогнанным под «святочное задание». Однако на реальную возможность воплощения главной темы рассказа – обретения человеком-зверем истинно человеческого лица – указывает уже эпиграф, взятый из авторитетного духовного источника – жития преподобного Серафима Саровского: «И звери внимаху святое слово»
Повествование рассказа «Зверь» ведется от лица взрослого человека, вспоминающего историю из своего детства – Рождество, во время которого он находился в имении своего дяди, жестокого старика, наводившего на окружающих страх. В рассказе Лесков отражает двойную природу Рождества: христианскую божественную суть праздника – рождение младенца Иисуса Христа с обязательным рождественским богослужением, и Рождество как обрядовые народные действия – колядки, ряженье, забавы, потехи с медведем. Центральным событием рассказа становится «послеобеденное развлечение для гостей» – травля медведя.
Лесков пишет, что стояли такие холода, что «в хлевах замерзали ночами овцы, а воробьи и галки падали на мерзлую землю окоченелые». Автор противопоставляет мертвенный холод зимней ночи таинству жизни – приходу в мир спасителя рода человеческого. В таком противоборстве жизни и смерти, тьмы и света острее ощущается радость бытия, прочувствованная и переданная рассказчиком. Именно в это противоречивое и удивительное время происходит в рассказе преображение души человека.
В начале рассказа дядя показан грубым, жестоким, немилосердным. Но он гордится этими качествами и считает их «выражением мужественной силы и непреклонной твердости духа». Раскрывая образ этого персонажа Лесков передает темные стороны его души уже через описание его усадьбы: «некрасивое и даже уродливое двухэтажное здание с круглым куполом и с башней, о которой рассказывали страшные ужасы».
Второй центральный герой – медведь – исполняет роль шута, призванного повеселить «дядюшку»: ученый медведь выделывает фокусы, ходит на задних лапах, помогает мужикам таскать мешки, носит шляпу с пером. Но его «звериной душе» присуща тонкая организация: он способен на дружбу (крепостной Ферапонт – его друг), ему свойственен ум, он обладает интуицией (предвидит неприятные для него события).
Образы главных героев противопоставлены по принципу зеркальности, зверь и человек как будто поменялись ролями: человека все боятся как дикого зверя и никто не любит, а за зверя, как за человека, молятся даже дети, и у читателя он вызывает симпатию и сочувствие.
События во время травли зверя складываются таким образом, что медведю удается спастись, убежать в лес: во время выстрела Ферапонт промахивается, не попадает в медведя, а, точнее, рука Ферапонта не поднимается убить своего друга, хотя он прекрасно знает, что за упущенного зверя будет жестоко наказан барином.
Рассказ подходит к концу и вот тут-то происходит чудо – духовное перерождение дяди рассказчика. Когда священник во время рождественской проповеди говорит о даре – нашем сердце, исправленном по учению Христа, душа дяди преображается, очищается, впервые на его глазах появляются слезы. В несколько мгновений этот человек проходит три этапа духовного очищения. Первый этап: встреча с Богом, который материализуется через слова священника о «даре». Второй-встреча с самим собой – причиняет старику наибольшее страдание. Он осознает свою греховность и раскаивается. Последним этапом становится встреча с ближним: суровый хозяин прощает своего раба Ферапонта и дает ему вольную.
Акценты, расставленные Лесковым в начале рассказа, смещаются. Зверь истинный, т.е. дядя, становится человеком с большой буквы и вызывает теперь у читателя не презрение, а жалость, сочувствие и даже восхищение.
Ферапонт тоже преображается: как человек, представ перед Богом, возвышается от раба до сына Божия, так и Ферапонт возвышается от раба хозяина до его друга. Ферапонт отказывается, получив вольную, покидать своего хозяина и остается с ним как помощник и друг.
«Зверь» – один из немногих «идиллических», но в то же время показательных святочных рассказов Лескова. Рождественская развязка традиционна и убедительно трогательна. Писатель апеллирует к рождественским главам Евангелия, на сцену вступает Высший Промысел в виде «чуда, спасения, дара». В таком контексте углубляется смысл эпиграфа рассказа: «И звери внимаху святое слово» – речь идет именно об ожесточенном человеке, для которого не исключена возможность спасения. «Молитесь рожденному Христу» – призывает сельский священник. И Христос становится «укротителем зверя». Благодатные покаянные слезы, ниспосланные «человеку-зверю», – это главное чудо «святочного преображения»: «Происходило удивительное: он плакал!» Эти «рождественские слезы», – из сокровенного духовного источника – очищающие, восстанавливающие природу падшего человека.
В финале рассказа свершается рождественская смена святочных противопоставлений: плач сменяется весельем и смехом, страх – радостным ликованием: «здесь совершилась слава вышнему Богу и заблагоухал мир во имя Христова, на месте сурового страха… Зажглись веселые костры, и было веселье во всех, и шутя говорили друг другу: – У нас ноне так сталось, что и зверь пошел во святой тишине Христа славить». Здесь ясно различим ангельский гимн из Евангелия от Луки во славу Рождества: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение!» (Лк.2,14).
Характерными особенностями святочных произведений Лескова является доверительность зачина повествования, когда автор выступает как рассказчик в теплом кругу друзей или семьи, удивительного случая из жизни.
Прообразом темы семьи выступает тема евангельского Святого Семейства. Это обусловило комплекс наиболее повторяющихся, устойчивых мотивов в святочных рассказах Лескова – любовное единение близких людей, семейный уют, домашний очаг. В одной из своих статей Лесков вскользь обронил: «Все это было так тепло, радостно, семейно», – и для писателя эти понятия одного смыслового ряда.
Ситуация тесного общения (иногда вынужденного, невольного, «тесного» в прямом смысле) представлена в «Путешествии с нигилистом», «Отборном зерне», «Запечатленном ангеле».
В «Запечатленном ангеле» читаем: «Дело было в святках, накануне Васильева вечера…жесточайшая поземная пурга…загнала множество людей в одинокий постоялый двор… Тут очутились в одной куче дворяне, купцы и крестьяне, русские и мордва, и чуваши».
Так, с одной стороны достигается, эффект «уюта запертой рождественской комнатки», воспетой еще Диккенсом, а с другой – что не менее важно – Лесков получает уникальную возможность собрать воедино как бы всю Русь, все сословия и нации, соединив людей в не формально-казенном, а человеческом общении, как сказано в тексте: «Соблюдать чины и ранги на таком ночлеге было невозможно».
Это соответствует и демократической идее равенства, заложенной в Рождестве, в котором как бы сравнивались, делались соизмеримыми земное и небесное, человеческое и божественное.
Несколько в другом ключе написан святочный рассказ «Привидение в Инженерном замке».
Название отсылает нас к традиции рождественского повествования в западной литературе с непременным включением в действие потусторонних сил, духов и т.п. Однако все эти «готические ужасы» – только игровой прием, за которым скрывается оригинальный, нетрадиционный сюжетный ход. Необычность его в том, что «Привидение в Инженерном замке» – это «рассказ с привидениями без привидений, но читатель не догадывается об этом до самой последней страницы, пока ужасающее привидение не обретает плоть и кровь настолько мастерски, интригующе рассказывает Лесков свою захватывающую историю.
Лесков ведет с героями и читателем своеобразную игру, пересказывая «таинственные явления, приписываемые духам и привидениям «Павловского дворца и в то же время скрываясь за неопределенно – личным «говорили»: «говорили что-то такое страшное и вдобавок еще сбывающееся». Таким образом, автор предоставляет читателям полную свободу, оставляет их один на один с приведением: «хотите – верьте, хотите – нет». Как удачно замечал критик Лев Аннинский о художественном мире Лескова: «И страшно и весело, и отчаянно, и жутко в этом мире».
«Привидение в Инженерном замке» блестяще демонстрирует, как в реальности может слагаться легенда, миф.
«Игра в покойника», которую устраивают кадеты, ежегодно изображая похороны директора училища, в день его именин, не просто святочная забава. Есть в этом полуязыческом детстве что-то кощунственно-жуткое и жестокое. Кадеты как бы, в самом деле, напророчили смерть нелюбимому начальнику и понесли за это наказание. Кадет, дежуривший у гроба начальника училища, испытывает жуткий страх, когда неожиданно в сумерках, в полутьме ещё не освещённого зала он видит «приведение» –«изможденную фигуру во всем белом» За привидение он принимает вдруг появившуюся больную, изможденную, полуобезумевшую от горя растрепанную седую вдову начальника училища, едва нашедшую силы прийти проститься с мужем.
«Мораль» и «урок» здесь ясны и ненавязчивы. Кадеты сделали выводы самостоятельно, подталкиваемые самой жизнью. Навсегда благополучно исчезнет все жуткое и сверхъестественное.
«Мы всегда помнили нашу непростительную шалость и благословляющую руку последнего привидения Инженерного замка, которое оно имело власть простить нас по святому праву любви. С этих же пор прекратились в корпусе и страхи от привидений. То, которое мы видели, было последнее».
Канадский исследователь лесковского творчества Кеннет Лантц не без основания считает «Привидение в Инженерном замке» одним из лучших святочных рассказов вообще в мировой литературе, даже «образцом жанра», хотя «святочный антураж» здесь почти не представлен.
В 20 веке в русской литературе появился целый ряд замечательных святочных произведений. Одним из них является рассказ Александра Ивановича Куприна «Тапёр», в 1901 г. Это рассказ – быль. В примечании автор отмечает, что фабула рассказа «Тапер» основана на действительном факте, сообщенном ему еще в 1885 г. в Москве знакомыми семьи Рудневых, о которых идет речь в рассказе. Фамилии и имена героев вымышлены, кроме одной – знаменитого русского пианиста и композитора Антона Григорьевича Рубинштейна. Не он главное действующее лицо рассказа, а маленький, бледный, в подержанном мундирчике четырнадцатилетний Юра Азагаров с тонкими одухотворенными чертами лица. Именно его в последний момент, т. к. все оркестры уже были разобраны по объявлению в газете, пригласили в качестве тапера на встречу Рождества в хлебосольное шумное московское семейство Рудневых. Внешний вид мальчика не вызывал особого оптимизма у присутствовавших на празднике: сможет ли такой маленький худенький мальчик весь вечер играть для собравшейся публики польки, вальсы, кадрили. Старшая дочь Рудневых Лидия высокомерно высказала сомнение в том, что мальчик вообще может что-либо толковое играть. Но, когда Юра Азагаров заиграл «Венскую рапсодию» – одно из самых трудных для исполнения музыкальных произведений, требующее высокого мастерства – все поняли, что перед ними маленький музыкальный гений.
Только гений этот из бедной семьи, которая никогда не сможет накопить денег на музыкальное обучение мальчика. Да и пиджачок подростка, из которого он уже явно вырос, выдает в нем реалиста – учащегося реальной школы или училища, так что будущее Юры никак уж не будет связано с музыкой.
Но в рождественскую ночь чудеса случаются не только в сказках. На счастье Юры Азагарова к Рудневым на встречу Рождества был приглашен сам Антон Григорьевич Рубинштейн, который очень внимательно слушал исполнение мальчика. Музыкант был настолько покорен виртуозной игрой подростка, что помог ему поступить в Московскую консерваторию и получить музыкальное образование. А маленький гений стал впоследствии известным всей России талантливым композитором. Кто был этот талантливый мальчик? Куприн не назвал его имени. В конечном счете, не так уж это и важно. Главное рассказ Куприна «Тапер» заставляет нас о многом задуматься: о бедности и богатстве, о добре и милосердии, об отзывчивости и высокомерии, о неожиданных поворотах судьбы, о таланте, который порой требует поддержки и внимания, иначе погибнет.
Тема Рождества раскрывается и в таком удивительно поэтичном, наполненном духовным светом произведении, как «Лето Господне» И.С. Шмелева. Созданное в Париже более 60 лет назад, оно было прочитано на родине писателя лишь спустя 40 лет: произведение Шмелева долгие годы было в России запрещено.
Разочаровавшись в Октябрьской революции, потеряв в застенках НКВД горячо любимого сына, Шмелев покидает родную Москву, Россию. Сначала – Берлин, потом окончательно осел в Париже, где он создал ряд чудесных произведений, в том числе, словно сотканное из воздуха и света «Лето Господне».
Россия навсегда оставалась в душе и сердце писателя, и поэтому неудивительно, что основа произведения – впечатления детства и отражение мира детской души. Дом, отец, народ, Россия – всё это дано через детское восприятие. Книга интересна и юному читателю, ищущему в детстве всё самое лучшее и светлое.
Начиная главу «Рождество», Шмелев обращается к юному зарубежному читателю, которому были неведомы традиционные русские праздники. Но ведь и современный читатель, сегодня живущий в России, тоже не знает, как праздновали Благовещение, Пасху, Святки, Крещение, Масленицу. Но писатель очень надеется на подсказку сердца. Вот первые строки из главы «Святки»:
«Рождество… Чудится в этом слове крепкий, морозный воздух, льдистая чистота и снежность. Самое слово это видится мне голубоватым. Даже в церковной песне –
Христос рождается – славите!
Христос с небес – срящите! –
слышится хруст морозный.
Синеватый рассвет белеет. Снежное кружево деревьев легко, как воздух. Плавает гул церковный, и в этом морозном гуле шаром всплывает солнце. Пламенное оно, густое, больше обыкновенного: солнце на Рождество выплывает огнем за садом. Сад – в глубоком снегу, светлеет, голубеет. Вот побежало по верхушкам; иней зарозовел; розово зачернелись галочки, проснулись; брызнуло розовой пылью, березы позолотились и огненно-золотые пятна пали на белый снег. Вот оно, утро Праздника – Рождество.
В детстве таким явилось – и осталось…»
Пусть станет чистым все и новым,
И будет на душе светло,
Недаром Рождество Христово
На землю грешную пришло.
И в этой жизни грустно-зыбкой
Хотим мы снова лучше стать:
Врагов одаривать улыбкой
И милость бедным подавать.
Смиренным быть и Бога славить
За неземную благодать
И слабому плечо подставить,
И хворому надежду дать.
Мы братья все, и мы похожи,
Как два развернутых крыла.
Храни нас от гордыни, Боже,
От равнодушия и зла.
Главный библиотекарь
ЦГБ им. В.И. Ленина
Лисина Е.В.
Список литературы
Кирякова Л.В. «Мальчик у Христа на елке» Ф.М. Достоевского и «Рождественская песнь в прозе» Ч. Диккенса // Литература в школе. – 2003. –№ 5. – С. 37.
Копытцева Н.М. Святочный рассказ Ф.М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке» // Литература в школе. – 2003. – № 5. – С. 35–36.
Кретова А. Дядя Скрудж и дядя Страх в «Рождественской песни в прозе» Ч. Диккенса и в святочном рассказе Лескова «Зверь» // Литература. – 2001. – № 1 (янв.). – С. 2–4.
Кретова А. Ночь под Рождество с Лесковым // Литература. – 1996. – № 2. – С. 8–9.
Морозов Н.Г. Традиции святоотеческой духовности в повести И.С. Шмелева «Лето Господне».
Осанова Н.Н. Урок внеклассного чтения по рассказу А.И. Куприна «Тапер» // Литература в школе. – 2001. – № 1. – С. 76–79.
